Через реки, горы и долины
2020-...
Асунсьон-Монтевидео
Асунсьон-Монтевидео
В книге содержатся сцены насилия и натуралистичные описания жестокости, направленной на детей. На взрослых, конечно, тоже, но в основном на детей. Также в книге присутствуют описания актов некрофилии и каннибализма. Автор рекомендует воздержаться от прочтения, если вы несовершеннолетний или впечатлительный взрослый человек.
Мой дом — это кладбище,
Мертвецы в гробах — мои товарищи,
А друзья мои — темнота и мрак,
И никто из них вам, живым, не враг.
Владимир Муханкин
Мертвецы в гробах — мои товарищи,
А друзья мои — темнота и мрак,
И никто из них вам, живым, не враг.
Владимир Муханкин
Глава 1
Танатофилия
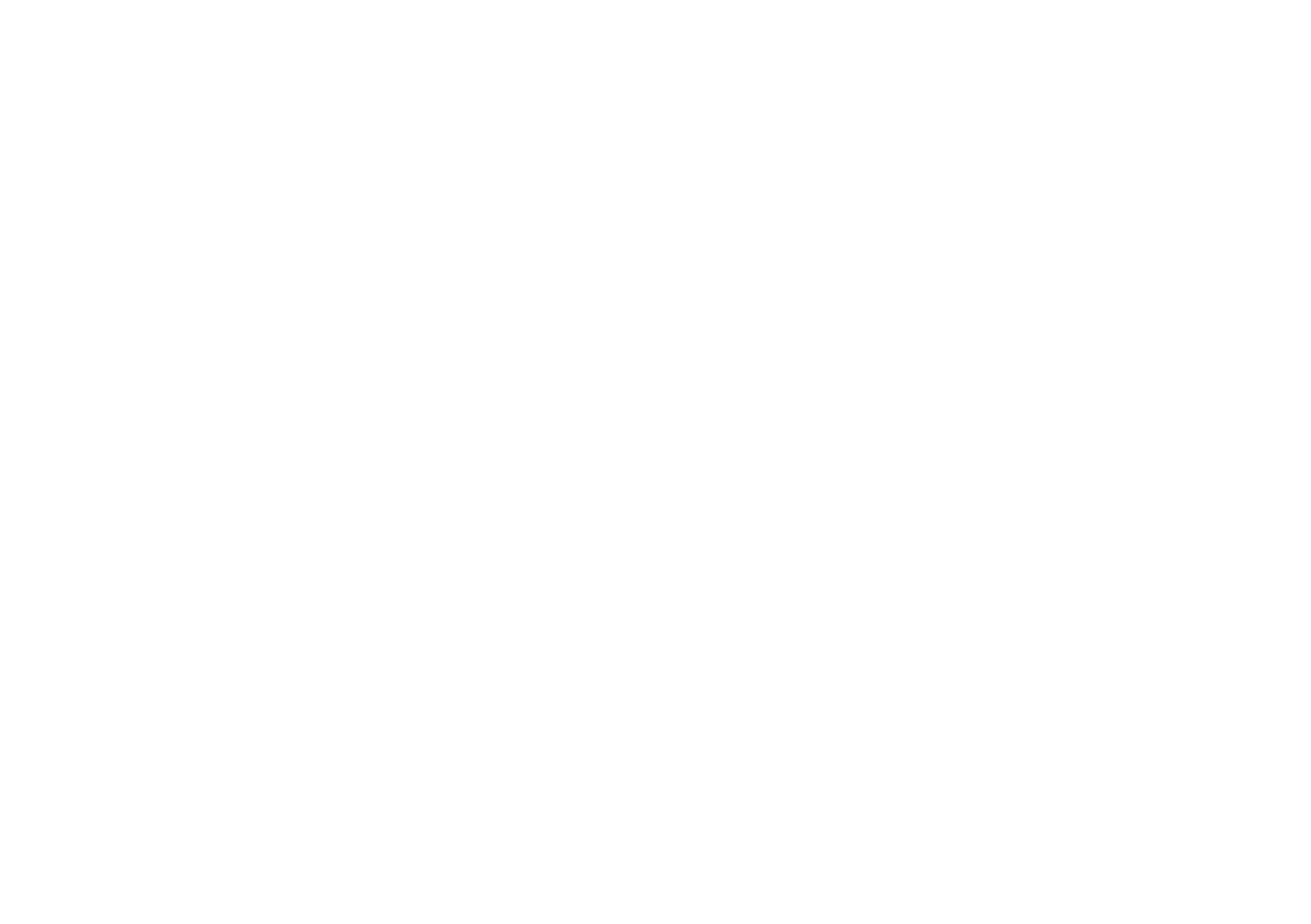
2020 год, март
Над Ленинской областью сгущалась ночная хмарь. Стремительно чернела безлюдная лесополоса, разделяющая три областных города: некогда развивающийся, но теперь стагнирующий Ленинск, Павлозаводск, окруженный рентабельными заводами, и Красные Шахты – скромный городок, который обзавелся инфраструктурой из-за наличия двух исправительных колоний.
Промышленно-угольный регион, живущий за счет Ленбасса – Ленинского бассейна, располагался в глубинах Сибири, и плотный снежный покров с каждым днем всё сильнее подтаивал в лучах теплеющего мартовского солнца, покрываясь шершавой ледяной коркой. Оба угольных разреза располагались к югу от Павлозаводска, герб которого был весьма красноречивым: схематичные волны реки Ертыс и такая же схематичная белая чайка на фоне шестеренки. Вокруг разрезов рельефными наростами возвышались терриконы, а угольная пыль черными спорами оседала на подоконниках жилых домов, находящихся на южной окраине. Когда с юга дул особенно сильный ветер, темная пыль ложилась на деревья небольшого парка, в центре которого поглощал солнечный свет памятник из черного гранита – улыбающийся шахтер в мятой робе, протягивающий пустоте обломок угольной породы.
Восточная часть Павлозаводска ничем примечательным похвастать не могла. Там спокойно и неторопливо доживал частный сектор, за которым начинался болотистый лесной массив, пронизываемый в теплое время года звонкими трелями певчих птиц. Извилистой змеей пересекала лес асфальтированная трасса, ведущая к Красным Шахтам, а в непролазных дебрях сонливо гнили от сырости заброшенные дачи, до которых редко доходили живые люди. Север города представлял собой лоскутное одеяло промзон, на горизонте которого из бездонных градирен медленно вываливался дым металлургического комбината, консервной фабрики и вереницы заводов химической промышленности. Тугие комья тускло-серого дыма рассеивались в воздухе, повисая над жилыми кварталами прозрачной вуалью смога.
Западную часть Павлозаводска, где начиналась ухоженная набережная, занимали государственные учреждения и арендованные офисы. Шагая вниз по течению, сложно было не заметить, как набережная становится всё более непрезентабельной, а серовато-желтые пляжи приобретают крапчатый мусорный окрас: бутылочно-зеленые блики, белые пятна бумажных стаканчиков и пестрые комки сигаретных пачек. Строгий бетон набережной заканчивался там, где от широкого русла Ертыса отделялся мелеющий свинцово-сизый приток, река Смородина. Там же начинался Смородинский микрорайон - скопище панельных домов, постоянно обдуваемых ветром. Свистя над далеким песчаным карьером, непогода приносила с собой бледно-желтый песок, вихри которого спиралями закручивались между серыми девятиэтажками, моргом и психиатрической больницей. Старый корпус психбольницы построили еще до революции, когда город был совсем небольшим и носил купеческое наименование Коряков.
Бурое полотно дикого пляжа, который сейчас скрывался под слякотными сугробами и холодной песчаной грязью, пологим склоном спускалось к реке, где незаметно сливалось с потрескавшимся льдом. В его мутном зеркале отражалась полная луна, а над частоколом голых осин, которые в изобилии росли на другом берегу Смородины, протяжно свистел ветер. В бархатной синеве ночи остро сверкали иллюминаторы прибрежного кафе, изображающего пароход. Бледно отсвечивал гололедом пешеходный мост. Чуть поодаль от моста, на сыром берегу Смородины располагался осколок частного сектора. Из труб вырывался печной дым, скользящий над железом и шифером, в заснеженных огородах чернели остовы деревьев, которые отбрасывали на синеватые сугробы длинные тени, а из будок вырывалось горячее дыхание сторожевых собак.
В третьем доме по улице Каляева проживала Алина Емельяновна Масодова – коренастая женщина сорока двух лет, учительница музыки и одинокая вдова. Алина Емельяновна держала старого пса по кличке Персик, в скромных масштабах разводила кроликов и любила ухаживать за цветами. Персик, дворняга бледно-рыжего окраса с длинным хвостом и висячими ушами, спал в будке, не желая высовывать на улицу даже нос, и хрипло сопел. Толстые кролики, не менее толстые крольчихи и их пушистый приплод были защищены от мороза утепленными стенами сарая.
В теплое время года участок Алины Емельяновны утопал в цветах. Лучи полуденного солнца обрушивались на аккуратные клумбы, в которых горели тигровые лилии, бархатцы и пионы, астры и розы… Деревянное крыльцо и одну сторону дома тесно обступали золотисто-желтые подсолнухи в человеческий рост и горшки с фиолетовыми ирисами. Стены из белого кирпича, вдоль которых росли цветы, придавали лепесткам особенную яркость, а дальний угол дома скрывался в шелестящей кукурузе. Однако зимний холод всякий раз гасил цветущее великолепие, а огород покрывался толстым слоем колючего снега. Снег лежал и сейчас. Сквозь стеклянные окна проникал на утепленную веранду лунный свет, выхватывая из темноты керамические горшки с геранью.
Среди бесформенных ноздреватых сугробов выделялись геометрические силуэты гаража, недостроенной теплицы и длинного сарая, где хранились запасы дров и дешевого угля. За гаражом тянулся к мелким звездам пока еще мертвый каркас осины, а на деревянных перекладинах теплицы колыхались полупрозрачные лохмотья зеленой пленки. Летом теплицу оплетали вьюнок и хмель, осенью за ней вспыхивали огненными ягодами облепиха и клюква. Но сейчас ничего этого не было, была лишь призрачная дымка ушедших недель.
Подходил к концу Международный женский день. В сернисто-желтом свете торшера спальня казалась размытой, а задернутые шторы с васильками не пропускали внутрь лунное сияние и ночную темноту. Откинувшись назад и запрокинув голову, в кресле сидела с закрытыми глазами Алина Емельяновна. Руки спокойно лежали на деревянных подлокотниках, однако кончики пальцев нервно подергивались. Длинные ногти сухо поблескивали жемчужно-серым лаком. Свернувшись в пушистый клубок, спала возле кресла полосатая кошка Мурка, которая по человеческим меркам была старше своей хозяйки.
Вытянутое лицо Алины Емельяновны, на котором выделялись широкие скулы и длинный нос, покрывала невесомая пленка возрастных морщин, приобретающая в полумраке дополнительную глубину. Распущенные вьющиеся волосы темными потеками сползали на мягкую обивку кресла и едва касались плеч. Сегодня на лице Алины Емельяновны совсем не было косметики, от волос не пахло парфюмом. Она не шевелилась, продолжала сидеть с закрытыми глазами и размеренно дышала. Весь её вид говорил о том, что она собралась на улицу – из-под штанин свободных брюк выглядывали вязаные носки, а под распахнутым плащом из синей болоньи сминалась складками темная рубашка.
Вокруг Алины Емельяновны подрагивало в тусклом освещении её многолетнее убежище. На двуспальной кровати с деревянной спинкой гладко, без единого излома лежало полосатое покрывало. Железный сейф, где хранилось охотничье ружье, был накрыт вязаной салфеткой, а поверх неё стояли в ряд горшочки с кактусами. Возле шкафа располагалась ножная швейная машинка. Опирался стол с машинкой на резные металлические ножки, крашенные черным, а между ними располагался механизм - тяжелая решетчатая педаль, соединенная с большим колесом, всё черное и металлическое. Электронные часы на швейном столе, которые не вписывались в устаревший интерьер, крупно показывали время и дату – 22:00, 8 марта.
Алина Емельяновна открыла глаза и выпрямила спину. Тихо скрипнули пружины кресла. Немигающий взгляд слегка выпуклых серо-голубых глаз проскользнул мимо часов и увяз в углу, где стояла кровать. Даже в самые солнечные дни этот угол оставался погруженным в темноту. На стене с бледно-розовыми обоями висела тяжелая рамка для фотографий, а за её стеклом виднелся носовой платок с фиолетовой кромкой. На белой ткани, украшенной фабричными оттисками анютиных глазок, виднелось бледно-бурое пятно засохшей крови, которая впиталась в жесткий хлопок не пять и даже не семь лет назад.
Алина Емельяновна встала на ноги, уверенно прошла через зал в кухню и потянула на себя тяжелую дверь. В темноте веранды неживыми пятнами проступили медно-красные и грязно-розовые соцветия герани. Алина Емельяновна замерла на пороге и нахмурилась.
С самого детства у неё было малоподвижное лицо. Улыбалась она нечасто, а если тонкие губы растягивались в улыбке, то выражение лица оставалось прежним. Она даже шутила с серьезным видом, будто не совсем понимала, как обращаться с мимикой. Росла Алина с родителями, которые жили в двухкомнатной квартире, полученной от государства. Отец был директором краеведческого музея, мать преподавала русский язык, а вместе они убежденно верили в наступающий коммунизм. В первый класс нелюдимая Алина пошла при генсеке Черненко. Уже через год Черненко преставился, напоследок отпечатавшись в советской истории телетрансляцией похорон. По кремлевской брусчатке медленно продвигался бронетранспортер, волоча за собой лафет с кроваво-красным гробом. За траурным кортежем стройными рядами следовали высокопоставленные лица с пышными венками, государственными наградами, которые Черненко получил при жизни, и огромными портретами почившего генсека. С багрово-черного зиккурата, где покоился в стеклянном саркофаге мумифицированный Ленин, произносили прощальные речи партийцы высшего эшелона. Отыграл стройной медью похоронный марш Шопена, прозвучал гимн СССР, а в финале под другой марш, уже военный и воодушевляющий, площадь пересекли колонны офицеров.
Сочтя восьмилетнюю Алину достаточно взрослой, родители решили, что она должна смотреть трансляцию похорон вместе с ними. Ни скучно, ни противно Алине не было, даже наоборот: она представляла, что находится на Красной площади среди скорбящей толпы, а когда в воображении особенно ярко вырисовывался гроб с умершим стариком внутри, у неё перехватывало дыхание.
Новым генеральным секретарем стал Михаил Горбачев, через год взорвалась чернобыльская АЭС и официально началась перестройка. Где-то далеко шла и никак не заканчивалась афганская война, а в коллективном сознании до сих пор маячила угроза ядерного удара со стороны Запада. Супруги Зиверс воспитывали Алину в строгости и заставляли ходить в музыкальную школу по классу фортепиано. Когда Алина вступила в подростковый возраст, на неё наложили новые ограничения, превентивно запретив краситься, носить откровенную одежду и слушать западную музыку. По вечерам Алина играла на пианино и дожидалась окончания школы, чтобы съехать от родителей в какое угодно общежитие. Они же хотели отдать Алину в консерваторию и воспитать из неё работницу культуры, но после девяносто первого года их планам уже не суждено было сбыться. Развал Советского Союза супруги Зиверс восприняли очень тяжело и в моральном плане резко сдали. Краеведческий музей перестал быть нужным, а рентабельным так и не стал. Отцу пришлось уйти в сторожа капиталистической собственности. У матери с работой тоже не заладилось, и она начала с переменным успехом торговать в рыночной палатке.
И к бедам родителей, и к развалу СССР молодая Алина отнеслась равнодушно. У неё были свои планы на жизнь. После девятого класса она поступила в музучилище и переехала в общежитие. Вредные привычки обошли её стороной, однако внешне она сильно преобразилась. Когда Алина изредка навещала родителей, те с неодобрением косились на её завитую челку, яркий макияж и обтягивающее платье, но претензий не предъявляли – их радовало, что дочь хотя бы приспособилась к рыночной экономике. Новые ценности тем временем стремительно девальвировались. В год развала пользовалась популярностью песня об американском женихе и счастливой эмиграции, а спустя несколько лет такой же популярной стала песня о голоде, двух кусочках колбасы и вытекающей из них свадьбе. Дела в юной России явно не шли на лад.
Учебу в музучилище Алина совмещала с подработкой - она устроилась продавщицей в киоск. Алина отпускала покупателям алкоголь, марок которого вдруг стало слишком много, импортные сигареты и жвачку ядовитых расцветок. Железный киоск, крупица свободного рынка, был защищен решеткой, и за окошком прилавка иногда возникали юные, но откровенно бандитские физиономии, с которыми водил теплую дружбу владелец киоска. Брать с них деньги было нельзя. Страха Алина не испытывала, считая, что такие визиты вносят разнообразие в рабочую рутину. Придя однажды на смену, Алина обнаружила, что киоск сгорел. Вокруг бродили недоумевающие милиционеры. Владелец киоска с простреленной головой лежал неподалеку, приминая тяжестью мертвого тела пыльный пырей. Кровь красными потеками засыхала на щеках и затылке, темными пятнами впитывалась в сухую землю. Трещали милицейские рации. Стало ясно, что надо искать новое место работы.
Получив образование и просидев в киосках еще два года, Алина Емельяновна устроилась в школу №24, где стала учительницей музыки и получила в распоряжение начальные классы. В том же году она вышла замуж за инженера Виталия Масодова, работающего на металлургическом комбинате, который несколько лет назад приватизировали. Хаос десятилетия пошел на спад - насильственной смертью погибли те, кто воплощал его в жизнь, а наиболее хитрые выжили, сохранили накопленный капитал и легализовались.
Алине Емельяновне не нравились дети любого возраста: она считала их слишком тупыми, потому что вежливую речь они не понимали, зато прекрасно понимали грубую силу и психологическое давление. Хулиганов она недолюбливала, а к хулиганкам, по которым, как считала Алина Емельяновна, «плачет колония», она испытывала наиболее сильное отвращение. Дети с таким характером обнаруживались даже в начальных классах. На совсем маленьких нарушителей Алина Емельяновна грубо кричала, не скупясь на унизительные эпитеты, а нарушителя постарше могла даже ударить указкой. Если она не кричала, то говорила сухо, но веско. Дети, понимающие язык силы, не без причины её побаивались.
В начале нулевых у Алины Емельяновны умерла мать. Об этом сообщил отец, который позвонил ей по телефону и спросил, придет ли она на похороны. Алина Емельяновна на похороны не пришла.
Проработав в школе №24 целых девятнадцать лет, она с облегчением уволилась и перешла в вокально-хоровую секцию «Гармония», которая базировалась в бывшем Дворце пионеров. Внешне Дворец пионеров не изменился – он так и остался конгломератом песочно-серых конструктивистских блоков, дополненных масштабными витражами на советскую тематику и железным куполом обсерватории. Однако социалистическая форма обзавелась совершенно новым содержанием. Оправившись от экономических потрясений, новая власть переименовала его во Дворец школьников, оплатила косметический ремонт здания, а секции окончательно сделала платными – все без исключения.
На новом месте Алине Емельяновне нравилось, потому что работа в секции не требовала такого массива бумажной волокиты, как в школе, времени отнимала гораздо меньше, а денег приносила больше. С понедельника по субботу Алина Емельяновна аккомпанировала на пианино детям младшего школьного возраста, которые были разбиты на четыре группы. Кабинет «Гармонии» располагался на втором этаже, а широкий коридор оканчивался гранатово-красным витражом. В солнечные дни рубиновая звезда, багровое знамя и буденновец с суровым лицом наливались светом, и на мраморной крошке пола отпечатывались кумачовые пятна. Солнце неспешно закатывалось, а пятна медленно уползали в чернеющую тень, пока не растворялись в ней без следа.
К детям из секции Алина Емельяновна питала отвращение, но успешно это скрывала. К сожалению, родители стали подкованными в юридических вопросах, а детям начали уделять больше внимания, считая их чуть ли не пупом земли. В конце девяностых, когда Алина Емельяновна только начинала работать в сфере образования, на её любовь к легкому рукоприкладству смотрели сквозь пальцы. К тому же, она поступала так только с педагогически запущенными детьми. Однако времена в очередной раз изменились, и теперь детям нельзя было даже грубого слова сказать. Был еще один немаловажный фактор: будучи потребителями, родители тщательно следили за тем, как оказывают оплаченные ими услуги, и вмешивались, если их что-то не устраивало. Так что с детьми Алина Емельяновна держалась строго и немного прохладно, не выходя за рамки вежливости.
Не включая на веранде свет, Алина Емельяновна обулась в сапоги на низком каблуке и надела вязаный берет. Надежно обмотав горло шарфом, она застегнулась на все пуговицы и нащупала в кармане плаща детский калейдоскоп. Теперь можно было выходить. Алина Емельяновна сжала губы, толкнула железную дверь, и в теплое помещение ворвался морозный воздух. Утробно подвывал ветер. Под иссиня-черным небом, усеянным острой пылью звезд, мерцали крохотными искрами сизые сугробы, в которых темными пятнами вырисовывался обледенелый асфальт двора. Лунный свет очерчивал жирными тенями деревянные ступени крыльца, гараж из серых шлакоблоков и гофрированное железо высоких ворот. В будке шевельнулась войлочная занавеска. Наружу, поблескивая глазами, высунулась собачья голова.
Алина Емельяновна прошла к гаражу, отперла дверь с тяжелым замком и нашарила пальцами выключатель. Вспыхнули мертвенно-белым лампы, вырвав из темноты железные стеллажи, полку с шинами и верстак, на котором стоял раскладывающийся чемоданчик с инструментами. По черной «ладе» шестой модели бледными мазками растекся свет. Автомобиль Алина Емельяновна унаследовала от мужа, который погиб пять лет назад. Вместе с автомобилем ей перешли участок с домом, где она сейчас жила, и одноствольное охотничье ружье. Меткостью Алина Емельяновна похвастать не могла, поэтому ружье вместе с коробкой патронов хранилось в сейфе. Иногда она чистила ружье, чтобы оно не пришло в негодность.
Виталий Масодов утонул во время купания. Труп унесло течением, и выловили его только через неделю, когда от тела осталось лишь склизкое разбухшее месиво. Как шутила Алина Емельяновна, мысленно разговаривая сама с собой: «При жизни был размазня и после смерти стал размазней». Утонувший инженер Масодов любил ходить на охоту, однако в быту был мямлей, а в сексуальной жизни – совершенно инертным. У Алины Емельяновны не возникало сложностей с тем, чтобы представлять мужа покойником, лежащим в гробу, и получать удовольствие, не оповещая супруга о своих фантазиях. Перед похоронами ей выпала возможность остаться с гробом один на один и открыть его, но покойник выглядел настолько бесформенно, что ей стало противно. Алине Емельяновне нравились только молодые мужчины, которые выглядели так, будто умерли совсем недавно.
Мужа похоронили на Коряковском кладбище, которое располагалось посреди жилого района. Из окон панельных домов открывался скорбный вид на ровные ряды блеклых надгробий из пыльно-серого камня. На похоронах Алина Емельяновна присутствовала, но вела себя сдержанно. Пожалуй, даже слишком сдержанно. Родственники со стороны мужа косились на неё, ожидая плача или хотя бы тихой скорби, но так и не дождались. Алина Емельяновна лишь отстраненно глядела на лакированную крышку гроба.
Теперь муж покоился рядом с их годовалым сыном Юрием, а окружала их крашеная серебрянкой оградка. Юрий родился в двухтысячном году и не оправдал ожиданий Алины Емельяновны. Она хотела воспитать ребенка под себя. Из мальчика она планировала вырастить карьериста, чтобы он смог оплачивать её лечение и жизнь. Из девочки она планировала вырастить невротически преданную дочь, которая смогла бы жить с ней до самого конца – или смерти матери, или собственной смерти. Тут уж как повезет. Но тяжкая практика родительства вскрылась слишком рано. От ребенка тошнотворно пахло смесью пота и прокисшего молока. Алину Емельяновну раздражали недосып и нарастающая нервозность. Когда она оставалась с грудным сыном одна, то подолгу не реагировала на его надрывный плач, а в редкие моменты, когда говорила с ним, называла его «маленькой мерзостью». Продержавшись год, она решила исправить ошибку и положила Юрию на лицо подушку.
Когда приехала скорая, Алина Емельяновна убедительно изобразила истерику скорбящей матери. В процессе она даже немного охрипла. Итог оказался замечательным: произошедшее списали на синдром внезапной детской смерти. Рожать новых детей Алина Емельяновна не планировала, поэтому не беспокоилась. Она знала, что врачи начинают что-то подозревать, если груднички у матери умирают один за другим. А это явно был не её случай. Муж убивался весь следующий год. Больше детей у них не было.
Спустя три года после смерти сына у Алины Емельяновны произошел сильный перелом в сфере влечения. Хоть она и не любила сына, время от времени она садилась в черную «ладу» мужа, приезжала на кладбище и приводила в порядок могилу. Похоронная атрибутика производила на Алину Емельяновну умиротворяющий эффект. Одно из таких посещений закончилось не совсем тривиально. Припарковав машину в самом темном закутке аллеи, с которой начиналось Коряковское кладбище, Алина Емельяновна заметила приближающуюся похоронную процессию. Глухо стуча каблуками по асфальту, мужчины в черном несли на плечах открытый гроб, а за ними нестройной толпой следовали скорбящие родственники. Кто-то держал венки, увитые траурными лентами, кто-то сжимал в руках четное количество пластмассовых гвоздик, которые издалека казались красными брызгами на черной одежде. Летняя духота проникала под траурные костюмы, жесткий асфальт нагревался солнцем, которое смотрело с ярко-голубого неба бесчувственным глазом, а кладбищенские аллеи и тропы заливало желтой глазурью.
Машина Алины Емельяновны была припаркована чуть выше, поэтому ей удалось заглянуть в гроб. В аккуратных складках темно-красного атласа покоился совсем юный мужчина. Загримированная голова с крючковатым носом, очками поверх сомкнутых век и темными волосами, расчесанными на косой пробор, казалась практически живой. Черный костюм, состоящий из отутюженных брюк и пиджака, резко контрастировал с белоснежной рубашкой, воротник которой туго обхватывал шею с выступающим кадыком. Галстук рассекал грудь покойника на симметричные половины. В черных лакированных ботинках переливался бледный огонь солнца.
Неожиданно один из мужчин, которые несли гроб, сделал неудачный шаг. Гроб резко накренился вправо. Мужчины успели отреагировать и не дали ему упасть на асфальт аллеи. Мертвый юноша не вывалился, однако через бортик гроба перекинулась его левая нога. Алина Емельяновна тяжело выдохнула. Нога покачивалась, а на закругленном мыске ботинка нестерпимо играл солнечный свет. Настолько нестерпимо, что даже жег глаза. Ярко-голубое небо, блестящий на солнце лакированный ботинок и холодный юношеский труп с неестественно румяным лицом сложились в цельную картину, жгуче отпечатались в воображении Алины Емельяновны.
Торопливо уехав в самую отдаленную и наиболее безлюдную аллею кладбища, Алина Емельяновна запустила руку под пояс длинной юбки, расправила палантин, чтобы скрыть свое недвусмысленное занятие, и начала мастурбировать. Покойный юноша, чуть не выпавший из гроба, оказался настолько привлекательным, что по завершении у Алины Емельяновны еще несколько минут подрагивали ноги.
С тех пор она ездила на кладбище регулярно. Прибравшись на могиле сына, она прогуливалась среди надгробий и находила свежие кресты, плотно обставленные венками. Иногда ей везло, и на крестах обнаруживались фотографии красивых молодых мужчин. Впрочем, до мертвеца, с которым она столкнулась в тот душный летний полдень, им было далеко. Изредка удавалось увидеть похоронную процессию, но далеко не всегда скорбящие хоронили молодых. Спустя год частых поездок и методичного осмотра всех аллей Алина Емельяновна отыскала могилу юноши, к которому так прикипела. Судя по надгробью из серого мрамора, при жизни покойного звали Максим Федорович Пряников, а в общей сумме он прожил двадцать один год. О причине смерти можно было лишь догадываться. Для себя Алина Емельяновна решила, что Максим Пряников либо погиб от передозировки, либо покончил с собой. Одним краем его надгробье окуналось в шуршащие ветви сирени, которая каждый май набухала мягкими фиолетовыми гроздьями, и могилу окутывал удушающий, приторно-сладкий запах.
Живые люди в принципе не привлекали Алину Емельяновну. В детском саду она так и не смогла влиться в коллектив, потому что не понимала, как себя вести. В школе дело обстояло точно так же, хотя правила поведения в обществе стали немного понятнее. Даже в музучилище у Алины Емельяновны не появилось близких подруг, а после смерти мужа она и вовсе стала вести жизнь отшельницы. Коллеги и соседи жалели Алину Емельяновну, считая, что она до сих пор скорбит по мужу, желает снова забеременеть и тратит нереализованные материнские чувства на чужих детей. Естественно, по мужу Алина Емельяновна не скучала, а одна лишь мысль о беременности и вид новорожденных вызывали у неё отвращение. Но окружающим об этом знать не следовало.
Усевшись за руль, Алина Емельяновна вдохнула полной грудью. Весь день ей хотелось на ком-нибудь сорваться, пусть даже у неё не было для этого повода. У неё чесались руки отвесить какому-нибудь неприятному ребенку особенно тяжелый подзатыльник, чтобы тот упал лицом на обледенелый асфальт и в кровь разбил нос. Достав из бардачка голубые резиновые перчатки, которыми обычно пользуются на кухне хозяйки, Алина Емельяновна натянула их на кисти. Запястья скрылись под длинными раструбами манжет. Перчатки успели промерзнуть и теперь неприятно холодили кожу. Алина Емельяновна улыбнулась и вытащила из кармана плаща детский калейдоскоп советских времен – белый, потертый, длиной с указательный палец. Приложив калейдоскоп к правому глазу, она пристально заглянула в его зеркальное нутро и медленно повернула цилиндр по часовой стрелке. На тусклом, как беленая стена, фоне мелко задергались крохотные осколки: клубнично-красные, темно-оранжевые, медово-желтые, яблочно-зеленые… Пересыпаясь из одного отражения в другое, осколки образовывали ломаный орнамент. Напоминая то бутоны мака, то бесплотных бабочек-крапивниц, то клопов-солдатиков, узоры перетекали друг в друга, а прежняя форма рассыпалась где-то на размытой кромке обзора. Висок пронзило болью. Поморщившись, Алина Емельяновна бережно спрятала калейдоскоп.
Улица Каляева представляла собой грязную заснеженную дорогу с глубокими рытвинами колеи. Вокруг не было ни единого человека. Еще никогда Смородинский микрорайон не становился таким безлюдным. Алина Емельяновна включила музыку. Тишину разорвали торопливые переливы аккордов и звонкий девичий голос, в котором еще слышалась непосредственность детства. Юная вокалистка пела о крылатых качелях, и играть эта песня должна была весь сегодняшний вечер – пока дело, первое в жизни Алины Емельяновны дело не подойдет к концу. Издав недобрый смешок, она положила ладонь на прозрачный набалдашник рычага. Под голубой перчаткой скрылся черный паук с вздувшимся брюшком и тонкими, как спицы, лапами.
Алина Емельяновна выехала на асфальтированную дорогу. С зеркала заднего вида свисала пахучая «елочка». Под лобовым стеклом тряс головой, словно дементный старик, игрушечный далматинец. Сегодня Алина Емельяновна уже никого не могла встретить – если только ей очень этого захотелось бы.
Черная «лада» медленно двигалась в сторону пустыря. Бледно светило звездами тусклое ночное небо, из размытого городского пейзажа, измазанного бурым зернистым снегом, темными провалами глаз смотрели светофоры. Справа, скрываясь за мельтешением пленочных помех, сменяли друг друга панельные дома, окна которых тоже были черными и безжизненными, а слева шероховатым диафильмом разворачивался дикий пляж. Алина Емельяновна разглядывала пологий берег Смородины. В темноте салона горели неоново-синие искры глаз. Нечеловеческий взгляд скользил по грязному снегу, туманному льду и голым осинам. На противоположном берегу под землисто-белым лунным светом подрагивала в невесомой пелене лесополоса.
- Позабыто всё на свете, - высоким голосом выводила девочка, которая наверняка уже скончалась, - сердце замерло в груди…
Удача улыбнулась сразу, не прошло и пяти минут. Пристально всмотревшись в береговую линию, Алина Емельяновна заметила девочку лет пятнадцати. Скрестив ноги, та сидела на железной трубе, которая ржавым хребтом выступала из-под пляжного песка, смешанного со снегом, и окуналась жерлом в заледеневшую Смородину. Прямо под колесами «лады» хрустнуло ноздреватое крошево пляжа. Алина Емельяновна остановила машину, но глушить двигатель не стала. Посмотрев на дымчатый силуэт девочки синими огнями глаз, Алина Емельяновна заметила распущенные рыжие волосы, спадающие на пуховик, дымящуюся сигарету и мертвенный блеск тяжелых лакированных ботинок.
«Славно-то как, - удовлетворенно подумала она,- наверное, даже не придется переобувать».
Алина Емельяновна исподлобья глядела на девочку, которая пока находилась слишком далеко. Алина Емельяновна ждала, затаившись в утробе черной «лады», словно каракурт. Губы растягивались в плотоядной улыбке, ярко-синие глаза сверкали, как бенгальские огни. Выпрямившись во весь рост, девочка швырнула окурок на речной лед. В мутной темноте мелькнула и потухла алая искра. Девочка развернулась, шумно протопала по трубе и спрыгнула в слякотный сугроб. Она побрела наверх, к дороге – прямо в направлении Алины Емельяновны. И хотя девочка пока не замечала ни черный автомобиль, ни пронзительно-синие огни в его темном окне, Алина Емельяновна девочку прекрасно видела.
Теперь убийцу и жертву разделяли лишь несколько метров дикого пляжа. Обретали четкость щеки с анемично-розовым румянцем и мешки под глазами, наводящие на мысль о раннем алкоголизме. У Алины Емельяновны пересохло во рту. Сделав музыку громче, она выскочила из машины и обеими руками схватила жертву за шею. Синие глаза ярко вспыхнули и погасли. Очутившись перед Алиной Емельяновной, девочка сначала ощутила у себя на горле холодные пальцы, машинально дернулась, а уже потом заметила берет крупной вязки, длинные спирали темных волос и женское лицо с темными провалами глазниц. Она удивленно вскинула брови – обычно такое поведение исходило от мужчин.
Секунда промедления оказалась для девочки фатальной. Алина Емельяновна толкнула её в снег, а сама навалилась сверху. Черной ямой на лице проступил открытый для крика рот. Алина Емельяновна сдавила тонкую шею. Наружу вырвались лишь надсадный хрип и морозное облачко дыхания. Подростковое туловище дергалось и боролось за жизнь. Девочка пыталась ударить Алину Емельяновну по лицу, однако ничего не вышло. Лишь берет упал в грязь. Алина Емельяновна усилила нажим и перенесла вес тела на руки, которые сжимали разгоряченное горло. Асфиксия понемногу брала свое. Полудетское лицо багровело от удушья, а пальцы скребли по колючему снегу и холодному песку. Восприятие Алины Емельяновны помутнело, налившись торжеством таежного хищника, однако натруженные руки знали свое дело и механически выполняли задуманное.
- Только небо, только ветер, - доносился из «лады» звонкий детский голос, - только радость впереди…
Лакированные ботинки девочки били по сугробам, превращая их в снежное месиво. Попытки сопротивления плавно перешли в длительные судороги. Алина Емельяновна не ослабляла хватку, ощущая сквозь перчатки ускользающее тепло девичьего горла и слабеющую пульсацию кровотока. Широкая улыбка тонких губ достигла предела. В мутном лунном свете влажно и вещественно обнажились зубы Алины Емельяновны.
Умерла девочка далеко не сразу – душить её пришлось почти пятнадцать минут, подключив к делу пояс плаща. Когда на посеревшем лице закатились глаза, оставив снаружи болезненно-яркие полумесяцы белков, а язык вывалился из разинутого рта, как жирный слизень, Алина Емельяновна выпрямилась. Стряхнув с колен влажную грязь и подобрав берет, она оглядела свежий, обмякший, пока еще теплый труп, который лежал в весеннем снегу, угловато раскинув конечности. Алина Емельяновна шумно выдохнула и издала смешок. Глаза, которые обычно ничего не выражали, сузились в самодовольном прищуре, подчеркнув «гусиные лапки». Взгляд Алины Емельяновны наполнился сумрачной негой.
Её больше не мучила злоба прошедшей недели. Досаждающие заботы и переживания уступили место безразличию, облегчению и невесомой пустоте мыслей. После совершенного убийства навалилось чувство усталости, но это была приятная усталость. Для первого раза всё прошло очень даже неплохо. Алина Емельяновна еще раз посмотрела на задушенную девочку и испытала лишь самодовольство. Возбуждали её исключительно взрослые мертвецы мужского пола – да и то не все. Мертвые дети её совсем не интересовали. Но убивать тех, кто был обречен на женскую колонию для малолеток, это ничуть не мешало.
Немного придя в себя, Алина Емельяновна выключила музыку. Повисла шуршащая тишина. Алина Емельяновна обыскала труп. Найдя смартфон, она с размаху отбросила его в сторону облезлой осиновой рощи. При возможностях, которые теперь у неё были, большего не требовалось.
Расстелив на снегу рулон плотной полиэтиленовой пленки, Алина Емельяновна не без труда уложила на край белесого полотна труп, из которого уходило остаточное тепло. Наверняка девочку и при жизни трудно было носить на руках, а после смерти мышцы расслабились, и девочка стала ещё тяжелее. Замотав труп так, чтобы наружу не торчали ботинки и голова, Алина Емельяновна закинула получившийся кокон в багажник. Теперь нужно было вернуться домой, пока труп не окоченел. Невыполненными оставались еще две части плана: культурная и декоративная.
На обратную дорогу ушло минут семь. Пока Алина Емельяновна, хмуря брови, перетаскивала тело в дом, пленка сползла, обнажив ботинки с капельками застывшей влаги, и теперь они с глухим скрипом волочились по деревянному полу. На широких досках оставался грязный след, который вел в освещенную кухню. Летом за кухонным окном покачивались желтые цветки подсолнуха размером с человеческую голову, однако сейчас там недвижимо лежали снежные завалы.
Подобно остальным комнатам, кухня выглядела старомодно, и всё в ней напоминало о прошлом. Добротный деревянный сервант, на полках которого стояли тяжелые салатницы, тарелки с росписью и чашки в горошек, помнил Хрущева, а газовая плита относилась к перестроечному периоду. И на серванте, и на плите виднелись темные пятна - то ли запылившийся жир, то ли печная сажа, то ли всё вместе. Сглаживали неопрятное впечатление обеденный стол с клетчатой клеенкой, войлочный палас и изразцовая печь, облицованная гжелью. В пустом углу располагались кошачьи миски.
Алина Емельяновна скинула верхнюю одежду и надела серый резиновый фартук. Расширяясь книзу трапецией, он доходил ей почти до щиколоток. Уязвимыми для брызг оставались только рукава рубашки, но это не было проблемой. На днях Алина Емельяновна купила в сэконд-хенде много недорогой и удобной одежды, которую не жалко было замарать.
Промышленно-угольный регион, живущий за счет Ленбасса – Ленинского бассейна, располагался в глубинах Сибири, и плотный снежный покров с каждым днем всё сильнее подтаивал в лучах теплеющего мартовского солнца, покрываясь шершавой ледяной коркой. Оба угольных разреза располагались к югу от Павлозаводска, герб которого был весьма красноречивым: схематичные волны реки Ертыс и такая же схематичная белая чайка на фоне шестеренки. Вокруг разрезов рельефными наростами возвышались терриконы, а угольная пыль черными спорами оседала на подоконниках жилых домов, находящихся на южной окраине. Когда с юга дул особенно сильный ветер, темная пыль ложилась на деревья небольшого парка, в центре которого поглощал солнечный свет памятник из черного гранита – улыбающийся шахтер в мятой робе, протягивающий пустоте обломок угольной породы.
Восточная часть Павлозаводска ничем примечательным похвастать не могла. Там спокойно и неторопливо доживал частный сектор, за которым начинался болотистый лесной массив, пронизываемый в теплое время года звонкими трелями певчих птиц. Извилистой змеей пересекала лес асфальтированная трасса, ведущая к Красным Шахтам, а в непролазных дебрях сонливо гнили от сырости заброшенные дачи, до которых редко доходили живые люди. Север города представлял собой лоскутное одеяло промзон, на горизонте которого из бездонных градирен медленно вываливался дым металлургического комбината, консервной фабрики и вереницы заводов химической промышленности. Тугие комья тускло-серого дыма рассеивались в воздухе, повисая над жилыми кварталами прозрачной вуалью смога.
Западную часть Павлозаводска, где начиналась ухоженная набережная, занимали государственные учреждения и арендованные офисы. Шагая вниз по течению, сложно было не заметить, как набережная становится всё более непрезентабельной, а серовато-желтые пляжи приобретают крапчатый мусорный окрас: бутылочно-зеленые блики, белые пятна бумажных стаканчиков и пестрые комки сигаретных пачек. Строгий бетон набережной заканчивался там, где от широкого русла Ертыса отделялся мелеющий свинцово-сизый приток, река Смородина. Там же начинался Смородинский микрорайон - скопище панельных домов, постоянно обдуваемых ветром. Свистя над далеким песчаным карьером, непогода приносила с собой бледно-желтый песок, вихри которого спиралями закручивались между серыми девятиэтажками, моргом и психиатрической больницей. Старый корпус психбольницы построили еще до революции, когда город был совсем небольшим и носил купеческое наименование Коряков.
Бурое полотно дикого пляжа, который сейчас скрывался под слякотными сугробами и холодной песчаной грязью, пологим склоном спускалось к реке, где незаметно сливалось с потрескавшимся льдом. В его мутном зеркале отражалась полная луна, а над частоколом голых осин, которые в изобилии росли на другом берегу Смородины, протяжно свистел ветер. В бархатной синеве ночи остро сверкали иллюминаторы прибрежного кафе, изображающего пароход. Бледно отсвечивал гололедом пешеходный мост. Чуть поодаль от моста, на сыром берегу Смородины располагался осколок частного сектора. Из труб вырывался печной дым, скользящий над железом и шифером, в заснеженных огородах чернели остовы деревьев, которые отбрасывали на синеватые сугробы длинные тени, а из будок вырывалось горячее дыхание сторожевых собак.
В третьем доме по улице Каляева проживала Алина Емельяновна Масодова – коренастая женщина сорока двух лет, учительница музыки и одинокая вдова. Алина Емельяновна держала старого пса по кличке Персик, в скромных масштабах разводила кроликов и любила ухаживать за цветами. Персик, дворняга бледно-рыжего окраса с длинным хвостом и висячими ушами, спал в будке, не желая высовывать на улицу даже нос, и хрипло сопел. Толстые кролики, не менее толстые крольчихи и их пушистый приплод были защищены от мороза утепленными стенами сарая.
В теплое время года участок Алины Емельяновны утопал в цветах. Лучи полуденного солнца обрушивались на аккуратные клумбы, в которых горели тигровые лилии, бархатцы и пионы, астры и розы… Деревянное крыльцо и одну сторону дома тесно обступали золотисто-желтые подсолнухи в человеческий рост и горшки с фиолетовыми ирисами. Стены из белого кирпича, вдоль которых росли цветы, придавали лепесткам особенную яркость, а дальний угол дома скрывался в шелестящей кукурузе. Однако зимний холод всякий раз гасил цветущее великолепие, а огород покрывался толстым слоем колючего снега. Снег лежал и сейчас. Сквозь стеклянные окна проникал на утепленную веранду лунный свет, выхватывая из темноты керамические горшки с геранью.
Среди бесформенных ноздреватых сугробов выделялись геометрические силуэты гаража, недостроенной теплицы и длинного сарая, где хранились запасы дров и дешевого угля. За гаражом тянулся к мелким звездам пока еще мертвый каркас осины, а на деревянных перекладинах теплицы колыхались полупрозрачные лохмотья зеленой пленки. Летом теплицу оплетали вьюнок и хмель, осенью за ней вспыхивали огненными ягодами облепиха и клюква. Но сейчас ничего этого не было, была лишь призрачная дымка ушедших недель.
Подходил к концу Международный женский день. В сернисто-желтом свете торшера спальня казалась размытой, а задернутые шторы с васильками не пропускали внутрь лунное сияние и ночную темноту. Откинувшись назад и запрокинув голову, в кресле сидела с закрытыми глазами Алина Емельяновна. Руки спокойно лежали на деревянных подлокотниках, однако кончики пальцев нервно подергивались. Длинные ногти сухо поблескивали жемчужно-серым лаком. Свернувшись в пушистый клубок, спала возле кресла полосатая кошка Мурка, которая по человеческим меркам была старше своей хозяйки.
Вытянутое лицо Алины Емельяновны, на котором выделялись широкие скулы и длинный нос, покрывала невесомая пленка возрастных морщин, приобретающая в полумраке дополнительную глубину. Распущенные вьющиеся волосы темными потеками сползали на мягкую обивку кресла и едва касались плеч. Сегодня на лице Алины Емельяновны совсем не было косметики, от волос не пахло парфюмом. Она не шевелилась, продолжала сидеть с закрытыми глазами и размеренно дышала. Весь её вид говорил о том, что она собралась на улицу – из-под штанин свободных брюк выглядывали вязаные носки, а под распахнутым плащом из синей болоньи сминалась складками темная рубашка.
Вокруг Алины Емельяновны подрагивало в тусклом освещении её многолетнее убежище. На двуспальной кровати с деревянной спинкой гладко, без единого излома лежало полосатое покрывало. Железный сейф, где хранилось охотничье ружье, был накрыт вязаной салфеткой, а поверх неё стояли в ряд горшочки с кактусами. Возле шкафа располагалась ножная швейная машинка. Опирался стол с машинкой на резные металлические ножки, крашенные черным, а между ними располагался механизм - тяжелая решетчатая педаль, соединенная с большим колесом, всё черное и металлическое. Электронные часы на швейном столе, которые не вписывались в устаревший интерьер, крупно показывали время и дату – 22:00, 8 марта.
Алина Емельяновна открыла глаза и выпрямила спину. Тихо скрипнули пружины кресла. Немигающий взгляд слегка выпуклых серо-голубых глаз проскользнул мимо часов и увяз в углу, где стояла кровать. Даже в самые солнечные дни этот угол оставался погруженным в темноту. На стене с бледно-розовыми обоями висела тяжелая рамка для фотографий, а за её стеклом виднелся носовой платок с фиолетовой кромкой. На белой ткани, украшенной фабричными оттисками анютиных глазок, виднелось бледно-бурое пятно засохшей крови, которая впиталась в жесткий хлопок не пять и даже не семь лет назад.
Алина Емельяновна встала на ноги, уверенно прошла через зал в кухню и потянула на себя тяжелую дверь. В темноте веранды неживыми пятнами проступили медно-красные и грязно-розовые соцветия герани. Алина Емельяновна замерла на пороге и нахмурилась.
С самого детства у неё было малоподвижное лицо. Улыбалась она нечасто, а если тонкие губы растягивались в улыбке, то выражение лица оставалось прежним. Она даже шутила с серьезным видом, будто не совсем понимала, как обращаться с мимикой. Росла Алина с родителями, которые жили в двухкомнатной квартире, полученной от государства. Отец был директором краеведческого музея, мать преподавала русский язык, а вместе они убежденно верили в наступающий коммунизм. В первый класс нелюдимая Алина пошла при генсеке Черненко. Уже через год Черненко преставился, напоследок отпечатавшись в советской истории телетрансляцией похорон. По кремлевской брусчатке медленно продвигался бронетранспортер, волоча за собой лафет с кроваво-красным гробом. За траурным кортежем стройными рядами следовали высокопоставленные лица с пышными венками, государственными наградами, которые Черненко получил при жизни, и огромными портретами почившего генсека. С багрово-черного зиккурата, где покоился в стеклянном саркофаге мумифицированный Ленин, произносили прощальные речи партийцы высшего эшелона. Отыграл стройной медью похоронный марш Шопена, прозвучал гимн СССР, а в финале под другой марш, уже военный и воодушевляющий, площадь пересекли колонны офицеров.
Сочтя восьмилетнюю Алину достаточно взрослой, родители решили, что она должна смотреть трансляцию похорон вместе с ними. Ни скучно, ни противно Алине не было, даже наоборот: она представляла, что находится на Красной площади среди скорбящей толпы, а когда в воображении особенно ярко вырисовывался гроб с умершим стариком внутри, у неё перехватывало дыхание.
Новым генеральным секретарем стал Михаил Горбачев, через год взорвалась чернобыльская АЭС и официально началась перестройка. Где-то далеко шла и никак не заканчивалась афганская война, а в коллективном сознании до сих пор маячила угроза ядерного удара со стороны Запада. Супруги Зиверс воспитывали Алину в строгости и заставляли ходить в музыкальную школу по классу фортепиано. Когда Алина вступила в подростковый возраст, на неё наложили новые ограничения, превентивно запретив краситься, носить откровенную одежду и слушать западную музыку. По вечерам Алина играла на пианино и дожидалась окончания школы, чтобы съехать от родителей в какое угодно общежитие. Они же хотели отдать Алину в консерваторию и воспитать из неё работницу культуры, но после девяносто первого года их планам уже не суждено было сбыться. Развал Советского Союза супруги Зиверс восприняли очень тяжело и в моральном плане резко сдали. Краеведческий музей перестал быть нужным, а рентабельным так и не стал. Отцу пришлось уйти в сторожа капиталистической собственности. У матери с работой тоже не заладилось, и она начала с переменным успехом торговать в рыночной палатке.
И к бедам родителей, и к развалу СССР молодая Алина отнеслась равнодушно. У неё были свои планы на жизнь. После девятого класса она поступила в музучилище и переехала в общежитие. Вредные привычки обошли её стороной, однако внешне она сильно преобразилась. Когда Алина изредка навещала родителей, те с неодобрением косились на её завитую челку, яркий макияж и обтягивающее платье, но претензий не предъявляли – их радовало, что дочь хотя бы приспособилась к рыночной экономике. Новые ценности тем временем стремительно девальвировались. В год развала пользовалась популярностью песня об американском женихе и счастливой эмиграции, а спустя несколько лет такой же популярной стала песня о голоде, двух кусочках колбасы и вытекающей из них свадьбе. Дела в юной России явно не шли на лад.
Учебу в музучилище Алина совмещала с подработкой - она устроилась продавщицей в киоск. Алина отпускала покупателям алкоголь, марок которого вдруг стало слишком много, импортные сигареты и жвачку ядовитых расцветок. Железный киоск, крупица свободного рынка, был защищен решеткой, и за окошком прилавка иногда возникали юные, но откровенно бандитские физиономии, с которыми водил теплую дружбу владелец киоска. Брать с них деньги было нельзя. Страха Алина не испытывала, считая, что такие визиты вносят разнообразие в рабочую рутину. Придя однажды на смену, Алина обнаружила, что киоск сгорел. Вокруг бродили недоумевающие милиционеры. Владелец киоска с простреленной головой лежал неподалеку, приминая тяжестью мертвого тела пыльный пырей. Кровь красными потеками засыхала на щеках и затылке, темными пятнами впитывалась в сухую землю. Трещали милицейские рации. Стало ясно, что надо искать новое место работы.
Получив образование и просидев в киосках еще два года, Алина Емельяновна устроилась в школу №24, где стала учительницей музыки и получила в распоряжение начальные классы. В том же году она вышла замуж за инженера Виталия Масодова, работающего на металлургическом комбинате, который несколько лет назад приватизировали. Хаос десятилетия пошел на спад - насильственной смертью погибли те, кто воплощал его в жизнь, а наиболее хитрые выжили, сохранили накопленный капитал и легализовались.
Алине Емельяновне не нравились дети любого возраста: она считала их слишком тупыми, потому что вежливую речь они не понимали, зато прекрасно понимали грубую силу и психологическое давление. Хулиганов она недолюбливала, а к хулиганкам, по которым, как считала Алина Емельяновна, «плачет колония», она испытывала наиболее сильное отвращение. Дети с таким характером обнаруживались даже в начальных классах. На совсем маленьких нарушителей Алина Емельяновна грубо кричала, не скупясь на унизительные эпитеты, а нарушителя постарше могла даже ударить указкой. Если она не кричала, то говорила сухо, но веско. Дети, понимающие язык силы, не без причины её побаивались.
В начале нулевых у Алины Емельяновны умерла мать. Об этом сообщил отец, который позвонил ей по телефону и спросил, придет ли она на похороны. Алина Емельяновна на похороны не пришла.
Проработав в школе №24 целых девятнадцать лет, она с облегчением уволилась и перешла в вокально-хоровую секцию «Гармония», которая базировалась в бывшем Дворце пионеров. Внешне Дворец пионеров не изменился – он так и остался конгломератом песочно-серых конструктивистских блоков, дополненных масштабными витражами на советскую тематику и железным куполом обсерватории. Однако социалистическая форма обзавелась совершенно новым содержанием. Оправившись от экономических потрясений, новая власть переименовала его во Дворец школьников, оплатила косметический ремонт здания, а секции окончательно сделала платными – все без исключения.
На новом месте Алине Емельяновне нравилось, потому что работа в секции не требовала такого массива бумажной волокиты, как в школе, времени отнимала гораздо меньше, а денег приносила больше. С понедельника по субботу Алина Емельяновна аккомпанировала на пианино детям младшего школьного возраста, которые были разбиты на четыре группы. Кабинет «Гармонии» располагался на втором этаже, а широкий коридор оканчивался гранатово-красным витражом. В солнечные дни рубиновая звезда, багровое знамя и буденновец с суровым лицом наливались светом, и на мраморной крошке пола отпечатывались кумачовые пятна. Солнце неспешно закатывалось, а пятна медленно уползали в чернеющую тень, пока не растворялись в ней без следа.
К детям из секции Алина Емельяновна питала отвращение, но успешно это скрывала. К сожалению, родители стали подкованными в юридических вопросах, а детям начали уделять больше внимания, считая их чуть ли не пупом земли. В конце девяностых, когда Алина Емельяновна только начинала работать в сфере образования, на её любовь к легкому рукоприкладству смотрели сквозь пальцы. К тому же, она поступала так только с педагогически запущенными детьми. Однако времена в очередной раз изменились, и теперь детям нельзя было даже грубого слова сказать. Был еще один немаловажный фактор: будучи потребителями, родители тщательно следили за тем, как оказывают оплаченные ими услуги, и вмешивались, если их что-то не устраивало. Так что с детьми Алина Емельяновна держалась строго и немного прохладно, не выходя за рамки вежливости.
Не включая на веранде свет, Алина Емельяновна обулась в сапоги на низком каблуке и надела вязаный берет. Надежно обмотав горло шарфом, она застегнулась на все пуговицы и нащупала в кармане плаща детский калейдоскоп. Теперь можно было выходить. Алина Емельяновна сжала губы, толкнула железную дверь, и в теплое помещение ворвался морозный воздух. Утробно подвывал ветер. Под иссиня-черным небом, усеянным острой пылью звезд, мерцали крохотными искрами сизые сугробы, в которых темными пятнами вырисовывался обледенелый асфальт двора. Лунный свет очерчивал жирными тенями деревянные ступени крыльца, гараж из серых шлакоблоков и гофрированное железо высоких ворот. В будке шевельнулась войлочная занавеска. Наружу, поблескивая глазами, высунулась собачья голова.
Алина Емельяновна прошла к гаражу, отперла дверь с тяжелым замком и нашарила пальцами выключатель. Вспыхнули мертвенно-белым лампы, вырвав из темноты железные стеллажи, полку с шинами и верстак, на котором стоял раскладывающийся чемоданчик с инструментами. По черной «ладе» шестой модели бледными мазками растекся свет. Автомобиль Алина Емельяновна унаследовала от мужа, который погиб пять лет назад. Вместе с автомобилем ей перешли участок с домом, где она сейчас жила, и одноствольное охотничье ружье. Меткостью Алина Емельяновна похвастать не могла, поэтому ружье вместе с коробкой патронов хранилось в сейфе. Иногда она чистила ружье, чтобы оно не пришло в негодность.
Виталий Масодов утонул во время купания. Труп унесло течением, и выловили его только через неделю, когда от тела осталось лишь склизкое разбухшее месиво. Как шутила Алина Емельяновна, мысленно разговаривая сама с собой: «При жизни был размазня и после смерти стал размазней». Утонувший инженер Масодов любил ходить на охоту, однако в быту был мямлей, а в сексуальной жизни – совершенно инертным. У Алины Емельяновны не возникало сложностей с тем, чтобы представлять мужа покойником, лежащим в гробу, и получать удовольствие, не оповещая супруга о своих фантазиях. Перед похоронами ей выпала возможность остаться с гробом один на один и открыть его, но покойник выглядел настолько бесформенно, что ей стало противно. Алине Емельяновне нравились только молодые мужчины, которые выглядели так, будто умерли совсем недавно.
Мужа похоронили на Коряковском кладбище, которое располагалось посреди жилого района. Из окон панельных домов открывался скорбный вид на ровные ряды блеклых надгробий из пыльно-серого камня. На похоронах Алина Емельяновна присутствовала, но вела себя сдержанно. Пожалуй, даже слишком сдержанно. Родственники со стороны мужа косились на неё, ожидая плача или хотя бы тихой скорби, но так и не дождались. Алина Емельяновна лишь отстраненно глядела на лакированную крышку гроба.
Теперь муж покоился рядом с их годовалым сыном Юрием, а окружала их крашеная серебрянкой оградка. Юрий родился в двухтысячном году и не оправдал ожиданий Алины Емельяновны. Она хотела воспитать ребенка под себя. Из мальчика она планировала вырастить карьериста, чтобы он смог оплачивать её лечение и жизнь. Из девочки она планировала вырастить невротически преданную дочь, которая смогла бы жить с ней до самого конца – или смерти матери, или собственной смерти. Тут уж как повезет. Но тяжкая практика родительства вскрылась слишком рано. От ребенка тошнотворно пахло смесью пота и прокисшего молока. Алину Емельяновну раздражали недосып и нарастающая нервозность. Когда она оставалась с грудным сыном одна, то подолгу не реагировала на его надрывный плач, а в редкие моменты, когда говорила с ним, называла его «маленькой мерзостью». Продержавшись год, она решила исправить ошибку и положила Юрию на лицо подушку.
Когда приехала скорая, Алина Емельяновна убедительно изобразила истерику скорбящей матери. В процессе она даже немного охрипла. Итог оказался замечательным: произошедшее списали на синдром внезапной детской смерти. Рожать новых детей Алина Емельяновна не планировала, поэтому не беспокоилась. Она знала, что врачи начинают что-то подозревать, если груднички у матери умирают один за другим. А это явно был не её случай. Муж убивался весь следующий год. Больше детей у них не было.
Спустя три года после смерти сына у Алины Емельяновны произошел сильный перелом в сфере влечения. Хоть она и не любила сына, время от времени она садилась в черную «ладу» мужа, приезжала на кладбище и приводила в порядок могилу. Похоронная атрибутика производила на Алину Емельяновну умиротворяющий эффект. Одно из таких посещений закончилось не совсем тривиально. Припарковав машину в самом темном закутке аллеи, с которой начиналось Коряковское кладбище, Алина Емельяновна заметила приближающуюся похоронную процессию. Глухо стуча каблуками по асфальту, мужчины в черном несли на плечах открытый гроб, а за ними нестройной толпой следовали скорбящие родственники. Кто-то держал венки, увитые траурными лентами, кто-то сжимал в руках четное количество пластмассовых гвоздик, которые издалека казались красными брызгами на черной одежде. Летняя духота проникала под траурные костюмы, жесткий асфальт нагревался солнцем, которое смотрело с ярко-голубого неба бесчувственным глазом, а кладбищенские аллеи и тропы заливало желтой глазурью.
Машина Алины Емельяновны была припаркована чуть выше, поэтому ей удалось заглянуть в гроб. В аккуратных складках темно-красного атласа покоился совсем юный мужчина. Загримированная голова с крючковатым носом, очками поверх сомкнутых век и темными волосами, расчесанными на косой пробор, казалась практически живой. Черный костюм, состоящий из отутюженных брюк и пиджака, резко контрастировал с белоснежной рубашкой, воротник которой туго обхватывал шею с выступающим кадыком. Галстук рассекал грудь покойника на симметричные половины. В черных лакированных ботинках переливался бледный огонь солнца.
Неожиданно один из мужчин, которые несли гроб, сделал неудачный шаг. Гроб резко накренился вправо. Мужчины успели отреагировать и не дали ему упасть на асфальт аллеи. Мертвый юноша не вывалился, однако через бортик гроба перекинулась его левая нога. Алина Емельяновна тяжело выдохнула. Нога покачивалась, а на закругленном мыске ботинка нестерпимо играл солнечный свет. Настолько нестерпимо, что даже жег глаза. Ярко-голубое небо, блестящий на солнце лакированный ботинок и холодный юношеский труп с неестественно румяным лицом сложились в цельную картину, жгуче отпечатались в воображении Алины Емельяновны.
Торопливо уехав в самую отдаленную и наиболее безлюдную аллею кладбища, Алина Емельяновна запустила руку под пояс длинной юбки, расправила палантин, чтобы скрыть свое недвусмысленное занятие, и начала мастурбировать. Покойный юноша, чуть не выпавший из гроба, оказался настолько привлекательным, что по завершении у Алины Емельяновны еще несколько минут подрагивали ноги.
С тех пор она ездила на кладбище регулярно. Прибравшись на могиле сына, она прогуливалась среди надгробий и находила свежие кресты, плотно обставленные венками. Иногда ей везло, и на крестах обнаруживались фотографии красивых молодых мужчин. Впрочем, до мертвеца, с которым она столкнулась в тот душный летний полдень, им было далеко. Изредка удавалось увидеть похоронную процессию, но далеко не всегда скорбящие хоронили молодых. Спустя год частых поездок и методичного осмотра всех аллей Алина Емельяновна отыскала могилу юноши, к которому так прикипела. Судя по надгробью из серого мрамора, при жизни покойного звали Максим Федорович Пряников, а в общей сумме он прожил двадцать один год. О причине смерти можно было лишь догадываться. Для себя Алина Емельяновна решила, что Максим Пряников либо погиб от передозировки, либо покончил с собой. Одним краем его надгробье окуналось в шуршащие ветви сирени, которая каждый май набухала мягкими фиолетовыми гроздьями, и могилу окутывал удушающий, приторно-сладкий запах.
Живые люди в принципе не привлекали Алину Емельяновну. В детском саду она так и не смогла влиться в коллектив, потому что не понимала, как себя вести. В школе дело обстояло точно так же, хотя правила поведения в обществе стали немного понятнее. Даже в музучилище у Алины Емельяновны не появилось близких подруг, а после смерти мужа она и вовсе стала вести жизнь отшельницы. Коллеги и соседи жалели Алину Емельяновну, считая, что она до сих пор скорбит по мужу, желает снова забеременеть и тратит нереализованные материнские чувства на чужих детей. Естественно, по мужу Алина Емельяновна не скучала, а одна лишь мысль о беременности и вид новорожденных вызывали у неё отвращение. Но окружающим об этом знать не следовало.
Усевшись за руль, Алина Емельяновна вдохнула полной грудью. Весь день ей хотелось на ком-нибудь сорваться, пусть даже у неё не было для этого повода. У неё чесались руки отвесить какому-нибудь неприятному ребенку особенно тяжелый подзатыльник, чтобы тот упал лицом на обледенелый асфальт и в кровь разбил нос. Достав из бардачка голубые резиновые перчатки, которыми обычно пользуются на кухне хозяйки, Алина Емельяновна натянула их на кисти. Запястья скрылись под длинными раструбами манжет. Перчатки успели промерзнуть и теперь неприятно холодили кожу. Алина Емельяновна улыбнулась и вытащила из кармана плаща детский калейдоскоп советских времен – белый, потертый, длиной с указательный палец. Приложив калейдоскоп к правому глазу, она пристально заглянула в его зеркальное нутро и медленно повернула цилиндр по часовой стрелке. На тусклом, как беленая стена, фоне мелко задергались крохотные осколки: клубнично-красные, темно-оранжевые, медово-желтые, яблочно-зеленые… Пересыпаясь из одного отражения в другое, осколки образовывали ломаный орнамент. Напоминая то бутоны мака, то бесплотных бабочек-крапивниц, то клопов-солдатиков, узоры перетекали друг в друга, а прежняя форма рассыпалась где-то на размытой кромке обзора. Висок пронзило болью. Поморщившись, Алина Емельяновна бережно спрятала калейдоскоп.
Улица Каляева представляла собой грязную заснеженную дорогу с глубокими рытвинами колеи. Вокруг не было ни единого человека. Еще никогда Смородинский микрорайон не становился таким безлюдным. Алина Емельяновна включила музыку. Тишину разорвали торопливые переливы аккордов и звонкий девичий голос, в котором еще слышалась непосредственность детства. Юная вокалистка пела о крылатых качелях, и играть эта песня должна была весь сегодняшний вечер – пока дело, первое в жизни Алины Емельяновны дело не подойдет к концу. Издав недобрый смешок, она положила ладонь на прозрачный набалдашник рычага. Под голубой перчаткой скрылся черный паук с вздувшимся брюшком и тонкими, как спицы, лапами.
Алина Емельяновна выехала на асфальтированную дорогу. С зеркала заднего вида свисала пахучая «елочка». Под лобовым стеклом тряс головой, словно дементный старик, игрушечный далматинец. Сегодня Алина Емельяновна уже никого не могла встретить – если только ей очень этого захотелось бы.
Черная «лада» медленно двигалась в сторону пустыря. Бледно светило звездами тусклое ночное небо, из размытого городского пейзажа, измазанного бурым зернистым снегом, темными провалами глаз смотрели светофоры. Справа, скрываясь за мельтешением пленочных помех, сменяли друг друга панельные дома, окна которых тоже были черными и безжизненными, а слева шероховатым диафильмом разворачивался дикий пляж. Алина Емельяновна разглядывала пологий берег Смородины. В темноте салона горели неоново-синие искры глаз. Нечеловеческий взгляд скользил по грязному снегу, туманному льду и голым осинам. На противоположном берегу под землисто-белым лунным светом подрагивала в невесомой пелене лесополоса.
- Позабыто всё на свете, - высоким голосом выводила девочка, которая наверняка уже скончалась, - сердце замерло в груди…
Удача улыбнулась сразу, не прошло и пяти минут. Пристально всмотревшись в береговую линию, Алина Емельяновна заметила девочку лет пятнадцати. Скрестив ноги, та сидела на железной трубе, которая ржавым хребтом выступала из-под пляжного песка, смешанного со снегом, и окуналась жерлом в заледеневшую Смородину. Прямо под колесами «лады» хрустнуло ноздреватое крошево пляжа. Алина Емельяновна остановила машину, но глушить двигатель не стала. Посмотрев на дымчатый силуэт девочки синими огнями глаз, Алина Емельяновна заметила распущенные рыжие волосы, спадающие на пуховик, дымящуюся сигарету и мертвенный блеск тяжелых лакированных ботинок.
«Славно-то как, - удовлетворенно подумала она,- наверное, даже не придется переобувать».
Алина Емельяновна исподлобья глядела на девочку, которая пока находилась слишком далеко. Алина Емельяновна ждала, затаившись в утробе черной «лады», словно каракурт. Губы растягивались в плотоядной улыбке, ярко-синие глаза сверкали, как бенгальские огни. Выпрямившись во весь рост, девочка швырнула окурок на речной лед. В мутной темноте мелькнула и потухла алая искра. Девочка развернулась, шумно протопала по трубе и спрыгнула в слякотный сугроб. Она побрела наверх, к дороге – прямо в направлении Алины Емельяновны. И хотя девочка пока не замечала ни черный автомобиль, ни пронзительно-синие огни в его темном окне, Алина Емельяновна девочку прекрасно видела.
Теперь убийцу и жертву разделяли лишь несколько метров дикого пляжа. Обретали четкость щеки с анемично-розовым румянцем и мешки под глазами, наводящие на мысль о раннем алкоголизме. У Алины Емельяновны пересохло во рту. Сделав музыку громче, она выскочила из машины и обеими руками схватила жертву за шею. Синие глаза ярко вспыхнули и погасли. Очутившись перед Алиной Емельяновной, девочка сначала ощутила у себя на горле холодные пальцы, машинально дернулась, а уже потом заметила берет крупной вязки, длинные спирали темных волос и женское лицо с темными провалами глазниц. Она удивленно вскинула брови – обычно такое поведение исходило от мужчин.
Секунда промедления оказалась для девочки фатальной. Алина Емельяновна толкнула её в снег, а сама навалилась сверху. Черной ямой на лице проступил открытый для крика рот. Алина Емельяновна сдавила тонкую шею. Наружу вырвались лишь надсадный хрип и морозное облачко дыхания. Подростковое туловище дергалось и боролось за жизнь. Девочка пыталась ударить Алину Емельяновну по лицу, однако ничего не вышло. Лишь берет упал в грязь. Алина Емельяновна усилила нажим и перенесла вес тела на руки, которые сжимали разгоряченное горло. Асфиксия понемногу брала свое. Полудетское лицо багровело от удушья, а пальцы скребли по колючему снегу и холодному песку. Восприятие Алины Емельяновны помутнело, налившись торжеством таежного хищника, однако натруженные руки знали свое дело и механически выполняли задуманное.
- Только небо, только ветер, - доносился из «лады» звонкий детский голос, - только радость впереди…
Лакированные ботинки девочки били по сугробам, превращая их в снежное месиво. Попытки сопротивления плавно перешли в длительные судороги. Алина Емельяновна не ослабляла хватку, ощущая сквозь перчатки ускользающее тепло девичьего горла и слабеющую пульсацию кровотока. Широкая улыбка тонких губ достигла предела. В мутном лунном свете влажно и вещественно обнажились зубы Алины Емельяновны.
Умерла девочка далеко не сразу – душить её пришлось почти пятнадцать минут, подключив к делу пояс плаща. Когда на посеревшем лице закатились глаза, оставив снаружи болезненно-яркие полумесяцы белков, а язык вывалился из разинутого рта, как жирный слизень, Алина Емельяновна выпрямилась. Стряхнув с колен влажную грязь и подобрав берет, она оглядела свежий, обмякший, пока еще теплый труп, который лежал в весеннем снегу, угловато раскинув конечности. Алина Емельяновна шумно выдохнула и издала смешок. Глаза, которые обычно ничего не выражали, сузились в самодовольном прищуре, подчеркнув «гусиные лапки». Взгляд Алины Емельяновны наполнился сумрачной негой.
Её больше не мучила злоба прошедшей недели. Досаждающие заботы и переживания уступили место безразличию, облегчению и невесомой пустоте мыслей. После совершенного убийства навалилось чувство усталости, но это была приятная усталость. Для первого раза всё прошло очень даже неплохо. Алина Емельяновна еще раз посмотрела на задушенную девочку и испытала лишь самодовольство. Возбуждали её исключительно взрослые мертвецы мужского пола – да и то не все. Мертвые дети её совсем не интересовали. Но убивать тех, кто был обречен на женскую колонию для малолеток, это ничуть не мешало.
Немного придя в себя, Алина Емельяновна выключила музыку. Повисла шуршащая тишина. Алина Емельяновна обыскала труп. Найдя смартфон, она с размаху отбросила его в сторону облезлой осиновой рощи. При возможностях, которые теперь у неё были, большего не требовалось.
Расстелив на снегу рулон плотной полиэтиленовой пленки, Алина Емельяновна не без труда уложила на край белесого полотна труп, из которого уходило остаточное тепло. Наверняка девочку и при жизни трудно было носить на руках, а после смерти мышцы расслабились, и девочка стала ещё тяжелее. Замотав труп так, чтобы наружу не торчали ботинки и голова, Алина Емельяновна закинула получившийся кокон в багажник. Теперь нужно было вернуться домой, пока труп не окоченел. Невыполненными оставались еще две части плана: культурная и декоративная.
На обратную дорогу ушло минут семь. Пока Алина Емельяновна, хмуря брови, перетаскивала тело в дом, пленка сползла, обнажив ботинки с капельками застывшей влаги, и теперь они с глухим скрипом волочились по деревянному полу. На широких досках оставался грязный след, который вел в освещенную кухню. Летом за кухонным окном покачивались желтые цветки подсолнуха размером с человеческую голову, однако сейчас там недвижимо лежали снежные завалы.
Подобно остальным комнатам, кухня выглядела старомодно, и всё в ней напоминало о прошлом. Добротный деревянный сервант, на полках которого стояли тяжелые салатницы, тарелки с росписью и чашки в горошек, помнил Хрущева, а газовая плита относилась к перестроечному периоду. И на серванте, и на плите виднелись темные пятна - то ли запылившийся жир, то ли печная сажа, то ли всё вместе. Сглаживали неопрятное впечатление обеденный стол с клетчатой клеенкой, войлочный палас и изразцовая печь, облицованная гжелью. В пустом углу располагались кошачьи миски.
Алина Емельяновна скинула верхнюю одежду и надела серый резиновый фартук. Расширяясь книзу трапецией, он доходил ей почти до щиколоток. Уязвимыми для брызг оставались только рукава рубашки, но это не было проблемой. На днях Алина Емельяновна купила в сэконд-хенде много недорогой и удобной одежды, которую не жалко было замарать.
Под скатанным паласом обнаружились пыльные доски и вход в подпол - деревянная крышка с железным кольцом. Алина Емельяновна подняла крышку и спустилась по деревянным ступеням в обволакивающую, как колючая шаль, темноту. Бетонированный подпол затопило белесым светом. Алина Емельяновна криво улыбнулась, оглядывая результат косметического ремонта. Помещение было просторным, четыре на четыре метра. В центре подпола располагался штатив с видеокамерой, которая была меньше ладони, однако снимала в высоком разрешении: не искажая сочные цвета, не лишая их глубины и живости, как это делали советские кинокамеры шестидесятых годов. Бетонная стена перед камерой была усеяна шурупами, а между ними, перекрещиваясь и образуя подобие новогодних гирлянд, тянулись тяжелые дуги бечевы. Бечева прогибалась под тяжестью засушенных луговых цветов, собранных в букеты, которые были украшены ржавыми бубенчиками и тонкими желтыми лентами. От букетов исходил еле уловимый смрад цветочного гниения.
Однако эта замысловатая декорация была всего лишь фоном. Центром кадра должна была стать пеньковая петля со скользящим узлом, которая свисала с потолочного крюка между стеной и штативом. Пол Алина Емельяновна предусмотрительно застелила дешевой голубой клеенкой с ромашками.
По левую стену подпола располагался платяной шкаф без дверей, но с крепким пантографом. На пантографе болтались десять петель. Под лестницей стоял ненужный стол, поверхность которого уже давно вздулась от влаги и рельефно засохла. На нем был аккуратно разложен реквизит: белая рубашка с короткими рукавами, темно-синяя юбка и кумачовый треугольник пионерского галстука. На паре черных лакированных ботинок покоился ролик белых гольф, а под столом виднелась пара оцинкованных ведер, одно из которых было заполнено самодельными капроновыми мешочками, набитыми смесью соли и соды. Комплект пионерской формы Алина Емельяновна сшила на прошлой неделе, но, к сожалению, без конкретной мерки. Пришлось ориентироваться на среднее телосложение девочек-подростков, а к юбке пришить липучки, чтобы можно было регулировать размер талии. Легче всего вышло с обувью: Алина Емельяновна нашла на базаре пару ботинок, которая, судя по ценнику, грозила развалиться при первой же носке. Однако ходить в этих ботинках никто не собирался, да и не смог бы, а от пребывания на ногах трупа они вряд ли могли прийти в негодность. С размером проблем не было вообще – покойникам обычно всё равно, во что их обувают.
У правой стены помещался старый кухонный буфет, где загодя были разложены необходимые инструменты: громоздкий «полароид», остро заточенный поварской нож и не менее острый топор. На верхних полках ожидали своего часа искусственная гвоздика, пластиковое ведерко с ярко-желтой краской и рулоны пищевой пленки. Слева от буфета висела на стене медная чеканка: Юдифь, вооруженная ятаганом, и отрубленная голова Олоферна, которая валялась на земле и выдыхала языки огня.
Алина Емельяновна вернулась в кухню за трупом. Размотав влажный от снега полиэтилен, она выгрузила труп на пол. Наклонившись к телу, Алина Емельяновна всмотрелась в лицо, которое уже поддалось трупным явлениям и понемногу темнело. Через несколько часов оно вполне могло стать темно-синим, как юбка пионерки. На шее голубоватыми кляксами проступили трупные пятна – в тех местах, где кожу сдавливали, перекрывая доступ воздуха, сильные пальцы. Тихо стуча каблуками и волоча по ступеням труп, Алина Емельяновна спустилась в подпол. Она бережно уложила мертвую девочку на клеенку, а затем захлопнула крышку. Теперь замкнутое пространство напоминало угодья паучихи, отделенные от внешнего мира надежной преградой.
Перед съемкой тело нужно было переодеть. Это оказалось непросто: конечности болтались, как у тряпичной куклы, голова, запрокидывая лицо к лампе, стукалась затылком об пол, а пальцы в резиновых перчатках двигались не слишком-то ловко. Поморщившись, Алина Емельяновна решила, что для следующего выезда лучше купить медицинские перчатки, а не кухонные.
Первое убийство всё сильнее отдалялось от совершенства. В частности, не удалось шитье – убить девочку оказалось гораздо проще, чем подготовить её для съемок. Хотя туловище у покойницы оказалось слишком зрелым для её возраста, рубашка с короткими рукавами всё равно мешком повисла на торсе. Сквозь белую ткань просвечивала цветная татуировка на правом плече – акварельно-розовая медуза. Юбка тоже норовила сползти, но Алина Емельяновна зафиксировала её липучками. Переобувать девочку она не стала.
Всё было готово. Включив камеру, Алина Емельяновна степенно вошла в кадр. На голубой клеенке лежала мертвая девочка в пионерской форме и лаковых ботинках. Алина Емельяновна подхватила труп на руки и, побагровев от натуги, продела его голову в петлю, а затем поправила рыжие волосы, чтобы они естественно свисали вдоль лица, наливающегося синевой. Скользнул по веревке узел, фиксируя тело над полом, и оно повисло – покачиваясь из стороны в сторону, медленно кружась вокруг своей оси. Когда амплитуда угасла, Алина Емельяновна подтолкнула тело кулаком. Оно вновь закачалось, описывая над клеенкой небольшие круги. Алина Емельяновна с любопытством разглядывала детали наступившей смерти. Оттянув веко, она всмотрелась в расширенный зрачок, который чернильной каплей застыл в закатившемся глазу. Роговица стала сухой, как промокашка, а слизистая приобрела мутно-желтый оттенок, да и тело было уже весьма прохладным. Судя по жесткости мышц, понемногу начиналось трупное окоченение, и теперь тело следовало оставить в покое – чтобы потом не пришлось с хрустом ломать руки и ноги, приводя его в нужную позу.
Не прекращая запись, Алина Емельяновна взяла в руки «полароид» и вернулась к трупу, который в очередной раз достиг угасающей инерции. Яркое освещение подчеркивало все детали. И обжигающе-красный галстук на шее, которую туго сдавливала петля, и лакированные ботинки, тихо стучащие друг об друга, когда труп раскачивался особенно сильно, и темнеющие пальцы, в которых под воздействием силы тяжести неспешно сгущались фиолетово-синие трупные пятна. Сделав для коллекции несколько снимков общего плана, Алина Емельяновна подошла ближе. Скрипя резиновым фартуком, она расхаживала вокруг трупа и крупным планом снимала признаки смерти. Стараясь не упускать потенциально удачные ракурсы, она то присаживалась, то становилась на цыпочки. Сухо, как ломающаяся под ногами солома, щелкал затвор фотоаппарата.
Сразу же распечатывая фотографии, Алина Емельяновна раскладывала их на столе. Цианозное лицо, насыщенное всеми оттенками синего, сочная игра искусственного света на лаковых ботинках, контраст молочно-белой рубашки и фиолетовой шеи, разделенных алой границей галстука… Особенно сбалансированная композиция, которая понравилась Алине Емельяновне больше остальных, состояла из двух узлов, находящихся на одной диагонали: пионерского, которым был завязан галстук, и эшафотного, который застрял под левым ухом девичьего трупа и теперь выпирал из-под спутанных рыжих прядей.
Истратив несколько пачек фотобумаги, Алина Емельяновна сняла с гвоздя чеканку, на которой сжимала ятаган Юдифь, и заглянула в пустую бетонированную нишу. После чего положила туда снимки и повесила чеканку на место. Вернувшись в кадр, Алина Емельяновна вытащила труп девочки из петли и уложила его на пол. Вышагивая перед включенной камерой, она ходила вокруг трупа, а иногда заглядывала в мертвые глаза, лукаво при этом усмехаясь. Нарушать законы девочка уже не могла. И ничего плохого в этом, конечно, не было. Алина Емельяновна искренне считала, что мертвые уголовницы уж точно не причинят никому вреда. Теперь она даже ненавидела убитую девочку чуть меньше.
Вооружившись топором, который лежал в буфете, Алина Емельяновна раздела труп, с третьего удара отсекла правую руку и выключила камеру. Через разрез в животе вытащила из трупа органокомплекс, сложила потроха в ведро и зашила разрез сапожной дратвой. Далее последовала монотонная, но простая процедура: достав из ведра нейлоновые мешочки, набитые содой и солью, Алина Емельяновна стала фиксировать их на трупе, плотно обматывая его тонким полиэтиленом. На мумификацию ушло полчаса и четыре рулона пленки. Алина Емельяновна выпрямилась, раздался коленный хруст. На лбу блестели крупинки пота, выступившего из-за тяжелого труда. Чтобы через два часа на пантографе повисла мумия рыжей девочки, одетая в пионерскую форму, нужно было вернуться в подпол еще двадцать пять раз.
Скрывать от Павлозаводска факт своей деятельности Алина Емельяновна не собиралась. Конечно, работникам Следственного комитета, которым предстояло расследовать это дело, не следовало знать подробности, зато им можно было подбросить красноречивый намек. На прошлой неделе Алина Емельяновна приметила подходящий пустырь – просторное и пустое заснеженное пространство, отделяющее Смородинский микрорайон от автобусной остановки. За остановкой не было ничего, кроме уходящих за горизонт лугов, а маршрут там ходил только один.
Когда Алина Емельяновна вернулась домой, в спальне всё было по старому – за исключением лишь нескольких деталей. Электронные часы показывали двадцать минут четвертого. Нигде не было видно полосатой кошки Мурки. На швейном столе лежали лоскуты синей ткани, оставшиеся после кройки. Смыв под душем вязкую кровь и сырой душок мертвечины, Алина Емельяновна переоделась в длинную ночнушку, после чего вновь заглянула в калейдоскоп. Огненно-зеленым вихрем закружились в череде отражений пестрые осколки, с каждым поворотом рассыпаясь, чтобы образовать новую мозаику. Алина Емельяновна ощутила боль в виске. Опустив руку с калейдоскопом, она оглядела потрескавшийся голубой кафель, оранжевую занавеску, за которой сухо мерцала эмалью чугунная ванна с щербатым дном, и огненно-рыжий плафон под потолком. Пахло ароматизатором воздуха и совсем немного хлоркой. Теперь Алина Емельяновна была дома, а в подполе невозможно было ничего найти.
Заснула Алина Емельяновна быстро и благостно, но её захватило удушливое сновидение о детстве. Сложно было сказать, что именно происходило в этом сне. В черном небе висела желтушная точка солнца, а худые ноги в лаковых ботинках дергались над осыпающимся краем могилы, обрушивая на дно мокрые комья земли. Под вкрадчивый шелест кукурузных полей кружились хороводом землистые лица девочек-чертенят, а в сдавленном горле копошились черные пауки и жужжали жирные помоечные мухи.
Алина Емельяновна ворочалась под одеялом и тихо мычала сквозь сон, но не могла проснуться. Теплое тело сминало выглаженные простыни. По одеялу кралась кошка Мурка. Электронные часы на швейном столе крупно показывали время и дату – 22:30, 8 марта.
Однако эта замысловатая декорация была всего лишь фоном. Центром кадра должна была стать пеньковая петля со скользящим узлом, которая свисала с потолочного крюка между стеной и штативом. Пол Алина Емельяновна предусмотрительно застелила дешевой голубой клеенкой с ромашками.
По левую стену подпола располагался платяной шкаф без дверей, но с крепким пантографом. На пантографе болтались десять петель. Под лестницей стоял ненужный стол, поверхность которого уже давно вздулась от влаги и рельефно засохла. На нем был аккуратно разложен реквизит: белая рубашка с короткими рукавами, темно-синяя юбка и кумачовый треугольник пионерского галстука. На паре черных лакированных ботинок покоился ролик белых гольф, а под столом виднелась пара оцинкованных ведер, одно из которых было заполнено самодельными капроновыми мешочками, набитыми смесью соли и соды. Комплект пионерской формы Алина Емельяновна сшила на прошлой неделе, но, к сожалению, без конкретной мерки. Пришлось ориентироваться на среднее телосложение девочек-подростков, а к юбке пришить липучки, чтобы можно было регулировать размер талии. Легче всего вышло с обувью: Алина Емельяновна нашла на базаре пару ботинок, которая, судя по ценнику, грозила развалиться при первой же носке. Однако ходить в этих ботинках никто не собирался, да и не смог бы, а от пребывания на ногах трупа они вряд ли могли прийти в негодность. С размером проблем не было вообще – покойникам обычно всё равно, во что их обувают.
У правой стены помещался старый кухонный буфет, где загодя были разложены необходимые инструменты: громоздкий «полароид», остро заточенный поварской нож и не менее острый топор. На верхних полках ожидали своего часа искусственная гвоздика, пластиковое ведерко с ярко-желтой краской и рулоны пищевой пленки. Слева от буфета висела на стене медная чеканка: Юдифь, вооруженная ятаганом, и отрубленная голова Олоферна, которая валялась на земле и выдыхала языки огня.
Алина Емельяновна вернулась в кухню за трупом. Размотав влажный от снега полиэтилен, она выгрузила труп на пол. Наклонившись к телу, Алина Емельяновна всмотрелась в лицо, которое уже поддалось трупным явлениям и понемногу темнело. Через несколько часов оно вполне могло стать темно-синим, как юбка пионерки. На шее голубоватыми кляксами проступили трупные пятна – в тех местах, где кожу сдавливали, перекрывая доступ воздуха, сильные пальцы. Тихо стуча каблуками и волоча по ступеням труп, Алина Емельяновна спустилась в подпол. Она бережно уложила мертвую девочку на клеенку, а затем захлопнула крышку. Теперь замкнутое пространство напоминало угодья паучихи, отделенные от внешнего мира надежной преградой.
Перед съемкой тело нужно было переодеть. Это оказалось непросто: конечности болтались, как у тряпичной куклы, голова, запрокидывая лицо к лампе, стукалась затылком об пол, а пальцы в резиновых перчатках двигались не слишком-то ловко. Поморщившись, Алина Емельяновна решила, что для следующего выезда лучше купить медицинские перчатки, а не кухонные.
Первое убийство всё сильнее отдалялось от совершенства. В частности, не удалось шитье – убить девочку оказалось гораздо проще, чем подготовить её для съемок. Хотя туловище у покойницы оказалось слишком зрелым для её возраста, рубашка с короткими рукавами всё равно мешком повисла на торсе. Сквозь белую ткань просвечивала цветная татуировка на правом плече – акварельно-розовая медуза. Юбка тоже норовила сползти, но Алина Емельяновна зафиксировала её липучками. Переобувать девочку она не стала.
Всё было готово. Включив камеру, Алина Емельяновна степенно вошла в кадр. На голубой клеенке лежала мертвая девочка в пионерской форме и лаковых ботинках. Алина Емельяновна подхватила труп на руки и, побагровев от натуги, продела его голову в петлю, а затем поправила рыжие волосы, чтобы они естественно свисали вдоль лица, наливающегося синевой. Скользнул по веревке узел, фиксируя тело над полом, и оно повисло – покачиваясь из стороны в сторону, медленно кружась вокруг своей оси. Когда амплитуда угасла, Алина Емельяновна подтолкнула тело кулаком. Оно вновь закачалось, описывая над клеенкой небольшие круги. Алина Емельяновна с любопытством разглядывала детали наступившей смерти. Оттянув веко, она всмотрелась в расширенный зрачок, который чернильной каплей застыл в закатившемся глазу. Роговица стала сухой, как промокашка, а слизистая приобрела мутно-желтый оттенок, да и тело было уже весьма прохладным. Судя по жесткости мышц, понемногу начиналось трупное окоченение, и теперь тело следовало оставить в покое – чтобы потом не пришлось с хрустом ломать руки и ноги, приводя его в нужную позу.
Не прекращая запись, Алина Емельяновна взяла в руки «полароид» и вернулась к трупу, который в очередной раз достиг угасающей инерции. Яркое освещение подчеркивало все детали. И обжигающе-красный галстук на шее, которую туго сдавливала петля, и лакированные ботинки, тихо стучащие друг об друга, когда труп раскачивался особенно сильно, и темнеющие пальцы, в которых под воздействием силы тяжести неспешно сгущались фиолетово-синие трупные пятна. Сделав для коллекции несколько снимков общего плана, Алина Емельяновна подошла ближе. Скрипя резиновым фартуком, она расхаживала вокруг трупа и крупным планом снимала признаки смерти. Стараясь не упускать потенциально удачные ракурсы, она то присаживалась, то становилась на цыпочки. Сухо, как ломающаяся под ногами солома, щелкал затвор фотоаппарата.
Сразу же распечатывая фотографии, Алина Емельяновна раскладывала их на столе. Цианозное лицо, насыщенное всеми оттенками синего, сочная игра искусственного света на лаковых ботинках, контраст молочно-белой рубашки и фиолетовой шеи, разделенных алой границей галстука… Особенно сбалансированная композиция, которая понравилась Алине Емельяновне больше остальных, состояла из двух узлов, находящихся на одной диагонали: пионерского, которым был завязан галстук, и эшафотного, который застрял под левым ухом девичьего трупа и теперь выпирал из-под спутанных рыжих прядей.
Истратив несколько пачек фотобумаги, Алина Емельяновна сняла с гвоздя чеканку, на которой сжимала ятаган Юдифь, и заглянула в пустую бетонированную нишу. После чего положила туда снимки и повесила чеканку на место. Вернувшись в кадр, Алина Емельяновна вытащила труп девочки из петли и уложила его на пол. Вышагивая перед включенной камерой, она ходила вокруг трупа, а иногда заглядывала в мертвые глаза, лукаво при этом усмехаясь. Нарушать законы девочка уже не могла. И ничего плохого в этом, конечно, не было. Алина Емельяновна искренне считала, что мертвые уголовницы уж точно не причинят никому вреда. Теперь она даже ненавидела убитую девочку чуть меньше.
Вооружившись топором, который лежал в буфете, Алина Емельяновна раздела труп, с третьего удара отсекла правую руку и выключила камеру. Через разрез в животе вытащила из трупа органокомплекс, сложила потроха в ведро и зашила разрез сапожной дратвой. Далее последовала монотонная, но простая процедура: достав из ведра нейлоновые мешочки, набитые содой и солью, Алина Емельяновна стала фиксировать их на трупе, плотно обматывая его тонким полиэтиленом. На мумификацию ушло полчаса и четыре рулона пленки. Алина Емельяновна выпрямилась, раздался коленный хруст. На лбу блестели крупинки пота, выступившего из-за тяжелого труда. Чтобы через два часа на пантографе повисла мумия рыжей девочки, одетая в пионерскую форму, нужно было вернуться в подпол еще двадцать пять раз.
Скрывать от Павлозаводска факт своей деятельности Алина Емельяновна не собиралась. Конечно, работникам Следственного комитета, которым предстояло расследовать это дело, не следовало знать подробности, зато им можно было подбросить красноречивый намек. На прошлой неделе Алина Емельяновна приметила подходящий пустырь – просторное и пустое заснеженное пространство, отделяющее Смородинский микрорайон от автобусной остановки. За остановкой не было ничего, кроме уходящих за горизонт лугов, а маршрут там ходил только один.
Когда Алина Емельяновна вернулась домой, в спальне всё было по старому – за исключением лишь нескольких деталей. Электронные часы показывали двадцать минут четвертого. Нигде не было видно полосатой кошки Мурки. На швейном столе лежали лоскуты синей ткани, оставшиеся после кройки. Смыв под душем вязкую кровь и сырой душок мертвечины, Алина Емельяновна переоделась в длинную ночнушку, после чего вновь заглянула в калейдоскоп. Огненно-зеленым вихрем закружились в череде отражений пестрые осколки, с каждым поворотом рассыпаясь, чтобы образовать новую мозаику. Алина Емельяновна ощутила боль в виске. Опустив руку с калейдоскопом, она оглядела потрескавшийся голубой кафель, оранжевую занавеску, за которой сухо мерцала эмалью чугунная ванна с щербатым дном, и огненно-рыжий плафон под потолком. Пахло ароматизатором воздуха и совсем немного хлоркой. Теперь Алина Емельяновна была дома, а в подполе невозможно было ничего найти.
Заснула Алина Емельяновна быстро и благостно, но её захватило удушливое сновидение о детстве. Сложно было сказать, что именно происходило в этом сне. В черном небе висела желтушная точка солнца, а худые ноги в лаковых ботинках дергались над осыпающимся краем могилы, обрушивая на дно мокрые комья земли. Под вкрадчивый шелест кукурузных полей кружились хороводом землистые лица девочек-чертенят, а в сдавленном горле копошились черные пауки и жужжали жирные помоечные мухи.
Алина Емельяновна ворочалась под одеялом и тихо мычала сквозь сон, но не могла проснуться. Теплое тело сминало выглаженные простыни. По одеялу кралась кошка Мурка. Электронные часы на швейном столе крупно показывали время и дату – 22:30, 8 марта.
Утренний свет подчеркивал расходящиеся солнечные лучи оконной решетки, отпечатывая их тени на задернутых шторах из желтого льна. Зыбкими контурами покачивались голые ветви березы, которая росла в палисаднике. Спальню наполнял легкий, будто припорошенный пылью сумрак. В нем явственно проступали ковер с оленями, сейф для огнестрельного оружия, над которым висела репродукция Васнецова – «Иван-Царевич на Сером Волке», и старый платяной шкаф. В широкой створке шкафа надежно держалось тяжелое зеркало, а меньшая створка была черной, расписанной под хохлому.
Обычно самая темная часть спальни, где спал в латунной кровати хозяин дома, скрывалась за желтой льняной занавеской, кольца которой скользили по гардине с едва слышным скрежетом, однако сейчас занавеска была отдернута. На прикроватной тумбочке лежал обложкой вверх раскрытый Уголовный кодекс. В пепельнице догорала сигарета из початой пачки «Marlboro», а серые изгибы дыма отражались в толстых линзах очков, обрамленных прямоугольной черной оправой.
Фишер лежал на кровати и близоруко щурился. Запястья сдавливало холодом, который тягуче отдавался в мозгу. Из-под закатанных рукавов свежей, чуть ли не хрустящей белой рубашки тянулись жилистые руки, прикованные стальными наручниками к решетчатой спинке кровати. На правой ладони виднелись застарелые обрывки ожога, полученного в раннем детстве. Два косых шрама на левой руке, оставшиеся после некачественной работы врача, перечеркивали синеватый рельеф вен и черную татуировку от запястья до локтя, изображающую поварской нож. Хоть Фишеру тогда и удалась попытка членовредительства, медперсонал отнесся к этому отнюдь не благосклонно.
Сухощавый торс среди складок расстегнутой рубашки тоже намекал на прежнее неблагополучие. На животе белела вмятина шрама, который в середине десятых был свежим ножевым ранением, а кожу над ребрами покрывали отметины сигаретных ожогов и порезов. Одни уже зарубцевались, а другим это лишь предстояло. Эти шрамы были получены уже добровольно. Их наносила Неля – молодая женщина двадцати пяти лет, которая сейчас сидела поверх бедер Фишера, одетая во всё черное: узкие штаны со змеиным узором и свободную блузку, под которой скрывалась небольшая грудь. Пергидрольно-желтые волосы густой челкой спускались к бровям, а над плечами завивались крупными кольцами, как древесная стружка. Время от времени Неля выдыхала дым Фишеру в лицо и стряхивала пепел прямо на старый клетчатый плед.
Вопреки хрупкой конституции, невысокая и тонкокостная Неля выглядела иногда весьма угрожающе – её в такие моменты переполняло злое веселье, которое не могли сгладить ни мелкие, как у куницы, черты заостренного лица, ни румяные щеки, ни кокетливые родинки на правой щеке, образующие ромб. Фишер пока не мог видеть Нелю. Всё, что выходило за пределы пятнадцати сантиметров обзора, было для него скоплением цветных пятен, в которых, впрочем, угадывался женский силуэт. Очень размытый. Без очков Фишер становился беспомощным. Однако внешность Нели он помнил и при желании мог её воспроизвести. Сквозь брючный твид и узорчатый бархат Фишер слабо ощущал теплую близость чужого тела. От нетерпения он невольно вздрогнул. Тихо хрустнула панцирная сетка.
- Не нервничай так, мудила, - веско произнесла Неля и дала ему хлесткую пощечину, - тебя что-то не устраивает?
- Нет, я просто… - неуверенно попытался оправдаться Фишер, однако не договорил и поежился. Ищущий взгляд, плохо воспринимающий пространство, придавал ему беззащитный вид. Угольно-карие глаза смотрели сквозь Нелю, спутанные черные волосы липли ко лбу, а резковатые черты лица с чуть ввалившимся щеками и синеватыми подглазьями делали Фишера похожим на мученика. Впечатление портил только крючковатый нос с легкой горбинкой, напоминающий клюв плотоядной птицы.
- Для кредитного мошенника ты слишком тупой. Если не прекратишь дергаться, я сверну тебе шею.
- Всё не так плохо, мы могли бы договориться… - забормотал Фишер. Угроза мнимой смерти и невозможность заглушить нарастающее возбуждение пробуждали в кишках странное чувство – нечто размытое, отдаленно напоминающее страх, который Фишер испытывал крайне редко.
- Ага-ага, - брезгливо перебила Неля, не глядя на него. Она закуривала новую сигарету, - ебало завали. Я тебя пока еще ни о чем не спрашивала, а ты вьешься, как уж на сковородке. На воре шапка горит?
Он нервно сглотнул. Шевельнулся острый выступ кадыка.
- Жить хочешь, гондон? – спросила Неля и стряхнула пепел ему на рубашку.
- Хочу, - пробормотал Фишер.
- А не получится! – хохотнула она, качнув светлыми буклями. Фишер подавленно отвернулся туда, где маячил неясный просвет зашторенного окна.
- Кто ж тебе виноват? Не надо было с такими куриными мозгами в аферы лезть. Лучше бы ты просто в банке сидел и бумажки подписывал, другому тебя в шараге всё равно не учили.
Неля положила дымящуюся сигарету на край пепельницы, где было уже два потухших окурка. Запустив пальцы с острыми ногтями Фишеру в волосы, она силой повернула его лицо к себе:
- В глаза мне смотри, гнида!
Сделать этого он не мог при всем своем желании. Требование было заведомо невыполнимым. Впрочем, в этом его смысл и заключался.
- Ты не только тупой, ты еще и слепой! – со злостью процедила Неля. – Как вообще можно было родиться таким ущербным? Из-за низкой самооценки людей кидал? А, сволочь?
- Перестань, пожалуйста…
Закончить фразу Фишер не успел. Еще сильнее вцепившись ему в волосы, Неля принялась методично лупить его ладонью по щекам. Фишер тяжело дышал сквозь стиснутые зубы. Щеки краснели от ударов, а темные глаза наливались тяжелым, как смола, блеском. Что-то внутри мешало Фишеру издавать звуки, входя в противоречие с желанием это делать.
Изучающе вглядевшись в его лицо, которое хоть и выражало эмоции, но, как и всегда, скудно, Неля успокоилась. Крадущимся движением её левая кисть переползла на уязвимую шею, и Фишер ощутил, как горло предупреждающе сдавили пальцы. Лукаво покосившись на впадину, подчеркнутую костным изгибом ключицы, Неля улыбнулась и выставила напоказ мелкие зубы. Свободной рукой она потянулась к пепельнице, где из отложенной сигареты до сих пор струился зыбкий дым.
- У тебя глотка на нож напрашивается, Евгеша, - с дурной ухмылкой произнесла Неля, издевательски проговаривая каждое слово, - видел когда-нибудь убийц? Живьем?
- Нет, - тихо ответил Фишер. Он заметил, что в пелене размытых пятен пляшет крохотная рыжая искра. Он понял, что это такое, и его взгляд подернулся дремотной поволокой.
- Какой-то ты глупенький мошенник, - подытожила Неля, снова выдохнув дым ему в лицо, - живешь в ебенях, где тебя вряд ли кто-то услышит, малознакомую женщину домой пустил… С такой-то кредитной историей!
- Прекрати!.. – неуверенно прохрипел Фишер, однако сорвался на влажный бронхитный кашель. Чуть ослабив хватку на горле, Неля подождала, пока он прокашляется – хрипло и лающе, как цепной кобель. Когда кашель прекратился, а Фишер молча кивнул, показывая, что всё в порядке, Неля злорадно засмеялась и красноречиво поднесла к его лицу сигарету:
- Что ты, сучара такой, возмущаешься? Раньше надо было думать. Сейчас тебе будет очень больно, ты просто охуеешь. Но ты сам напросился. Надо было мозги включать.
Снова сдавив шею Фишера пальцами, Неля жадно всмотрелась в его запрокинутое лицо. Фишер дышал часто и поверхностно, как загнанный олень. Немигающий взгляд почерневших глаз бегал, задерживаясь то на смутном силуэте Нели, то на янтарном пятне сигареты, которое вдруг стало чрезмерно различимым. Смолистый запах дыма набивался в ноздри – слишком уж близко находился его источник.
Неля широко улыбнулась и склонила голову на бок. Раскаленный конец сигареты зарылся в надключичную впадину. Фишер сдавленно вскрикнул, дернувшись всем телом, но машинально сжал зубы в страдальческом оскале. Вдавив сигарету чуть глубже, Неля медленным поворотом потушила её об кожу. К придушенному шипению примешался болезненный стон. Неля щелчком пальцев отправила окурок на дощатый пол, покрытый не одним слоем охряной краски. У Фишера подрагивала челюсть. Он смотрел куда-то в потолок и чуть слышно подвывал сквозь зубы. Кожу над ключицей въедливо жгло. Вокруг мясисто-красной точки ожога розовел тонкий ободок.
- Да хватит уже скулить! – прикрикнула Неля, нехорошо изменившись в лице, и отвесила Фишеру особенно сильную пощечину. Он сразу же утих, замер и перевел взгляд на Нелю. Немигающие глаза влажно заблестели.
- Я больше не буду… - тихо произнес он. Обычно безучастный голос прозвучал немного слезливо.
- Пиздец, какой ты жалкий. Мне аж противно стало. Что ты разнылся? Сейчас еще хуже сделаю.
Вкрадчиво соскользнув на скрипнувший пол, Неля встала возле кровати и вытащила из брюк Фишера толстый ремень с увесистой пряжкой. Фишер закрыл глаза и оказался в утробной темноте. Точно такая же темнота застилала ему обзор в раннем детстве, когда он не мог заснуть, переваривая жестокие ребяческие мысли. Закусив губу, он позволил Неле перекатить себя на живот. Холодные кольца наручников еще сильнее врезались в запястья. Надавив пятерней на затылок Фишера, Неля уткнула его лицом в подушку. Однако возможность дышать оставалась, хоть и неполноценная.
- Если опять начнешь орать, зарежу, как свинью, понял? – угрожающе проговорила Неля, наклонившись к его уху. Фишер утвердительно промычал в подушку.
Само собой, это требование тоже оказалось невыполнимым. Фишер дергался, невнятно выл и всхлипывал, а на голой спине набухали малиновые полосы. Кое-где пунктиром проступали крохотные капли крови. Иногда Фишер вздрагивал слишком резко, и они багровыми точками отпечатывались на белом сукне сбившейся рубашки. Когда плач начал пробиваться даже сквозь подушку, Неля отложила ремень и грубым движением перекатила Фишера обратно на спину. На мятой наволочке она заметила влажные пятна. Лицо Фишера было мокрым от слез, а заплаканные глаза смотрели осоловело, будто их взгляд был направлен куда-то внутрь, а не вовне.
- До тебя же доходит, сука очкастая, что я тебя в любом случае придушу? – ледяным тоном спросила Неля, глядя на Фишера сверху вниз. – За всю эту херню, которой ты занимался последние полгода, пока людей кидал?
- Да-а… - гортанно простонал он.
- Возражений нет?
Фишер молча помотал головой. Если в его лице и читалась осознанность, то была она крайне аморфной.
- Славный мальчик, - злорадным тоном произнесла Неля, потрепав Фишера по голове. От прикосновения он напрягся и тяжелым медленным вдохом втянул воздух. Мягко зашуршала ткань, и в черном силуэте Нели обозначилось светлое пятно, которое, судя по конфигурации туловища, было узкими бедрами. Фишер прищурился, пытаясь сфокусировать зрение, но исчез только бледный ореол вокруг светлого пятна. Неля прекрасно знала, насколько плохо видит Фишер, и никогда не подходила достаточно близко, глумливо держась на расстоянии.
Снова протяжно скрипнул дощатый пол. По холодеющим от наготы бедрам мягко скользнули приспущенные брюки, а затем и колкие прикосновения пальцев с острыми ногтями. Фишер превратился в обостренный нерв. Въедливо заныла панцирная сетка, и на бедра навалилась теплая тяжесть субтильного туловища. Фишер застонал, но усевшаяся сверху Неля обеими руками сдавила его горло. Стон на полузвуке превратился в жалобный клёкот.
Неспешно двигаясь, Неля иногда разжимала пальцы. Фишер хватал воздух ртом, но глотку снова сдавливало. Воздух переставал поступать, Фишер надсадно хрипел, а на покрасневшем лице закатывались глаза. В какой-то момент движения Нели стали набирать темп, а на самом пике ощущений она машинально сжала шею Фишера – гораздо сильнее, чем до этого. Наслоились друг на друга бессилие скованных рук, свинцовая тяжесть чужих пальцев на горле и бледная имитация насильственной смерти. Перед глазами потемнело, зашумела кровь в голове, и Фишер судорожно дернулся - ему наконец удалось кончить. Цепкие пальцы на горле разжались. Фишер тяжело дышал и приходил в себя. Глаза с расширенными зрачками стали совсем черными, а красноватое лицо покрылось испариной. От оргазма и удушья тягуче звенело в ушах.
Тема дыхания с рождения была для Фишера болезненной. Родился он со слабыми легкими, а из-за витающей в воздухе угольной пыли еще в детстве обзавелся хроническим бронхитом, который стал неизменным спутником его жизни. С октября по апрель Фишер надрывно кашлял мокротой, стоически терпел нескончаемый насморк и страдал от одышки, если требовалось преодолевать пешком длинные расстояния. Курение лишь усугубляло ситуацию. Когда становилось совсем невмоготу, Фишер выкуривал по одной пачке в день вместо двух. Зрение тоже не радовало. Родившись слегка близоруким, Фишер годами наблюдал, как мир вокруг расплывается, трансформируясь в пестрое месиво, а стекла очков прибавляют в толщине. Выходить без очков на улицу стало рискованно, но в домашней обстановке Фишер по-прежнему ориентировался отлично, хоть и по памяти.
С Нелей он познакомился в прошлом году. Близкими друзьями они не стали, зато образовали устойчивую пару. Несколько раз в месяц они встречались в доме Фишера и занимались жестким сексом, а Фишер на короткий период становился эмоциональным. Однако в обыденной жизни он держался совсем иначе, нежели на сессиях. Когда Фишер задумывался, самолюбивый взгляд становился холодным, как у чучела из мастерской таксидермиста. Если же он контролировал себя и отслеживал, какие чувства изображает его лицо, то производил вполне приятное впечатление, однако мимика слегка запаздывала – все-таки это были искусственные чувства, призванные поддерживать маску нормальности. Улыбаться Фишер старался, не размыкая губ, потому что естественная улыбка полностью обнажала верхнюю десну и крупные ровные зубы, плотно пригнанные друг к другу. Опыт показал, что даже скупую ухмылку люди воспринимают лучше, чем такой оскал.
Семейное древо Фишера было интернациональным: поволжские немцы и евреи по линии матери, кубанские казаки и украинцы по линии отца. Однако по паспорту он был русским, а национальной идентичности не имел. Эвелина Эммануиловна Фишер родила сына, когда ей было восемнадцать лет. В октябре путчисты обстреляли из танков Белый дом, в ноябре Эвелина разрешилась, а в декабре приняли новую конституцию РФ. Ребенок родился в период тяжелых решений.
В официальном браке Эвелина не состояла, зато сожительствовала с Петром Плахотнюком, выпивающим работником металлургического завода и владельцем однушки в Смородинском микрорайоне. Воспоминаний об этом периоде жизни у Фишера почти не осталось, а немногие сохранившиеся были слишком зыбкими и напоминали скорее фантазмы, дорисованные впечатлительным детским воображением. Фишеру отчетливо запомнился длинный балкон, куда выходили окна зала и кухни. На балкон часто залетали голуби, которые потом нервно метались между шероховатыми серыми стенами и стеклами окон.
Петру нравилось издеваться над людьми, но лишь над теми, которые были заведомо слабее – чтобы точно не проиграть. Эвелина позволяла себя избивать и терпела унижения с упорством христианской мученицы, однако сына в обиду не давала. Почему-то она считала Женю исключительно своим ребенком и в супружеских ссорах всегда подчеркивала, что Пётр внес в сына только биологический вклад, следовательно, полноценным родителем его считать нельзя. Наличие ребенка, который был воплощением его несостоятельности, выводило Петра из себя. Очередного упрека в плохом отцовстве он не выдержал. Схватив в охапку двухлетнего мальчика, Пётр прижал его правую ладонь к раскаленной конфорке, с которой Эвелина только что сняла сковородку жареной картошки. Золотисто-бледная картошка источала аромат специй и была густо посыпана зелеными колечками свежего лука. Эта сцена тоже стала для взрослого Фишера фантазмом. Однако отчетливые детали в нем все-таки присутствовали: раскаленный поток боли, истошный вопль матери и сладковатый запах горелого мяса. На следующий день Эвелина поспешно собрала вещи и сбежала вместе с сыном, пока Пётр был на смене. Мешкать ей не хотелось. Она боялась сообщать Петру о расставании.
Первое время пришлось пожить у Лоры Генриховны, матери Эвелины, с которой последняя уже два года была в ссоре. Лора Генриховна отличалась упрямым характером. С радостью встретив развал СССР, она перешла из государственных нотариусов в частные, чем обеспечила себе приемлемый заработок. С дочерью, которая сбежала от сожителя, она так и не помирилась, однако помогла ей финансово, и Эвелина сняла квартиру в Матросовском микрорайоне, недалеко от промзоны. Женя быстро забыл отца. Какое-то время о нем напоминали лишь заметные рубцы на ладони, но с возрастом кожа растянулась, а рубцы померкли.
Фишер смутно помнил, что мать дорожила магнитофоном, который громко играл песни группы «Комбинация», и работала продавщицей на рыбном рынке, который располагался прямо во дворе, под окнами кисельно-розовой пятиэтажки. Уходя на работу, мать запирала Женю в квартире. Поначалу он орал дурниной, а потом привык и стал воспринимать её отсутствие спокойно. Однажды мать вышла в магазин, а обратно почему-то не вернулась. Четырехлетний Женя остался в запертой квартире один. Первые сутки он не тревожился: жевал батон, а воду черпал из тазика, в котором дожидались разделки мертвые окуни. Когда хлеб закончился, Женя осознал, что мать вряд ли вернется, а из еды остался только он сам. Его монотонные вопли привлекли внимание соседей, а потом делом занялась милиция. Ни Эвелину Фишер, ни её труп так и не нашли. Повзрослев, Фишер счел, что мать пропала в лесополосе, став одним из неопознанных подснежников, который в итоге разложился и скелетировался.
Из официальных родственников оставалась только бабушка, Лора Генриховна. К внуку она относилась благосклонно и ласково называла его Енюшей. Фишер вернулся в её дом, чтобы прожить там до совершеннолетия. Лора Генриховна, имя которой намекало на Ленина и Октябрьскую революцию, родилась в год смерти Сталина. Она носила пепельно-белое каре и большие очки в роговой оправе, хранила за кроватью заряженное ружье и обожала искусственные цветы, хотя у многих они ассоциировались исключительно с похоронами. Чуть ли не в каждой комнате можно было заметить либо корзинку с искусственным букетом, либо округлый венок, висящий на гвозде. Единственным живым растением на весь дом была пальма в деревянной кадке, которая стояла на железном табурете и экзотически украшала зал.
Свободное время Лора Генриховна проводила за телевизором «Sony», наслаждаясь то детективными сериалами канала НТВ, то итальянским сериалом «Спрут», то «Криминальной Россией», которая ей особенно нравилась. Обычно «Криминальную Россию» транслировали в прайм-тайм по выходным. Полутораминутная заставка представляла собой экстракт десятилетия: шесть изувеченных трупов, оперативники, которые винтили братка, а затем укладывали его лицом в капот, ампула морфия в грязной ладони и нож с переливающимся лезвием. Енюша в такие моменты находился возле Лоры Генриховны и строил на полу городки из кубиков. Его детские игры сопровождались замогильным голосом диктора Полянского, который без обиняков описывал останки расчлененных жертв, и не менее замогильной музыкой. Передача была настолько откровенной, что в ней нередко мелькали отрывки из фильмов небезызвестного Анатолия Сливко. Заслуженный учитель РСФСР то убегал из кадра, оставляя перед кинокамерой «Кварц» дергающегося в петле пионера, то деловито вытаскивал из брючной штанины жертвы ногу, которую перед этим отделил от трупа туристическим топориком. Последние сезоны «Криминальной России» стали немного мягче, и в них даже появилась цензура – начали размывать пикселями половые органы трупов.
Телевидение того периода в целом отличалось предельной откровенностью и в лице Невзорова не скупилось на откровенно провокационные передачи про лесбиянок в женской колонии или каннибалов. Репортаж, который назывался «Ковырялки», глумливо сопровождался мажорной прелюдией из оперы «Кармен». В другом репортаже съемочная группа посмеивалась над кулинарной книгой «Мужчина на кухне», которая обнаружилась в шкафу питерского каннибала. Невзоров указывал на банку с супом и задавал вопросы в духе «Это Эдик был такой наваристый?», а каннибал скромно улыбался в ответ на его шутки.
- Почему он сделал из Эдика суп? – спросил Енюша, не отрываясь от кубиков. Он находился в стадии, когда ребенок начинает интересоваться окружающим миром, и вовсю задавал вопросы.
- Потому что он людоед, - коротко ответила Лора Генриховна, но на другой канал не переключила. На экране показывали обглоданные кости буро-коричневого цвета. При жизни эти кости были Эдиком.
Доказывая вечное единство Эроса и Танатоса, неприкрытая чернуха удивительным образом сочеталась с линейкой жизнеутверждающих передач: «Сам себе режиссер», «Пока все дома», «Играй, гармонь любимая!» и «Поле чудес» - одной из первых ласточек свободного рынка, бессменным лицом которой являлся Леонид Якубович. Оценить сарказм, скрытый в названии шоу, Фишер смог лишь годы спустя: Поле Чудес находилось в Стране Дураков. Иногда Лора Генриховна смотрела веселые ситкомы про падающий самолет или немецких солдат времен Первой мировой войны.
Несмотря на эмоциональную холодность, за здоровьем внука Лора Генриховна следила и быстро заметила, что тот щурится. Окулист подтвердил её предположения насчет миопии и прописал Енюше очки. Лора Генриховна не удивилась: хорошо она видела только в пределах полуметра, да и Эвелина, проживи она дольше, наверняка бы заметила, как ухудшается её зрение. Близорукость в семье Фишеров была наследственной.
Участок Лоры Генриховны представлял собой сказочный мир, который непременно нужно было изучить. Дом причудливой планировки был облицован стройной «елочкой» из темных деревянных планок, а опоясывали его дырчатые плиты белого ракушечника. Резное крыльцо вело на застекленную веранду, а между ними запиралась на ключ синяя дверь с мутным окошком. Как и остальные дома на линии, дом Лоры Генриховны был выкрашен синей краской, которую сорок лет назад массово уносили домой рабочие тракторного завода. Именно их потомки проживали теперь на востоке Павлозаводска. Деревянные ворота Лоры Генриховны тоже были синими, а окна с голубыми наличниками, которые выглядывали в палисадник, были забраны решетками в виде солнечных лучей.
Между верандой и скромной полосой виноградника, который зеленым пологом наползал на шиферную крышу, тянулась к огороду тропа, выложенная всё тем же ракушечником. По ту сторону виноградника цвели гладиолусы и колыхались на ветру оранжевые брызги календулы. За ними сверкала водяной гладью железная бочка, в дальнем углу огорода утопал в полыни большой сарай с чердаком. К нему прислонялся сарай поменьше, а перед ними одиноко росло деревце красной калины.
Другой угол огорода занимали помидоры и кукуруза. Вынырнув из лабиринта шуршащих зеленых зарослей, Енюша оказывался перед дровяником, где золотились поленницы наколотых дров, пахнущие древесной смолой. Пустым дверным проемом дровяник переходил в темную углярку. Туда Енюша не совался, потому что угольная пыль набивалась в нос, отчего он начинал чихать, кашлять и пускать сопли. Гораздо больше ему нравилась теплая крыша дровяника, разогретая летним солнцем. Сидя на верхней ступени ржавеющей лестницы, по которой на крышу можно было забраться, Енюша разглядывал необъятный огород. За толстыми линзами роговых очков подрагивали золотистые блики. Тяжелый солнечный жар смешивался с одуряющим ароматом ландышей, которые цвели в тени лестницы.
Занимал Енюша просторную спальню, в которой когда-то умер неизвестный ему дедушка Эммануил. Вид из окна озадачивал: серые доски забора с кустами смородины, высокие заросли пырея и птичник, где вальяжно расхаживали индюки с индюшками. Единственным светлым элементом в комнате был детский ковер с картой города, а в целом обстановка была такой же, как при жизни Эммануила. Прямо над кроватью угрожающе нависала репродукция Айвазовского - возле темного берега терпело кораблекрушение судно, заливаемое хлещущими волнами и пунцовыми отсветами заката. В углу стоял стеллаж, набитый однообразными производственными романами, детективами о буднях советских милиционеров и житиями юных партизан. Житийный канон неуклонно соблюдался: описания подвигов неизбежно соседствовали с описаниями жестоких пыток, которым партизан подвергали немецко-фашистские захватчики. Особенно красочно страдали молодогвардейцы. Лору Генриховну не смутило, что Енюша, заинтересовавшись дедушкиным стеллажом, начал читать книги не по возрасту. Она сочла это признаком раннего интеллектуального развития. Однако общий смысл «Молодой гвардии» от Енюши ускользнул. Впечатляли его лишь физические страдания подпольщиков.
Спальня Лоры Генриховны была узкой и тесной, зато окно выходило в палисадник, который летом представлял собой идиллическое зрелище. Вдоль синих кольев забора теснились мальвы, а ствол высокой березы тонул в зарослях чистотела, соком которого Лора Генриховна выжигала себе бородавки. Из любопытства семилетний Енюша наелся его ярко-желтых соцветий. Про ядовитость чистотела он знал, но удержаться не смог. Лора Генриховна осознала, что детская любознательность внука, который так и не понял концепцию смерти, вошла в опасную фазу. Промыв Енюше желудок слабым раствором марганцовки, Лора Генриховна еще раз объяснила ему, что смерть - явление необратимое. Осмыслив это, Енюша заинтересовался её физическими предпосылками. С разрешения Лоры Генриховны он забрал себе старые выпуски журнала «Здоровье» и вырезал оттуда анатомические схемы человеческого организма. Вырезки он пришпилил булавками к ковру и теперь видел их всякий раз, когда засыпал или просыпался.
Этим интерес к мортидо не ограничился. Енюше нравилось прятаться в зарослях кукурузы, ощущая спиной комья почвы, и вслушиваться в шуршание кукурузных стеблей – тугих, зеленых, налитых соком жизни. Глядя в бирюзовое небо сквозь переливающиеся отблески линз, Енюша представлял себя преступником, который в наказание за совершенные дела должен был погибнуть от чужих рук. Он приставлял к голове игрушечный железный наган и сухо щелкал спусковым крючком. По упругим кукурузным листьям разливался свет солнца, напоминающий желтую глазурь. Енюша любил не только представлять себя убитым, но и прокручивать в голове психологическое давление и физическую боль, которые в его детских фантазиях предшествовали имитации смерти. Так манифестировало мазохистское влечение - задолго до полового созревания. Видя на экране телевизора сцены, где кого-то пытали без сексуального подтекста или убивали, Енюша испытывал непонятный положительный интерес. К счастью, ему не нужно было прилагать много усилий, чтобы подпитывать потаенную тягу – с лихвой помогали любимые передачи Лоры Генриховны. Однако к радости примешивался затаенный стыд: почему-то ему не хотелось, чтобы взрослые поняли, что ему нравится смотреть на насилие.
В восемь лет Енюша стал свидетелем преступления. Знойным июльским днем Лора Генриховна с внуком ехали в гости, сидя на потертых сиденьях оранжевого «пазика». Автобус трясся на выбоинах окраинной дороги и отрывисто рокотал, а в окна било разгоряченное солнце. Снаружи сменяли одна другую старые остановки и длинной полосой тянулись приземистые частные дома. Когда автобус остановился возле универмага, чтобы выпустить вспотевших пассажиров, Енюша в очередной раз посмотрел в окно. От удивления он приоткрыл рот. Беленый дом с сумраком палисадника выглядел неприметно, однако возле запертого гаража происходило нечто странное. Один мужчина полулежал на земле, привалившись спиной к выцветшей гаражной двери. В полуметре над его головой темнело на бледно-салатовом фоне большое багровое пятно, от которого тянулся вниз смазанный след. Перед избитым стоял другой мужчина. Он смотрел на проигравшего сверху вниз. Енюша охнул. Он не верил своим глазам. Внезапно на очки легла бабушкина ладонь, и стало темно. Заметив, что внук пристальным взглядом впился в двух дерущихся алкоголиков, Лора Генриховна нахмурилась и решила оградить его от этой сцены. Случившееся она никак не прокомментировала. Другие пассажиры, впрочем, тоже на мужчину с пробитой головой не отреагировали. Вечером Лора Генриховна купила Енюше полкило конфет «Каракум».
В сытых нулевых апокалиптичность общественных настроений пошла на спад, однако жизнь подрастающего Енюши, который не вписался в школьный коллектив, уткнувшись в невидимую стену этики, умиротворенной не была. Зато дома всё оставалось понятным, а Лора Генриховна принимала Енюшу даже таким. Их дом находился на последней линии, и за его высоким забором начинался полосатый лабиринт березняка, который плавно перетекал в загородный лесной массив. Осенью лес полнился грибами, и Лора Генриховна собирала их вместе с внуком. Во время таких прогулок она учила Енюшу ориентироваться в лесу, объясняла, когда лучше собирать те или иные грибы, и рассказывала о ядовитых растениях.
Гулять в лесу Енюше нравилось. Особенный восторг у него вызывали птицы. Иногда он бродил по лесу сам, но слишком далеко не заходил – там начинались болотистые дебри. Лора Генриховна доходчиво объяснила, что если Енюша попадет в трясину, то неизбежно пойдет на дно, а когда вязкая грязь плотно забьет ноздри и рот, в легкие перестанет поступать воздух, и за этим последует мучительная смерть от удушья. Енюша представил, как его легкие медленно наполняются липким почвенным киселем, и решил избегать болот. В результате он часами просиживал на деревьях, рассматривая сквозь окуляры бинокля кукушек, сорокопутов и зябликов. Этого ему было достаточно.
В середине нулевых пришло время помогать Лоре Генриховне по хозяйству. Енюша возил воду, колол дрова и кормил индюков. Когда он набрался опыта, бабушка доверила ему еще и забой. Занимался Енюша этим без удовольствия, однако отвращения тоже не испытывал. Пожалуй, лишь однажды он забил индюка с некоторым злорадством. Тот индюк вел себя задиристо. Он неприкрыто демонстрировал враждебность, стоило только четырнадцатилетнему Енюше появиться в птичнике с ведрами, полными пшеничных отрубей и свежей ботвы. Черные перья вставали дыбом, веером распускался пестрый хвост, а сам индюк надувался, как вязкий чернильный шар. Трупно-голубая голова косилась на Енюшу черной жемчужиной глаза, кожистая бахрома зоба багровела от приливающей крови. Индюк принимался клекотать, будто у него в горле тоже была мокрота. На клюве подергивалась длинная малиновая сопля. Пока Енюша рассыпал корм по корытам, индюк проворно подбегал и клевал его в обнаженную голень. Ругаясь, отпихивая жуткую птицу кровоточащей ногой и гремя пустыми ведрами, Енюша сбегал, а индюк преследовал его до калитки, на предельной громкости булькая глоткой и дергаясь, словно его настиг эпилептический припадок.
В августе загадочным образом погибли два самца. У обоих были пробиты макушки. Поразмыслив, Лора Генриховна велела внуку сидеть перед вольером и следить за птицами. Нужно было вычислить агрессивную особь. Через три дня Енюша увидел то, чему не очень-то удивился. Задиристый индюк победил в драке самца, который был меньше и слабее, надавил лапой на шею противника, прижав его к земле, и принялся часто вбивать в его темечко острие клюва.
Обычно самая темная часть спальни, где спал в латунной кровати хозяин дома, скрывалась за желтой льняной занавеской, кольца которой скользили по гардине с едва слышным скрежетом, однако сейчас занавеска была отдернута. На прикроватной тумбочке лежал обложкой вверх раскрытый Уголовный кодекс. В пепельнице догорала сигарета из початой пачки «Marlboro», а серые изгибы дыма отражались в толстых линзах очков, обрамленных прямоугольной черной оправой.
Фишер лежал на кровати и близоруко щурился. Запястья сдавливало холодом, который тягуче отдавался в мозгу. Из-под закатанных рукавов свежей, чуть ли не хрустящей белой рубашки тянулись жилистые руки, прикованные стальными наручниками к решетчатой спинке кровати. На правой ладони виднелись застарелые обрывки ожога, полученного в раннем детстве. Два косых шрама на левой руке, оставшиеся после некачественной работы врача, перечеркивали синеватый рельеф вен и черную татуировку от запястья до локтя, изображающую поварской нож. Хоть Фишеру тогда и удалась попытка членовредительства, медперсонал отнесся к этому отнюдь не благосклонно.
Сухощавый торс среди складок расстегнутой рубашки тоже намекал на прежнее неблагополучие. На животе белела вмятина шрама, который в середине десятых был свежим ножевым ранением, а кожу над ребрами покрывали отметины сигаретных ожогов и порезов. Одни уже зарубцевались, а другим это лишь предстояло. Эти шрамы были получены уже добровольно. Их наносила Неля – молодая женщина двадцати пяти лет, которая сейчас сидела поверх бедер Фишера, одетая во всё черное: узкие штаны со змеиным узором и свободную блузку, под которой скрывалась небольшая грудь. Пергидрольно-желтые волосы густой челкой спускались к бровям, а над плечами завивались крупными кольцами, как древесная стружка. Время от времени Неля выдыхала дым Фишеру в лицо и стряхивала пепел прямо на старый клетчатый плед.
Вопреки хрупкой конституции, невысокая и тонкокостная Неля выглядела иногда весьма угрожающе – её в такие моменты переполняло злое веселье, которое не могли сгладить ни мелкие, как у куницы, черты заостренного лица, ни румяные щеки, ни кокетливые родинки на правой щеке, образующие ромб. Фишер пока не мог видеть Нелю. Всё, что выходило за пределы пятнадцати сантиметров обзора, было для него скоплением цветных пятен, в которых, впрочем, угадывался женский силуэт. Очень размытый. Без очков Фишер становился беспомощным. Однако внешность Нели он помнил и при желании мог её воспроизвести. Сквозь брючный твид и узорчатый бархат Фишер слабо ощущал теплую близость чужого тела. От нетерпения он невольно вздрогнул. Тихо хрустнула панцирная сетка.
- Не нервничай так, мудила, - веско произнесла Неля и дала ему хлесткую пощечину, - тебя что-то не устраивает?
- Нет, я просто… - неуверенно попытался оправдаться Фишер, однако не договорил и поежился. Ищущий взгляд, плохо воспринимающий пространство, придавал ему беззащитный вид. Угольно-карие глаза смотрели сквозь Нелю, спутанные черные волосы липли ко лбу, а резковатые черты лица с чуть ввалившимся щеками и синеватыми подглазьями делали Фишера похожим на мученика. Впечатление портил только крючковатый нос с легкой горбинкой, напоминающий клюв плотоядной птицы.
- Для кредитного мошенника ты слишком тупой. Если не прекратишь дергаться, я сверну тебе шею.
- Всё не так плохо, мы могли бы договориться… - забормотал Фишер. Угроза мнимой смерти и невозможность заглушить нарастающее возбуждение пробуждали в кишках странное чувство – нечто размытое, отдаленно напоминающее страх, который Фишер испытывал крайне редко.
- Ага-ага, - брезгливо перебила Неля, не глядя на него. Она закуривала новую сигарету, - ебало завали. Я тебя пока еще ни о чем не спрашивала, а ты вьешься, как уж на сковородке. На воре шапка горит?
Он нервно сглотнул. Шевельнулся острый выступ кадыка.
- Жить хочешь, гондон? – спросила Неля и стряхнула пепел ему на рубашку.
- Хочу, - пробормотал Фишер.
- А не получится! – хохотнула она, качнув светлыми буклями. Фишер подавленно отвернулся туда, где маячил неясный просвет зашторенного окна.
- Кто ж тебе виноват? Не надо было с такими куриными мозгами в аферы лезть. Лучше бы ты просто в банке сидел и бумажки подписывал, другому тебя в шараге всё равно не учили.
Неля положила дымящуюся сигарету на край пепельницы, где было уже два потухших окурка. Запустив пальцы с острыми ногтями Фишеру в волосы, она силой повернула его лицо к себе:
- В глаза мне смотри, гнида!
Сделать этого он не мог при всем своем желании. Требование было заведомо невыполнимым. Впрочем, в этом его смысл и заключался.
- Ты не только тупой, ты еще и слепой! – со злостью процедила Неля. – Как вообще можно было родиться таким ущербным? Из-за низкой самооценки людей кидал? А, сволочь?
- Перестань, пожалуйста…
Закончить фразу Фишер не успел. Еще сильнее вцепившись ему в волосы, Неля принялась методично лупить его ладонью по щекам. Фишер тяжело дышал сквозь стиснутые зубы. Щеки краснели от ударов, а темные глаза наливались тяжелым, как смола, блеском. Что-то внутри мешало Фишеру издавать звуки, входя в противоречие с желанием это делать.
Изучающе вглядевшись в его лицо, которое хоть и выражало эмоции, но, как и всегда, скудно, Неля успокоилась. Крадущимся движением её левая кисть переползла на уязвимую шею, и Фишер ощутил, как горло предупреждающе сдавили пальцы. Лукаво покосившись на впадину, подчеркнутую костным изгибом ключицы, Неля улыбнулась и выставила напоказ мелкие зубы. Свободной рукой она потянулась к пепельнице, где из отложенной сигареты до сих пор струился зыбкий дым.
- У тебя глотка на нож напрашивается, Евгеша, - с дурной ухмылкой произнесла Неля, издевательски проговаривая каждое слово, - видел когда-нибудь убийц? Живьем?
- Нет, - тихо ответил Фишер. Он заметил, что в пелене размытых пятен пляшет крохотная рыжая искра. Он понял, что это такое, и его взгляд подернулся дремотной поволокой.
- Какой-то ты глупенький мошенник, - подытожила Неля, снова выдохнув дым ему в лицо, - живешь в ебенях, где тебя вряд ли кто-то услышит, малознакомую женщину домой пустил… С такой-то кредитной историей!
- Прекрати!.. – неуверенно прохрипел Фишер, однако сорвался на влажный бронхитный кашель. Чуть ослабив хватку на горле, Неля подождала, пока он прокашляется – хрипло и лающе, как цепной кобель. Когда кашель прекратился, а Фишер молча кивнул, показывая, что всё в порядке, Неля злорадно засмеялась и красноречиво поднесла к его лицу сигарету:
- Что ты, сучара такой, возмущаешься? Раньше надо было думать. Сейчас тебе будет очень больно, ты просто охуеешь. Но ты сам напросился. Надо было мозги включать.
Снова сдавив шею Фишера пальцами, Неля жадно всмотрелась в его запрокинутое лицо. Фишер дышал часто и поверхностно, как загнанный олень. Немигающий взгляд почерневших глаз бегал, задерживаясь то на смутном силуэте Нели, то на янтарном пятне сигареты, которое вдруг стало чрезмерно различимым. Смолистый запах дыма набивался в ноздри – слишком уж близко находился его источник.
Неля широко улыбнулась и склонила голову на бок. Раскаленный конец сигареты зарылся в надключичную впадину. Фишер сдавленно вскрикнул, дернувшись всем телом, но машинально сжал зубы в страдальческом оскале. Вдавив сигарету чуть глубже, Неля медленным поворотом потушила её об кожу. К придушенному шипению примешался болезненный стон. Неля щелчком пальцев отправила окурок на дощатый пол, покрытый не одним слоем охряной краски. У Фишера подрагивала челюсть. Он смотрел куда-то в потолок и чуть слышно подвывал сквозь зубы. Кожу над ключицей въедливо жгло. Вокруг мясисто-красной точки ожога розовел тонкий ободок.
- Да хватит уже скулить! – прикрикнула Неля, нехорошо изменившись в лице, и отвесила Фишеру особенно сильную пощечину. Он сразу же утих, замер и перевел взгляд на Нелю. Немигающие глаза влажно заблестели.
- Я больше не буду… - тихо произнес он. Обычно безучастный голос прозвучал немного слезливо.
- Пиздец, какой ты жалкий. Мне аж противно стало. Что ты разнылся? Сейчас еще хуже сделаю.
Вкрадчиво соскользнув на скрипнувший пол, Неля встала возле кровати и вытащила из брюк Фишера толстый ремень с увесистой пряжкой. Фишер закрыл глаза и оказался в утробной темноте. Точно такая же темнота застилала ему обзор в раннем детстве, когда он не мог заснуть, переваривая жестокие ребяческие мысли. Закусив губу, он позволил Неле перекатить себя на живот. Холодные кольца наручников еще сильнее врезались в запястья. Надавив пятерней на затылок Фишера, Неля уткнула его лицом в подушку. Однако возможность дышать оставалась, хоть и неполноценная.
- Если опять начнешь орать, зарежу, как свинью, понял? – угрожающе проговорила Неля, наклонившись к его уху. Фишер утвердительно промычал в подушку.
Само собой, это требование тоже оказалось невыполнимым. Фишер дергался, невнятно выл и всхлипывал, а на голой спине набухали малиновые полосы. Кое-где пунктиром проступали крохотные капли крови. Иногда Фишер вздрагивал слишком резко, и они багровыми точками отпечатывались на белом сукне сбившейся рубашки. Когда плач начал пробиваться даже сквозь подушку, Неля отложила ремень и грубым движением перекатила Фишера обратно на спину. На мятой наволочке она заметила влажные пятна. Лицо Фишера было мокрым от слез, а заплаканные глаза смотрели осоловело, будто их взгляд был направлен куда-то внутрь, а не вовне.
- До тебя же доходит, сука очкастая, что я тебя в любом случае придушу? – ледяным тоном спросила Неля, глядя на Фишера сверху вниз. – За всю эту херню, которой ты занимался последние полгода, пока людей кидал?
- Да-а… - гортанно простонал он.
- Возражений нет?
Фишер молча помотал головой. Если в его лице и читалась осознанность, то была она крайне аморфной.
- Славный мальчик, - злорадным тоном произнесла Неля, потрепав Фишера по голове. От прикосновения он напрягся и тяжелым медленным вдохом втянул воздух. Мягко зашуршала ткань, и в черном силуэте Нели обозначилось светлое пятно, которое, судя по конфигурации туловища, было узкими бедрами. Фишер прищурился, пытаясь сфокусировать зрение, но исчез только бледный ореол вокруг светлого пятна. Неля прекрасно знала, насколько плохо видит Фишер, и никогда не подходила достаточно близко, глумливо держась на расстоянии.
Снова протяжно скрипнул дощатый пол. По холодеющим от наготы бедрам мягко скользнули приспущенные брюки, а затем и колкие прикосновения пальцев с острыми ногтями. Фишер превратился в обостренный нерв. Въедливо заныла панцирная сетка, и на бедра навалилась теплая тяжесть субтильного туловища. Фишер застонал, но усевшаяся сверху Неля обеими руками сдавила его горло. Стон на полузвуке превратился в жалобный клёкот.
Неспешно двигаясь, Неля иногда разжимала пальцы. Фишер хватал воздух ртом, но глотку снова сдавливало. Воздух переставал поступать, Фишер надсадно хрипел, а на покрасневшем лице закатывались глаза. В какой-то момент движения Нели стали набирать темп, а на самом пике ощущений она машинально сжала шею Фишера – гораздо сильнее, чем до этого. Наслоились друг на друга бессилие скованных рук, свинцовая тяжесть чужих пальцев на горле и бледная имитация насильственной смерти. Перед глазами потемнело, зашумела кровь в голове, и Фишер судорожно дернулся - ему наконец удалось кончить. Цепкие пальцы на горле разжались. Фишер тяжело дышал и приходил в себя. Глаза с расширенными зрачками стали совсем черными, а красноватое лицо покрылось испариной. От оргазма и удушья тягуче звенело в ушах.
Тема дыхания с рождения была для Фишера болезненной. Родился он со слабыми легкими, а из-за витающей в воздухе угольной пыли еще в детстве обзавелся хроническим бронхитом, который стал неизменным спутником его жизни. С октября по апрель Фишер надрывно кашлял мокротой, стоически терпел нескончаемый насморк и страдал от одышки, если требовалось преодолевать пешком длинные расстояния. Курение лишь усугубляло ситуацию. Когда становилось совсем невмоготу, Фишер выкуривал по одной пачке в день вместо двух. Зрение тоже не радовало. Родившись слегка близоруким, Фишер годами наблюдал, как мир вокруг расплывается, трансформируясь в пестрое месиво, а стекла очков прибавляют в толщине. Выходить без очков на улицу стало рискованно, но в домашней обстановке Фишер по-прежнему ориентировался отлично, хоть и по памяти.
С Нелей он познакомился в прошлом году. Близкими друзьями они не стали, зато образовали устойчивую пару. Несколько раз в месяц они встречались в доме Фишера и занимались жестким сексом, а Фишер на короткий период становился эмоциональным. Однако в обыденной жизни он держался совсем иначе, нежели на сессиях. Когда Фишер задумывался, самолюбивый взгляд становился холодным, как у чучела из мастерской таксидермиста. Если же он контролировал себя и отслеживал, какие чувства изображает его лицо, то производил вполне приятное впечатление, однако мимика слегка запаздывала – все-таки это были искусственные чувства, призванные поддерживать маску нормальности. Улыбаться Фишер старался, не размыкая губ, потому что естественная улыбка полностью обнажала верхнюю десну и крупные ровные зубы, плотно пригнанные друг к другу. Опыт показал, что даже скупую ухмылку люди воспринимают лучше, чем такой оскал.
Семейное древо Фишера было интернациональным: поволжские немцы и евреи по линии матери, кубанские казаки и украинцы по линии отца. Однако по паспорту он был русским, а национальной идентичности не имел. Эвелина Эммануиловна Фишер родила сына, когда ей было восемнадцать лет. В октябре путчисты обстреляли из танков Белый дом, в ноябре Эвелина разрешилась, а в декабре приняли новую конституцию РФ. Ребенок родился в период тяжелых решений.
В официальном браке Эвелина не состояла, зато сожительствовала с Петром Плахотнюком, выпивающим работником металлургического завода и владельцем однушки в Смородинском микрорайоне. Воспоминаний об этом периоде жизни у Фишера почти не осталось, а немногие сохранившиеся были слишком зыбкими и напоминали скорее фантазмы, дорисованные впечатлительным детским воображением. Фишеру отчетливо запомнился длинный балкон, куда выходили окна зала и кухни. На балкон часто залетали голуби, которые потом нервно метались между шероховатыми серыми стенами и стеклами окон.
Петру нравилось издеваться над людьми, но лишь над теми, которые были заведомо слабее – чтобы точно не проиграть. Эвелина позволяла себя избивать и терпела унижения с упорством христианской мученицы, однако сына в обиду не давала. Почему-то она считала Женю исключительно своим ребенком и в супружеских ссорах всегда подчеркивала, что Пётр внес в сына только биологический вклад, следовательно, полноценным родителем его считать нельзя. Наличие ребенка, который был воплощением его несостоятельности, выводило Петра из себя. Очередного упрека в плохом отцовстве он не выдержал. Схватив в охапку двухлетнего мальчика, Пётр прижал его правую ладонь к раскаленной конфорке, с которой Эвелина только что сняла сковородку жареной картошки. Золотисто-бледная картошка источала аромат специй и была густо посыпана зелеными колечками свежего лука. Эта сцена тоже стала для взрослого Фишера фантазмом. Однако отчетливые детали в нем все-таки присутствовали: раскаленный поток боли, истошный вопль матери и сладковатый запах горелого мяса. На следующий день Эвелина поспешно собрала вещи и сбежала вместе с сыном, пока Пётр был на смене. Мешкать ей не хотелось. Она боялась сообщать Петру о расставании.
Первое время пришлось пожить у Лоры Генриховны, матери Эвелины, с которой последняя уже два года была в ссоре. Лора Генриховна отличалась упрямым характером. С радостью встретив развал СССР, она перешла из государственных нотариусов в частные, чем обеспечила себе приемлемый заработок. С дочерью, которая сбежала от сожителя, она так и не помирилась, однако помогла ей финансово, и Эвелина сняла квартиру в Матросовском микрорайоне, недалеко от промзоны. Женя быстро забыл отца. Какое-то время о нем напоминали лишь заметные рубцы на ладони, но с возрастом кожа растянулась, а рубцы померкли.
Фишер смутно помнил, что мать дорожила магнитофоном, который громко играл песни группы «Комбинация», и работала продавщицей на рыбном рынке, который располагался прямо во дворе, под окнами кисельно-розовой пятиэтажки. Уходя на работу, мать запирала Женю в квартире. Поначалу он орал дурниной, а потом привык и стал воспринимать её отсутствие спокойно. Однажды мать вышла в магазин, а обратно почему-то не вернулась. Четырехлетний Женя остался в запертой квартире один. Первые сутки он не тревожился: жевал батон, а воду черпал из тазика, в котором дожидались разделки мертвые окуни. Когда хлеб закончился, Женя осознал, что мать вряд ли вернется, а из еды остался только он сам. Его монотонные вопли привлекли внимание соседей, а потом делом занялась милиция. Ни Эвелину Фишер, ни её труп так и не нашли. Повзрослев, Фишер счел, что мать пропала в лесополосе, став одним из неопознанных подснежников, который в итоге разложился и скелетировался.
Из официальных родственников оставалась только бабушка, Лора Генриховна. К внуку она относилась благосклонно и ласково называла его Енюшей. Фишер вернулся в её дом, чтобы прожить там до совершеннолетия. Лора Генриховна, имя которой намекало на Ленина и Октябрьскую революцию, родилась в год смерти Сталина. Она носила пепельно-белое каре и большие очки в роговой оправе, хранила за кроватью заряженное ружье и обожала искусственные цветы, хотя у многих они ассоциировались исключительно с похоронами. Чуть ли не в каждой комнате можно было заметить либо корзинку с искусственным букетом, либо округлый венок, висящий на гвозде. Единственным живым растением на весь дом была пальма в деревянной кадке, которая стояла на железном табурете и экзотически украшала зал.
Свободное время Лора Генриховна проводила за телевизором «Sony», наслаждаясь то детективными сериалами канала НТВ, то итальянским сериалом «Спрут», то «Криминальной Россией», которая ей особенно нравилась. Обычно «Криминальную Россию» транслировали в прайм-тайм по выходным. Полутораминутная заставка представляла собой экстракт десятилетия: шесть изувеченных трупов, оперативники, которые винтили братка, а затем укладывали его лицом в капот, ампула морфия в грязной ладони и нож с переливающимся лезвием. Енюша в такие моменты находился возле Лоры Генриховны и строил на полу городки из кубиков. Его детские игры сопровождались замогильным голосом диктора Полянского, который без обиняков описывал останки расчлененных жертв, и не менее замогильной музыкой. Передача была настолько откровенной, что в ней нередко мелькали отрывки из фильмов небезызвестного Анатолия Сливко. Заслуженный учитель РСФСР то убегал из кадра, оставляя перед кинокамерой «Кварц» дергающегося в петле пионера, то деловито вытаскивал из брючной штанины жертвы ногу, которую перед этим отделил от трупа туристическим топориком. Последние сезоны «Криминальной России» стали немного мягче, и в них даже появилась цензура – начали размывать пикселями половые органы трупов.
Телевидение того периода в целом отличалось предельной откровенностью и в лице Невзорова не скупилось на откровенно провокационные передачи про лесбиянок в женской колонии или каннибалов. Репортаж, который назывался «Ковырялки», глумливо сопровождался мажорной прелюдией из оперы «Кармен». В другом репортаже съемочная группа посмеивалась над кулинарной книгой «Мужчина на кухне», которая обнаружилась в шкафу питерского каннибала. Невзоров указывал на банку с супом и задавал вопросы в духе «Это Эдик был такой наваристый?», а каннибал скромно улыбался в ответ на его шутки.
- Почему он сделал из Эдика суп? – спросил Енюша, не отрываясь от кубиков. Он находился в стадии, когда ребенок начинает интересоваться окружающим миром, и вовсю задавал вопросы.
- Потому что он людоед, - коротко ответила Лора Генриховна, но на другой канал не переключила. На экране показывали обглоданные кости буро-коричневого цвета. При жизни эти кости были Эдиком.
Доказывая вечное единство Эроса и Танатоса, неприкрытая чернуха удивительным образом сочеталась с линейкой жизнеутверждающих передач: «Сам себе режиссер», «Пока все дома», «Играй, гармонь любимая!» и «Поле чудес» - одной из первых ласточек свободного рынка, бессменным лицом которой являлся Леонид Якубович. Оценить сарказм, скрытый в названии шоу, Фишер смог лишь годы спустя: Поле Чудес находилось в Стране Дураков. Иногда Лора Генриховна смотрела веселые ситкомы про падающий самолет или немецких солдат времен Первой мировой войны.
Несмотря на эмоциональную холодность, за здоровьем внука Лора Генриховна следила и быстро заметила, что тот щурится. Окулист подтвердил её предположения насчет миопии и прописал Енюше очки. Лора Генриховна не удивилась: хорошо она видела только в пределах полуметра, да и Эвелина, проживи она дольше, наверняка бы заметила, как ухудшается её зрение. Близорукость в семье Фишеров была наследственной.
Участок Лоры Генриховны представлял собой сказочный мир, который непременно нужно было изучить. Дом причудливой планировки был облицован стройной «елочкой» из темных деревянных планок, а опоясывали его дырчатые плиты белого ракушечника. Резное крыльцо вело на застекленную веранду, а между ними запиралась на ключ синяя дверь с мутным окошком. Как и остальные дома на линии, дом Лоры Генриховны был выкрашен синей краской, которую сорок лет назад массово уносили домой рабочие тракторного завода. Именно их потомки проживали теперь на востоке Павлозаводска. Деревянные ворота Лоры Генриховны тоже были синими, а окна с голубыми наличниками, которые выглядывали в палисадник, были забраны решетками в виде солнечных лучей.
Между верандой и скромной полосой виноградника, который зеленым пологом наползал на шиферную крышу, тянулась к огороду тропа, выложенная всё тем же ракушечником. По ту сторону виноградника цвели гладиолусы и колыхались на ветру оранжевые брызги календулы. За ними сверкала водяной гладью железная бочка, в дальнем углу огорода утопал в полыни большой сарай с чердаком. К нему прислонялся сарай поменьше, а перед ними одиноко росло деревце красной калины.
Другой угол огорода занимали помидоры и кукуруза. Вынырнув из лабиринта шуршащих зеленых зарослей, Енюша оказывался перед дровяником, где золотились поленницы наколотых дров, пахнущие древесной смолой. Пустым дверным проемом дровяник переходил в темную углярку. Туда Енюша не совался, потому что угольная пыль набивалась в нос, отчего он начинал чихать, кашлять и пускать сопли. Гораздо больше ему нравилась теплая крыша дровяника, разогретая летним солнцем. Сидя на верхней ступени ржавеющей лестницы, по которой на крышу можно было забраться, Енюша разглядывал необъятный огород. За толстыми линзами роговых очков подрагивали золотистые блики. Тяжелый солнечный жар смешивался с одуряющим ароматом ландышей, которые цвели в тени лестницы.
Занимал Енюша просторную спальню, в которой когда-то умер неизвестный ему дедушка Эммануил. Вид из окна озадачивал: серые доски забора с кустами смородины, высокие заросли пырея и птичник, где вальяжно расхаживали индюки с индюшками. Единственным светлым элементом в комнате был детский ковер с картой города, а в целом обстановка была такой же, как при жизни Эммануила. Прямо над кроватью угрожающе нависала репродукция Айвазовского - возле темного берега терпело кораблекрушение судно, заливаемое хлещущими волнами и пунцовыми отсветами заката. В углу стоял стеллаж, набитый однообразными производственными романами, детективами о буднях советских милиционеров и житиями юных партизан. Житийный канон неуклонно соблюдался: описания подвигов неизбежно соседствовали с описаниями жестоких пыток, которым партизан подвергали немецко-фашистские захватчики. Особенно красочно страдали молодогвардейцы. Лору Генриховну не смутило, что Енюша, заинтересовавшись дедушкиным стеллажом, начал читать книги не по возрасту. Она сочла это признаком раннего интеллектуального развития. Однако общий смысл «Молодой гвардии» от Енюши ускользнул. Впечатляли его лишь физические страдания подпольщиков.
Спальня Лоры Генриховны была узкой и тесной, зато окно выходило в палисадник, который летом представлял собой идиллическое зрелище. Вдоль синих кольев забора теснились мальвы, а ствол высокой березы тонул в зарослях чистотела, соком которого Лора Генриховна выжигала себе бородавки. Из любопытства семилетний Енюша наелся его ярко-желтых соцветий. Про ядовитость чистотела он знал, но удержаться не смог. Лора Генриховна осознала, что детская любознательность внука, который так и не понял концепцию смерти, вошла в опасную фазу. Промыв Енюше желудок слабым раствором марганцовки, Лора Генриховна еще раз объяснила ему, что смерть - явление необратимое. Осмыслив это, Енюша заинтересовался её физическими предпосылками. С разрешения Лоры Генриховны он забрал себе старые выпуски журнала «Здоровье» и вырезал оттуда анатомические схемы человеческого организма. Вырезки он пришпилил булавками к ковру и теперь видел их всякий раз, когда засыпал или просыпался.
Этим интерес к мортидо не ограничился. Енюше нравилось прятаться в зарослях кукурузы, ощущая спиной комья почвы, и вслушиваться в шуршание кукурузных стеблей – тугих, зеленых, налитых соком жизни. Глядя в бирюзовое небо сквозь переливающиеся отблески линз, Енюша представлял себя преступником, который в наказание за совершенные дела должен был погибнуть от чужих рук. Он приставлял к голове игрушечный железный наган и сухо щелкал спусковым крючком. По упругим кукурузным листьям разливался свет солнца, напоминающий желтую глазурь. Енюша любил не только представлять себя убитым, но и прокручивать в голове психологическое давление и физическую боль, которые в его детских фантазиях предшествовали имитации смерти. Так манифестировало мазохистское влечение - задолго до полового созревания. Видя на экране телевизора сцены, где кого-то пытали без сексуального подтекста или убивали, Енюша испытывал непонятный положительный интерес. К счастью, ему не нужно было прилагать много усилий, чтобы подпитывать потаенную тягу – с лихвой помогали любимые передачи Лоры Генриховны. Однако к радости примешивался затаенный стыд: почему-то ему не хотелось, чтобы взрослые поняли, что ему нравится смотреть на насилие.
В восемь лет Енюша стал свидетелем преступления. Знойным июльским днем Лора Генриховна с внуком ехали в гости, сидя на потертых сиденьях оранжевого «пазика». Автобус трясся на выбоинах окраинной дороги и отрывисто рокотал, а в окна било разгоряченное солнце. Снаружи сменяли одна другую старые остановки и длинной полосой тянулись приземистые частные дома. Когда автобус остановился возле универмага, чтобы выпустить вспотевших пассажиров, Енюша в очередной раз посмотрел в окно. От удивления он приоткрыл рот. Беленый дом с сумраком палисадника выглядел неприметно, однако возле запертого гаража происходило нечто странное. Один мужчина полулежал на земле, привалившись спиной к выцветшей гаражной двери. В полуметре над его головой темнело на бледно-салатовом фоне большое багровое пятно, от которого тянулся вниз смазанный след. Перед избитым стоял другой мужчина. Он смотрел на проигравшего сверху вниз. Енюша охнул. Он не верил своим глазам. Внезапно на очки легла бабушкина ладонь, и стало темно. Заметив, что внук пристальным взглядом впился в двух дерущихся алкоголиков, Лора Генриховна нахмурилась и решила оградить его от этой сцены. Случившееся она никак не прокомментировала. Другие пассажиры, впрочем, тоже на мужчину с пробитой головой не отреагировали. Вечером Лора Генриховна купила Енюше полкило конфет «Каракум».
В сытых нулевых апокалиптичность общественных настроений пошла на спад, однако жизнь подрастающего Енюши, который не вписался в школьный коллектив, уткнувшись в невидимую стену этики, умиротворенной не была. Зато дома всё оставалось понятным, а Лора Генриховна принимала Енюшу даже таким. Их дом находился на последней линии, и за его высоким забором начинался полосатый лабиринт березняка, который плавно перетекал в загородный лесной массив. Осенью лес полнился грибами, и Лора Генриховна собирала их вместе с внуком. Во время таких прогулок она учила Енюшу ориентироваться в лесу, объясняла, когда лучше собирать те или иные грибы, и рассказывала о ядовитых растениях.
Гулять в лесу Енюше нравилось. Особенный восторг у него вызывали птицы. Иногда он бродил по лесу сам, но слишком далеко не заходил – там начинались болотистые дебри. Лора Генриховна доходчиво объяснила, что если Енюша попадет в трясину, то неизбежно пойдет на дно, а когда вязкая грязь плотно забьет ноздри и рот, в легкие перестанет поступать воздух, и за этим последует мучительная смерть от удушья. Енюша представил, как его легкие медленно наполняются липким почвенным киселем, и решил избегать болот. В результате он часами просиживал на деревьях, рассматривая сквозь окуляры бинокля кукушек, сорокопутов и зябликов. Этого ему было достаточно.
В середине нулевых пришло время помогать Лоре Генриховне по хозяйству. Енюша возил воду, колол дрова и кормил индюков. Когда он набрался опыта, бабушка доверила ему еще и забой. Занимался Енюша этим без удовольствия, однако отвращения тоже не испытывал. Пожалуй, лишь однажды он забил индюка с некоторым злорадством. Тот индюк вел себя задиристо. Он неприкрыто демонстрировал враждебность, стоило только четырнадцатилетнему Енюше появиться в птичнике с ведрами, полными пшеничных отрубей и свежей ботвы. Черные перья вставали дыбом, веером распускался пестрый хвост, а сам индюк надувался, как вязкий чернильный шар. Трупно-голубая голова косилась на Енюшу черной жемчужиной глаза, кожистая бахрома зоба багровела от приливающей крови. Индюк принимался клекотать, будто у него в горле тоже была мокрота. На клюве подергивалась длинная малиновая сопля. Пока Енюша рассыпал корм по корытам, индюк проворно подбегал и клевал его в обнаженную голень. Ругаясь, отпихивая жуткую птицу кровоточащей ногой и гремя пустыми ведрами, Енюша сбегал, а индюк преследовал его до калитки, на предельной громкости булькая глоткой и дергаясь, словно его настиг эпилептический припадок.
В августе загадочным образом погибли два самца. У обоих были пробиты макушки. Поразмыслив, Лора Генриховна велела внуку сидеть перед вольером и следить за птицами. Нужно было вычислить агрессивную особь. Через три дня Енюша увидел то, чему не очень-то удивился. Задиристый индюк победил в драке самца, который был меньше и слабее, надавил лапой на шею противника, прижав его к земле, и принялся часто вбивать в его темечко острие клюва.
- Бабу-уль, иди сюда! – зычно прокричал Енюша, не отрывая взгляда от индюка, который забивал немощного собрата насмерть. Останавливать индюка не хотелось.
Душегуба Лора Генриховна отселила в одиночный вольер, который выполнял функцию карцера. И хотя должный вес индюк не набрал, она приказала его забить. Енюша, как и всегда, послушался. Индюк отчаянно хлопал крыльями, но его всё равно засунули в холщовый мешок с прорезью для головы. По участку эхом разносился истеричный клёкот. Енюша уложил обездвиженного индюка на дубовую колоду, темную от птичьей крови, и ударил топором по складчатой шее. Клёкот оборвался. Отделенная голова качнулась на краю колоды и упала на влажный чернозем.
С того дня прошло тринадцать лет. Фишер до сих пор проживал в том же доме возле леса – вот только уже без Лоры Генриховны. Лора Генриховна скончалась в восемнадцатом году. Вступив в права наследования, Фишер не стал делать ремонт. На тот момент ему было всё равно, что находится вокруг и как оно выглядит. В зале до сих пор стояла пальма в деревянной кадке, висела на стене корзинка с искусственными пионами, а над входом в узкую спальню склонялось черное чучело – голова глухаря на толстой шее. За прозрачным стеклом чешской стенки покрывались пылью обеденный сервиз с супницей, чайный сервиз из синеватого фарфора и хрупкие кофейные чашечки. Особняком стояли фужеры из щербатого хрусталя, которые тоже покрывал тонкий слой пыли. Словно в доме Лоры Генриховны мутным осколком застыло переходное время. О современности напоминала лишь книжная полка, где хранились фотокамера и толстая энциклопедия «Птицы России». Интерес жильца к точным наукам выдавала научно-популярная литература с характерными наименованиями: «Наука параллельных вселенных», «Путешествия во времени», «Временные парадоксы»…
Фишер лежал на пружинном диване с красной ковровой накидкой. Он смотрел сквозь очки в беленый потолок и курил. Время от времени он вслепую протягивал руку к пепельнице, стоящей на твердом подлокотнике дивана. Неля сидела в массивном кресле, накрытом такой же ковровой накидкой, и нанизывала на пальцы ажурные серебряные кольца. Перед сессиями она всегда снимала их, чтобы не травмировать лицо Фишера слишком сильно. Ехидным тоном Неля рассказывала о родственниках, которых считала излишне нервными. Фишер поддерживал беседу: то издавал захлебывающийся смех, то начинал развернуто отвечать. Но потом задумывался и обрывал мысль, недоговаривая фразу.
- Какой-то ты квёлый сегодня, Евгеша, - произнесла вдруг Неля, надев на мизинец последнее из колец, - как больной гусь. С тобой всё в порядке?
- Всё нормально. Я спал четыре часа. Слишком рано проснулся, а потом не смог заснуть, - честно сообщил Фишер, рассматривая засохшие капельки крови на подоле белой рубашки. Застирывать её он не планировал. Старые кровавые пятна придавали сессиям особенно жестокий оттенок.
Неля вернулась к теме нелюбимых родственников. Выкуривая очередную сигарету, Фишер слушал рассказ о племяннице Нели, которая опять ушла из дома. Судя по изложенным фактам, пубертатная Жанна гуляла где хотела и сколько хотела, а в школе злобно подшучивала над сверстницами.
- Придет сама, ничего страшного. Неделя это еще ерунда, она и на месяц может уйти. Зря они заявление написали, - подытожила Неля и взяла сигарету из пачки Фишера.
- Сколько ей лет? – поинтересовался он. Вопросы неумолимо подходили к концу. Нужно было тактично сменить тему.
- Четырнадцать, - небрежно ответила Неля. Заметив, что в зал крадущейся походкой проник Нерон – черный кот с белыми лапами и манишкой, Неля подхватила его на руки. Серебряные кольца утонули в длинной шерсти. Нерон недовольно зафыркал. Фишер зашелся надсадным кашлем. Мокрота болезни заменила ему болотную грязь, которой его когда-то пугала Лора Генриховна.
- Евгеш, не хочешь сегодня вечером в бар?
- Не смогу, у меня смена. Но спасибо за приглашение.
Время от времени Неля вытаскивала его в люди. Фишера принимали без отторжения, а он даже производил хорошее впечатление - нужно было всего лишь рассказывать забавные, но приличные истории из жизни, интересоваться анамнезом собеседника и приятно улыбаться. Однако сегодняшнюю ночь Фишеру предстояло провести в морге.
Проведя Нелю через тёмную прихожую, полупустой коридор и промерзшую застекленную веранду, Фишер вышел на крыльцо первым. В пальцах он вертел сигарету. Асфальтированный двор плавал в сыром снегу оттепели. Под сизыми клочьями облаков надрывно каркали возвращающиеся грачи. Неподвижно поблескивал гофрированный металл высоких ворот. Из дощатой будки выскочил, оскалив пасть, черно-рыжий пес по кличке Шерхан – помесь алабая и немецкой овчарки. Он почуял в Неле чужака и готов был на неё напасть. Когда во дворе оказывались посторонние, Шерхан начинал лаять, как лагерный вертухай, и пытался сорваться с цепи. Слушался он только Фишера. И успокаивался лишь тогда, когда получал от него соответствующий приказ.
- Шерхан, фу! – строго прикрикнул Фишер. Пес закрыл пасть и вернулся в будку. Неля быстро добралась до калитки и вышла за ворота. Взблеснул густой мех на воротнике кожаной куртки. Помахав на прощание, Неля села в такси. Фишер с улыбкой помахал ей в ответ.
Переодевшись в домашнюю одежду, он закутался в куртку и тоже вышел за калитку. Сквозь забор из ржавеющей рабицы было видно, как тают ноздреватые сугробы палисадника. С сигаретой в зубах Фишер направился к дальнему концу линии, где находился продмаг. Под рифлеными подошвами ботинок хлюпала серовато-коричневая слякоть. Всё выше и отчетливее становились фонарные столбы из дерева и бетона, которые по ночам освещали угол линии и съезд на асфальтированную дорогу. И продмаг, и столбы не изменились. В детские годы Фишера они были точно такими же. На горизонте возвышалась периферия спального района, который состоял из порыжевших пятиэтажек, а на пустыре перед ними сиротливо погружался в землю ветхий двухэтажный барак. Его окружали следы давнего сноса. В нем не жили уже больше двадцати лет.
Фишер бросил окурок в лужу и вошел в продмаг. Молодая женщина в зеленом фартуке продала Фишеру булку хлеба, рыбные консервы и спички, а затем покосилась на его лицо.
- Что-то не так? – спросил Фишер вежливым тоном, но слегка нахмурился. Никого из покупателей, проживающих рядом, продавщица толком не знала, однако это не мешало ей задавать бестактные вопросы.
- У тебя синяк небольшой, - указала она на свою скулу, мелко посыпанную веснушками, - тут вот. Что случилось?
Фишеру не нравилось подобное вмешательство. Иногда у него возникало желание ответить продавщице грубо, однако в долгосрочной перспективе это было не очень-то выгодно. Нужно было соблюдать правила социума. Хотя бы в мелочах.
- Подрался, - соврал он.
- Опять? – воскликнула продавщица. Но Фишер уже забрал пакет и покинул продмаг, напоследок с ней не попрощавшись.
Лора Генриховна скончалась, пока Фишер находился на кладбище – в качестве водителя. Трудоустроиться в похоронное агентство ему помогла именно Лора Генриховна, у которой еще с девяностых оставались хорошие знакомые в сфере ритуальных услуг. Облачаясь в черную тройку с галстуком, Фишер садился за руль «газели», переделанной под катафалк. На дегтярно-черном боку бывшей маршрутки белела надпись, выведенная типичным похоронным шрифтом – «Ленритуал». Оказавшись единственным наследником Лоры Генриховны, Фишер получил в свое распоряжение участок с домом на Кисловодской улице, вишневый «рено» и небольшой арсенал – охотничье ружье, ИЖ-27, и пневматическую винтовку, ИЖ-38. Немало удивил и капитал Лоры Генриховны, на который можно было купить несколько квартир, однако Фишер предпочел остаться в доме, где прошло его детство. У него появилось достаточно времени, чтобы как следует всё обдумать. Отгоняя бытом совсем уж досаждающие мысли, Фишер следил за участком. Он сажал овощи и выращивал цветы, ухаживал за виноградом и деревьями… Однако садовод из него не вышел. Растения часто засыхали, не добираясь до поры цветения, а овощные культуры не давали плодов. По земле тут и там ползали тугие путы сорняков.
С домом дело пошло лучше. Обосновался Фишер в спальне Лоры Генриховны. Выяснилось, что места ему нужно не так уж и много. Жизнь определенно переучила его на новый манер. Бабушкины фотоальбомы Фишер убрал на самую верхнюю полку дедушкиного стеллажа. Точно так же поступил и с фотографиями, которые иллюстрировали стадии его взросления. Совсем маленький Женя на руках у юной матери, групповые портреты растущего класса «Д», где Енюша девять лет учился - на каждом снимке у двух мальчиков были выколоты иглой глаза. Вежливо улыбающийся Фишер под куполами петербургского Спаса-на-Крови. Хмурый и коротко стриженый Фишер на фоне плотного забора из нескольких слоев сетки. Поверх тянулась режущая спираль колючей проволоки, очки Фишера скрывались в тени черного кепи, а на рукаве мешковатой черной робы виднелась красная повязка активиста[1].
[1] заключенный, добровольно помогающий администрации исправительного учреждения.
До пяти часов вечера нужно было разобраться с домашними делами. Надев кухонный фартук из черного сукна, Фишер наполнил миску Нерона кормом. Потом разложил на деревянной доске бледно-бурые шматы отварной говядины и старым кухонным топориком порубил их на крупные куски. Увесистое лезвие из советской стали без труда рассекало плоть, а рельефная сторона топорика, предназначенная для отбивания мяса, невесомо отражала дневной свет. Когда Фишер не пользовался топориком, тот лежал под магнитной планкой с набором ножей - всегда заточенных до фатальной остроты. Смешав мясо с густой кашей, Фишер убрал кастрюлю в холодильник. Псу этого должно было хватить на два дня.
Каждый день Шерхан час-другой разминал лапы, бегая по пустующему огороду. Фишер в это время сидел на крыльце, курил и отрывисто покашливал. То и дело подскакивал Шерхан. Суетливо проявляя собачью преданность, он начинал лизать Фишеру руки. Тот покровительственно трепал Шерхана по холке: чтобы пёс подчинялся, нужно было уделять ему внимание. Покончив с дрессировкой, Фишер загнал пса в будку, а потом тоже скрылся в доме. Он прошел через веранду, оставляя за собой размытый дымный пунктир. Из угла веранды отбрасывала широкую тень большая фляга с водой. Там же стояло ведро с крупными кусками угля. На вешалке висела одежда, пригодная только для огорода.
С соседями Фишер всегда был вежлив. К счастью, Лора Генриховна своевременно объяснила ему , что сочувствие и хорошее отношение нужно хотя бы имитировать, чтобы люди помогали в ответ. Прожить без кооперации было бы непросто. Лору Генриховну не удивило, что мальчик, попавший к ней на воспитание, оказался бессердечным. И чтобы он не испортил себе жизнь раньше времени, пришлось скорректировать его характер. Лора Генриховна знала, как поступать. У её дочери был похожий недостаток. Равнодушие было для Фишеров такой же наследственной чертой, как и миопия.
Когда Енюше было шесть лет, Лора Генриховна заметила, что он давит ботинками мышей. Делал он это без особых эмоций, словно под подошвами лопались перезрелые сливы, а не живые грызуны. Она не стала говорить внуку, что животных нужно жалеть. От её увещеваний он всё равно не начал бы жалеть животных. Поэтому Лора Генриховна деловым тоном сообщила, что дома Енюша может спокойно этим заниматься, однако делать это на глазах у других ребят невыгодно. Это могло оттолкнуть от Енюши будущих друзей. Еще Лора Генриховна не забыла упомянуть, что лучше не становиться зачинщиком драки, а ждать, чтобы первым ударил противник, и лишь потом отбиваться. При таком раскладе сложно было выйти виноватым.
Однако практика оказалась сложнее теории. Енюше не повезло оказаться в одном классе с гиперактивным Геной и шутливым Сеней. Они дразнили Енюшу то за очки, то за улыбку и на этой почве сдружились. Помня наставления бабушки, Енюша пытался сдерживаться, но неизбежно срывался и лез в драку: на перемене и во время урока, при учителях и в их отсутствие. В такие моменты наличие окружающих его не заботило. На Енюшу стали жаловаться учителя. Со временем обе стороны конфликта успокоились - профилактические беседы немного погасили пыл мальчишеской злобы.
С возрастом Фишер научился производить на людей выгодное впечатление. Он следил за тем, как общаются остальные, и запоминал, чего лучше не делать, а мимику репетировал перед зеркалом. Получилось недурно: у него не появилось близких друзей, но и врагов не прибавилось. Линзам Фишер предпочитал очки, потому что без них у него был несколько дегенеративный вид. Стильная оправа сглаживала тяжелый немигающий взгляд. К тому же, для мира взрослых гораздо лучше подходила маска выросшего ботаника с невинными причудами, нежели мрачного мужчины с «лошадиными» зубами и сомнительными намерениями. Знакомство с Нелей оказалось большой удачей, потому что она тоже не жаловала социальные ритуалы. Жизнью Фишера она интересовалась слабо. В общем-то, он о Неле мало что знал, но его это устраивало. Совпадения сексуальных пристрастий оказалось достаточно, чтобы возникло взаимовыгодное сотрудничество. К тому же, с Нелей можно было не имитировать эмоции. В этом отношении она тоже была скупой.
Запершись в спальне на железный крючок, Фишер положил очки на тумбочку и забрался под одеяло, намереваясь немного поспать. Но сначала опустил правую руку за кровать. Пальцы уткнулись в широкий выступ стены, а затем нащупали прохладное дерево приклада. Заряженное ружье было на месте. Закон предписывал хранить охотничье оружие в сейфе, отдельно от патронов, но Фишеру этот закон казался глупым. Ружье нужно было ему как раз на тот случай, если в дом проникнут посторонние. Они явно не будут ждать, пока Фишер отопрет сейф, достанет ружье и зарядит его. Реакция требовалась быстрая. Так что в сейфе хранилась лишь пневматическая винтовка, из которой Фишер в свободное время стрелял по жестяным банкам. Промахивался он редко. Когда это происходило, мелкие пули застревали в тяжелой древесине забора и стволах вишневых деревьев.
Смена начиналась в пять вечера. Бюджетная больница, в морге которой Фишер работал ночным санитаром, находилась в Смородинском микрорайоне. Дежурил Фишер сутки через трое и от заката до рассвета собирал больничных мертвецов. Зарплата была скромной, но нагрузке соответствовала. К тому же, Фишер до сих пор подрабатывал водителем катафалка, если нужно было подменить бывших коллег из «Ленритуала». Особой квалификации обязанности ночного санитара не требовали. Когда звонили в дверь служебного входа, Фишер встречал бригаду труповозки, которая передавала ему на руки тело. Информацию о поступившем мертвеце нужно было занести в журнал приема и выдачи трупов, а самого мертвеца убрать в «холодильник». Часто приходилось забирать из больничного корпуса стариков. Если не считать этих скорбных обязанностей, Фишер или валял дурака, или спал. Грех было жаловаться на такую работу.
Вишневый «рено» проезжал между диким пляжем и мышино-серыми панельными домами. Сползало к горизонту рыжеватое солнце, размеренно шелестел ветер, а со стороны Смородины доносился далекий треск ледяных глыб. В воздухе слабо пахло болотной гнилью. Желтоватые зубы Фишера сжимали дымящуюся сигарету, а сухощавые руки лежали на колесе руля. Справа мелькнула болотистая канава со старым мостом из бетонных плит. На его кованых перилах рдела ржавчина, по краям канавы тесно росли высокие осины, а за их кронами вырисовывались коричнево-белые корпуса больницы. Фишер проехал чуть дальше, свернул на улицу, где находилась одна-единственная автобусная остановка, и миновал пустырь, укрытый стылым снегом. Неделю назад на пустыре нашли руку. С Фишером даже побеседовал на этот счет угрюмый опер, которого интересовало, замечал ли он что-нибудь подозрительное. Ответить утвердительно Фишер не смог, потому что территорию больницы в ту ночь не покидал. Оперу пришлось уйти без показаний.
Фишер припарковался во внутреннем дворе морга и задержался снаружи, чтобы покурить. Его рассеянный взгляд скользил по белому бетонному забору с ромбовидным рельефом, железной двери служебного входа и ближайшей хрущевке, на серовато-белом торце которой рыжие кирпичи складывались в лозунг «Слава КПСС». На микрорайон медленно ложился сумрак.
Фишер расписался в журнале охранника, переоделся в зеленую хирургическую пижаму и официально заступил на дежурство. Помещения морга успокаивали Фишера. Светлые пятна потолочных ламп отражались в нержавеющей стали столов и грязно-белом кафеле секционного зала, за стеклами шкафов хранились в формалине органы. Грязно-зеленые железные весы, на которых взвешивали человеческую требуху, напоминали рыночные весы из мясного ряда. В прилегающей комнате хранились принадлежности для туалета почивших: посмертный грим, флаконы с парфюмом, белые тапочки и искусственные гвоздики.
Короткие рукава пижамы, которую Фишер носил на работе, не прикрывали татуировку и шрамы поверх неё. Руководство пока не задавало вопросов, потому что людей, согласных на низкую зарплату, не хватало, да и трудился Фишер нормально. Руководство даже закрывало глаза на отсутствие медобразования и наличие судимости у человека, который по рекомендации знакомых попал из коммерческой ритуальной сферы в государственный морг. Фишер пока не знал, кем будет работать, когда его попросят уволиться. Ночным сторожем, таксистом, могильщиком… Возможно, библиотекарем. По этому пункту у него уж точно был документально зафиксированный опыт.
В коридоре дремал, утопая в мягком кресле, возрастной охранник. Бледно-желтый свет настольной лампы падал на его волосатые руки с ороговевшими ногтями и толстый журнал учета. Фишер тоже решил поспать и удалился в комнату отдыха санитаров. Опустив на зарешеченном окне жалюзи, он улегся на диван, напротив которого стояла тумбочка с телевизором, укрылся пледом и задремал. Какое-то время перед закрытыми глазами явственно стояли очертания белых стен, но их быстро съела чернота. Дрему согнал визгливый треск дверного звонка. Приняв труп пенсионера, Фишер повесил на его запястье клеенчатую бирку с фамилией, накрыл морщинистое лицо полотенцем, смоченным в формалине, и уложил труп на одну из полок «холодильника». Следующий отрезок сна продлился до двух часов ночи. Фишера вновь разбудил звонок – на этот раз громко трезвонил телефон в комнате отдыха.
- Патанатомия, - сонно промычал Фишер в трубку, пытаясь разлепить глаза. Звонок поступил из кардиологического отделения. Нужно было забрать старушку.
В названной палате Фишера встретили грустные медсестры. Старушка лежала на койке. Серебристо-белые волосы были раскиданы по плоской подушке, а блеклые старческие глаза глядели в потолок. В темном провале рта виднелся неполный комплект зубов. Переложив старушку на больничную каталку, Фишер увез её в морг. Он подписал её, запер в «холодильнике» и вернулся на диван.
Сон возобновился. На этот раз Фишер нырнул достаточно глубоко. Белоснежные сугробы были изрыты глубокими черными тенями. В ночной темноте исступленно выла вьюга, гоняя по застывшей степи вихри поземки. Фишер расслабленно лежал в открытом гробу, который стоял на полозьях, как сани, и сам по себе ехал в бескрайний холодный мрак. В глубине неба недвижимо горела маслянисто-желтая луна, её свет стекал на степь вязкой медовой патокой. Фишер заметил, что кто-то смотрит на него сверху, что луна на самом деле не луна, а чей-то неведомый глаз, одиноко сияющий на бесформенном черном туловище. Фишер ощутил, как в желудке рождается оглушающий холод, как он растекается по конечностям. Не в силах вынести подступающий ужас, Фишер слабо вздрогнул и прикрыл лицо тяжелеющей ладонью.
Душегуба Лора Генриховна отселила в одиночный вольер, который выполнял функцию карцера. И хотя должный вес индюк не набрал, она приказала его забить. Енюша, как и всегда, послушался. Индюк отчаянно хлопал крыльями, но его всё равно засунули в холщовый мешок с прорезью для головы. По участку эхом разносился истеричный клёкот. Енюша уложил обездвиженного индюка на дубовую колоду, темную от птичьей крови, и ударил топором по складчатой шее. Клёкот оборвался. Отделенная голова качнулась на краю колоды и упала на влажный чернозем.
С того дня прошло тринадцать лет. Фишер до сих пор проживал в том же доме возле леса – вот только уже без Лоры Генриховны. Лора Генриховна скончалась в восемнадцатом году. Вступив в права наследования, Фишер не стал делать ремонт. На тот момент ему было всё равно, что находится вокруг и как оно выглядит. В зале до сих пор стояла пальма в деревянной кадке, висела на стене корзинка с искусственными пионами, а над входом в узкую спальню склонялось черное чучело – голова глухаря на толстой шее. За прозрачным стеклом чешской стенки покрывались пылью обеденный сервиз с супницей, чайный сервиз из синеватого фарфора и хрупкие кофейные чашечки. Особняком стояли фужеры из щербатого хрусталя, которые тоже покрывал тонкий слой пыли. Словно в доме Лоры Генриховны мутным осколком застыло переходное время. О современности напоминала лишь книжная полка, где хранились фотокамера и толстая энциклопедия «Птицы России». Интерес жильца к точным наукам выдавала научно-популярная литература с характерными наименованиями: «Наука параллельных вселенных», «Путешествия во времени», «Временные парадоксы»…
Фишер лежал на пружинном диване с красной ковровой накидкой. Он смотрел сквозь очки в беленый потолок и курил. Время от времени он вслепую протягивал руку к пепельнице, стоящей на твердом подлокотнике дивана. Неля сидела в массивном кресле, накрытом такой же ковровой накидкой, и нанизывала на пальцы ажурные серебряные кольца. Перед сессиями она всегда снимала их, чтобы не травмировать лицо Фишера слишком сильно. Ехидным тоном Неля рассказывала о родственниках, которых считала излишне нервными. Фишер поддерживал беседу: то издавал захлебывающийся смех, то начинал развернуто отвечать. Но потом задумывался и обрывал мысль, недоговаривая фразу.
- Какой-то ты квёлый сегодня, Евгеша, - произнесла вдруг Неля, надев на мизинец последнее из колец, - как больной гусь. С тобой всё в порядке?
- Всё нормально. Я спал четыре часа. Слишком рано проснулся, а потом не смог заснуть, - честно сообщил Фишер, рассматривая засохшие капельки крови на подоле белой рубашки. Застирывать её он не планировал. Старые кровавые пятна придавали сессиям особенно жестокий оттенок.
Неля вернулась к теме нелюбимых родственников. Выкуривая очередную сигарету, Фишер слушал рассказ о племяннице Нели, которая опять ушла из дома. Судя по изложенным фактам, пубертатная Жанна гуляла где хотела и сколько хотела, а в школе злобно подшучивала над сверстницами.
- Придет сама, ничего страшного. Неделя это еще ерунда, она и на месяц может уйти. Зря они заявление написали, - подытожила Неля и взяла сигарету из пачки Фишера.
- Сколько ей лет? – поинтересовался он. Вопросы неумолимо подходили к концу. Нужно было тактично сменить тему.
- Четырнадцать, - небрежно ответила Неля. Заметив, что в зал крадущейся походкой проник Нерон – черный кот с белыми лапами и манишкой, Неля подхватила его на руки. Серебряные кольца утонули в длинной шерсти. Нерон недовольно зафыркал. Фишер зашелся надсадным кашлем. Мокрота болезни заменила ему болотную грязь, которой его когда-то пугала Лора Генриховна.
- Евгеш, не хочешь сегодня вечером в бар?
- Не смогу, у меня смена. Но спасибо за приглашение.
Время от времени Неля вытаскивала его в люди. Фишера принимали без отторжения, а он даже производил хорошее впечатление - нужно было всего лишь рассказывать забавные, но приличные истории из жизни, интересоваться анамнезом собеседника и приятно улыбаться. Однако сегодняшнюю ночь Фишеру предстояло провести в морге.
Проведя Нелю через тёмную прихожую, полупустой коридор и промерзшую застекленную веранду, Фишер вышел на крыльцо первым. В пальцах он вертел сигарету. Асфальтированный двор плавал в сыром снегу оттепели. Под сизыми клочьями облаков надрывно каркали возвращающиеся грачи. Неподвижно поблескивал гофрированный металл высоких ворот. Из дощатой будки выскочил, оскалив пасть, черно-рыжий пес по кличке Шерхан – помесь алабая и немецкой овчарки. Он почуял в Неле чужака и готов был на неё напасть. Когда во дворе оказывались посторонние, Шерхан начинал лаять, как лагерный вертухай, и пытался сорваться с цепи. Слушался он только Фишера. И успокаивался лишь тогда, когда получал от него соответствующий приказ.
- Шерхан, фу! – строго прикрикнул Фишер. Пес закрыл пасть и вернулся в будку. Неля быстро добралась до калитки и вышла за ворота. Взблеснул густой мех на воротнике кожаной куртки. Помахав на прощание, Неля села в такси. Фишер с улыбкой помахал ей в ответ.
Переодевшись в домашнюю одежду, он закутался в куртку и тоже вышел за калитку. Сквозь забор из ржавеющей рабицы было видно, как тают ноздреватые сугробы палисадника. С сигаретой в зубах Фишер направился к дальнему концу линии, где находился продмаг. Под рифлеными подошвами ботинок хлюпала серовато-коричневая слякоть. Всё выше и отчетливее становились фонарные столбы из дерева и бетона, которые по ночам освещали угол линии и съезд на асфальтированную дорогу. И продмаг, и столбы не изменились. В детские годы Фишера они были точно такими же. На горизонте возвышалась периферия спального района, который состоял из порыжевших пятиэтажек, а на пустыре перед ними сиротливо погружался в землю ветхий двухэтажный барак. Его окружали следы давнего сноса. В нем не жили уже больше двадцати лет.
Фишер бросил окурок в лужу и вошел в продмаг. Молодая женщина в зеленом фартуке продала Фишеру булку хлеба, рыбные консервы и спички, а затем покосилась на его лицо.
- Что-то не так? – спросил Фишер вежливым тоном, но слегка нахмурился. Никого из покупателей, проживающих рядом, продавщица толком не знала, однако это не мешало ей задавать бестактные вопросы.
- У тебя синяк небольшой, - указала она на свою скулу, мелко посыпанную веснушками, - тут вот. Что случилось?
Фишеру не нравилось подобное вмешательство. Иногда у него возникало желание ответить продавщице грубо, однако в долгосрочной перспективе это было не очень-то выгодно. Нужно было соблюдать правила социума. Хотя бы в мелочах.
- Подрался, - соврал он.
- Опять? – воскликнула продавщица. Но Фишер уже забрал пакет и покинул продмаг, напоследок с ней не попрощавшись.
Лора Генриховна скончалась, пока Фишер находился на кладбище – в качестве водителя. Трудоустроиться в похоронное агентство ему помогла именно Лора Генриховна, у которой еще с девяностых оставались хорошие знакомые в сфере ритуальных услуг. Облачаясь в черную тройку с галстуком, Фишер садился за руль «газели», переделанной под катафалк. На дегтярно-черном боку бывшей маршрутки белела надпись, выведенная типичным похоронным шрифтом – «Ленритуал». Оказавшись единственным наследником Лоры Генриховны, Фишер получил в свое распоряжение участок с домом на Кисловодской улице, вишневый «рено» и небольшой арсенал – охотничье ружье, ИЖ-27, и пневматическую винтовку, ИЖ-38. Немало удивил и капитал Лоры Генриховны, на который можно было купить несколько квартир, однако Фишер предпочел остаться в доме, где прошло его детство. У него появилось достаточно времени, чтобы как следует всё обдумать. Отгоняя бытом совсем уж досаждающие мысли, Фишер следил за участком. Он сажал овощи и выращивал цветы, ухаживал за виноградом и деревьями… Однако садовод из него не вышел. Растения часто засыхали, не добираясь до поры цветения, а овощные культуры не давали плодов. По земле тут и там ползали тугие путы сорняков.
С домом дело пошло лучше. Обосновался Фишер в спальне Лоры Генриховны. Выяснилось, что места ему нужно не так уж и много. Жизнь определенно переучила его на новый манер. Бабушкины фотоальбомы Фишер убрал на самую верхнюю полку дедушкиного стеллажа. Точно так же поступил и с фотографиями, которые иллюстрировали стадии его взросления. Совсем маленький Женя на руках у юной матери, групповые портреты растущего класса «Д», где Енюша девять лет учился - на каждом снимке у двух мальчиков были выколоты иглой глаза. Вежливо улыбающийся Фишер под куполами петербургского Спаса-на-Крови. Хмурый и коротко стриженый Фишер на фоне плотного забора из нескольких слоев сетки. Поверх тянулась режущая спираль колючей проволоки, очки Фишера скрывались в тени черного кепи, а на рукаве мешковатой черной робы виднелась красная повязка активиста[1].
[1] заключенный, добровольно помогающий администрации исправительного учреждения.
До пяти часов вечера нужно было разобраться с домашними делами. Надев кухонный фартук из черного сукна, Фишер наполнил миску Нерона кормом. Потом разложил на деревянной доске бледно-бурые шматы отварной говядины и старым кухонным топориком порубил их на крупные куски. Увесистое лезвие из советской стали без труда рассекало плоть, а рельефная сторона топорика, предназначенная для отбивания мяса, невесомо отражала дневной свет. Когда Фишер не пользовался топориком, тот лежал под магнитной планкой с набором ножей - всегда заточенных до фатальной остроты. Смешав мясо с густой кашей, Фишер убрал кастрюлю в холодильник. Псу этого должно было хватить на два дня.
Каждый день Шерхан час-другой разминал лапы, бегая по пустующему огороду. Фишер в это время сидел на крыльце, курил и отрывисто покашливал. То и дело подскакивал Шерхан. Суетливо проявляя собачью преданность, он начинал лизать Фишеру руки. Тот покровительственно трепал Шерхана по холке: чтобы пёс подчинялся, нужно было уделять ему внимание. Покончив с дрессировкой, Фишер загнал пса в будку, а потом тоже скрылся в доме. Он прошел через веранду, оставляя за собой размытый дымный пунктир. Из угла веранды отбрасывала широкую тень большая фляга с водой. Там же стояло ведро с крупными кусками угля. На вешалке висела одежда, пригодная только для огорода.
С соседями Фишер всегда был вежлив. К счастью, Лора Генриховна своевременно объяснила ему , что сочувствие и хорошее отношение нужно хотя бы имитировать, чтобы люди помогали в ответ. Прожить без кооперации было бы непросто. Лору Генриховну не удивило, что мальчик, попавший к ней на воспитание, оказался бессердечным. И чтобы он не испортил себе жизнь раньше времени, пришлось скорректировать его характер. Лора Генриховна знала, как поступать. У её дочери был похожий недостаток. Равнодушие было для Фишеров такой же наследственной чертой, как и миопия.
Когда Енюше было шесть лет, Лора Генриховна заметила, что он давит ботинками мышей. Делал он это без особых эмоций, словно под подошвами лопались перезрелые сливы, а не живые грызуны. Она не стала говорить внуку, что животных нужно жалеть. От её увещеваний он всё равно не начал бы жалеть животных. Поэтому Лора Генриховна деловым тоном сообщила, что дома Енюша может спокойно этим заниматься, однако делать это на глазах у других ребят невыгодно. Это могло оттолкнуть от Енюши будущих друзей. Еще Лора Генриховна не забыла упомянуть, что лучше не становиться зачинщиком драки, а ждать, чтобы первым ударил противник, и лишь потом отбиваться. При таком раскладе сложно было выйти виноватым.
Однако практика оказалась сложнее теории. Енюше не повезло оказаться в одном классе с гиперактивным Геной и шутливым Сеней. Они дразнили Енюшу то за очки, то за улыбку и на этой почве сдружились. Помня наставления бабушки, Енюша пытался сдерживаться, но неизбежно срывался и лез в драку: на перемене и во время урока, при учителях и в их отсутствие. В такие моменты наличие окружающих его не заботило. На Енюшу стали жаловаться учителя. Со временем обе стороны конфликта успокоились - профилактические беседы немного погасили пыл мальчишеской злобы.
С возрастом Фишер научился производить на людей выгодное впечатление. Он следил за тем, как общаются остальные, и запоминал, чего лучше не делать, а мимику репетировал перед зеркалом. Получилось недурно: у него не появилось близких друзей, но и врагов не прибавилось. Линзам Фишер предпочитал очки, потому что без них у него был несколько дегенеративный вид. Стильная оправа сглаживала тяжелый немигающий взгляд. К тому же, для мира взрослых гораздо лучше подходила маска выросшего ботаника с невинными причудами, нежели мрачного мужчины с «лошадиными» зубами и сомнительными намерениями. Знакомство с Нелей оказалось большой удачей, потому что она тоже не жаловала социальные ритуалы. Жизнью Фишера она интересовалась слабо. В общем-то, он о Неле мало что знал, но его это устраивало. Совпадения сексуальных пристрастий оказалось достаточно, чтобы возникло взаимовыгодное сотрудничество. К тому же, с Нелей можно было не имитировать эмоции. В этом отношении она тоже была скупой.
Запершись в спальне на железный крючок, Фишер положил очки на тумбочку и забрался под одеяло, намереваясь немного поспать. Но сначала опустил правую руку за кровать. Пальцы уткнулись в широкий выступ стены, а затем нащупали прохладное дерево приклада. Заряженное ружье было на месте. Закон предписывал хранить охотничье оружие в сейфе, отдельно от патронов, но Фишеру этот закон казался глупым. Ружье нужно было ему как раз на тот случай, если в дом проникнут посторонние. Они явно не будут ждать, пока Фишер отопрет сейф, достанет ружье и зарядит его. Реакция требовалась быстрая. Так что в сейфе хранилась лишь пневматическая винтовка, из которой Фишер в свободное время стрелял по жестяным банкам. Промахивался он редко. Когда это происходило, мелкие пули застревали в тяжелой древесине забора и стволах вишневых деревьев.
Смена начиналась в пять вечера. Бюджетная больница, в морге которой Фишер работал ночным санитаром, находилась в Смородинском микрорайоне. Дежурил Фишер сутки через трое и от заката до рассвета собирал больничных мертвецов. Зарплата была скромной, но нагрузке соответствовала. К тому же, Фишер до сих пор подрабатывал водителем катафалка, если нужно было подменить бывших коллег из «Ленритуала». Особой квалификации обязанности ночного санитара не требовали. Когда звонили в дверь служебного входа, Фишер встречал бригаду труповозки, которая передавала ему на руки тело. Информацию о поступившем мертвеце нужно было занести в журнал приема и выдачи трупов, а самого мертвеца убрать в «холодильник». Часто приходилось забирать из больничного корпуса стариков. Если не считать этих скорбных обязанностей, Фишер или валял дурака, или спал. Грех было жаловаться на такую работу.
Вишневый «рено» проезжал между диким пляжем и мышино-серыми панельными домами. Сползало к горизонту рыжеватое солнце, размеренно шелестел ветер, а со стороны Смородины доносился далекий треск ледяных глыб. В воздухе слабо пахло болотной гнилью. Желтоватые зубы Фишера сжимали дымящуюся сигарету, а сухощавые руки лежали на колесе руля. Справа мелькнула болотистая канава со старым мостом из бетонных плит. На его кованых перилах рдела ржавчина, по краям канавы тесно росли высокие осины, а за их кронами вырисовывались коричнево-белые корпуса больницы. Фишер проехал чуть дальше, свернул на улицу, где находилась одна-единственная автобусная остановка, и миновал пустырь, укрытый стылым снегом. Неделю назад на пустыре нашли руку. С Фишером даже побеседовал на этот счет угрюмый опер, которого интересовало, замечал ли он что-нибудь подозрительное. Ответить утвердительно Фишер не смог, потому что территорию больницы в ту ночь не покидал. Оперу пришлось уйти без показаний.
Фишер припарковался во внутреннем дворе морга и задержался снаружи, чтобы покурить. Его рассеянный взгляд скользил по белому бетонному забору с ромбовидным рельефом, железной двери служебного входа и ближайшей хрущевке, на серовато-белом торце которой рыжие кирпичи складывались в лозунг «Слава КПСС». На микрорайон медленно ложился сумрак.
Фишер расписался в журнале охранника, переоделся в зеленую хирургическую пижаму и официально заступил на дежурство. Помещения морга успокаивали Фишера. Светлые пятна потолочных ламп отражались в нержавеющей стали столов и грязно-белом кафеле секционного зала, за стеклами шкафов хранились в формалине органы. Грязно-зеленые железные весы, на которых взвешивали человеческую требуху, напоминали рыночные весы из мясного ряда. В прилегающей комнате хранились принадлежности для туалета почивших: посмертный грим, флаконы с парфюмом, белые тапочки и искусственные гвоздики.
Короткие рукава пижамы, которую Фишер носил на работе, не прикрывали татуировку и шрамы поверх неё. Руководство пока не задавало вопросов, потому что людей, согласных на низкую зарплату, не хватало, да и трудился Фишер нормально. Руководство даже закрывало глаза на отсутствие медобразования и наличие судимости у человека, который по рекомендации знакомых попал из коммерческой ритуальной сферы в государственный морг. Фишер пока не знал, кем будет работать, когда его попросят уволиться. Ночным сторожем, таксистом, могильщиком… Возможно, библиотекарем. По этому пункту у него уж точно был документально зафиксированный опыт.
В коридоре дремал, утопая в мягком кресле, возрастной охранник. Бледно-желтый свет настольной лампы падал на его волосатые руки с ороговевшими ногтями и толстый журнал учета. Фишер тоже решил поспать и удалился в комнату отдыха санитаров. Опустив на зарешеченном окне жалюзи, он улегся на диван, напротив которого стояла тумбочка с телевизором, укрылся пледом и задремал. Какое-то время перед закрытыми глазами явственно стояли очертания белых стен, но их быстро съела чернота. Дрему согнал визгливый треск дверного звонка. Приняв труп пенсионера, Фишер повесил на его запястье клеенчатую бирку с фамилией, накрыл морщинистое лицо полотенцем, смоченным в формалине, и уложил труп на одну из полок «холодильника». Следующий отрезок сна продлился до двух часов ночи. Фишера вновь разбудил звонок – на этот раз громко трезвонил телефон в комнате отдыха.
- Патанатомия, - сонно промычал Фишер в трубку, пытаясь разлепить глаза. Звонок поступил из кардиологического отделения. Нужно было забрать старушку.
В названной палате Фишера встретили грустные медсестры. Старушка лежала на койке. Серебристо-белые волосы были раскиданы по плоской подушке, а блеклые старческие глаза глядели в потолок. В темном провале рта виднелся неполный комплект зубов. Переложив старушку на больничную каталку, Фишер увез её в морг. Он подписал её, запер в «холодильнике» и вернулся на диван.
Сон возобновился. На этот раз Фишер нырнул достаточно глубоко. Белоснежные сугробы были изрыты глубокими черными тенями. В ночной темноте исступленно выла вьюга, гоняя по застывшей степи вихри поземки. Фишер расслабленно лежал в открытом гробу, который стоял на полозьях, как сани, и сам по себе ехал в бескрайний холодный мрак. В глубине неба недвижимо горела маслянисто-желтая луна, её свет стекал на степь вязкой медовой патокой. Фишер заметил, что кто-то смотрит на него сверху, что луна на самом деле не луна, а чей-то неведомый глаз, одиноко сияющий на бесформенном черном туловище. Фишер ощутил, как в желудке рождается оглушающий холод, как он растекается по конечностям. Не в силах вынести подступающий ужас, Фишер слабо вздрогнул и прикрыл лицо тяжелеющей ладонью.
Роман Викторович Юдин, старший следователь по особо важным делам и майор юстиции, служащий в областном управлении Следственного комитета, спал в темноте аскетично-бледной спальни. За широким окном слабо просматривались контуры серых панельных домов, сливающиеся с ночным небом, а над детской площадкой с облупившейся железной беседкой хлопали крыльями голуби. Изредка свинцово-сизые тучи сносило порывами ветра, и в спальню Юдина просачивались лунные отблески. На подушке отпечатывалась косая тень мужского профиля, а в темноте обозначалась белая маркерная доска с фотографией рыжеволосой девочки. Девочку звали Жанна Клименко, и она определенно была мертва.
Двухкомнатная квартира Юдина располагалась в Затонском микрорайоне, недалеко от стыка набережной и дикого пляжа, а проживал он здесь уже больше двадцати лет. Обстановку комнат сложно было назвать уютной, она отдавала нафталином, будто последний жилец покинул квартиру еще в прошлом веке, отбыв при этом на погост. В узком коридоре висела потемневшая репродукция «Аленушки» Васнецова, кухонный стол был накрыт цветастой скатертью с тяжелой бахромой, а одну из стен зала украшал узорчатый красный ковер.
Юдин отсыпался, потому что завтра ему предстояло встать раньше обычного, облачиться в синий мундир и допросить всех родственников погибшей Жанны Клименко. В мундире Юдин выглядел эффектно и производил впечатление как на женщин, так и на преступников. Первые проникались к нему симпатией, пока не узнавали достаточно близко, а вторые осознавали, что попали в руки к упертому и беспощадному следователю, которого подгоняют не надбавки к зарплате, а охотничий азарт, идущий из глубины его натуры. Высокий и широкоплечий Юдин с аккуратным пробором темных волос и белозубой улыбкой комсомольца органично смотрелся бы в кинофильмах сталинской эпохи об отважных летчиках. Портили образ лишь тонкие морщины, несвойственные вечно юным героям, и впалые щеки трудоголика.
Детство Ромы, ровесника московской Олимпиады, пришлось на нелегкую декаду чернобыльской катастрофы, афганской войны и перестройки, однако Рома, с ребяческой непосредственностью игнорируя тревожный исторический фон, всё равно обзавелся зачатком мечты. Дядя Степа, всесоюзный архетип бесстрашного милиционера, отпечатался в его воспоминаниях исполином, который превосходил остальных персонажей советской былины габаритами и ростом. Особенно это касалось испуганных жуликов, которых художники намеренно изображали щуплыми, чтобы возникал эффект неоспоримого могущества дяди Степы. Сверкающие хромовые сапоги в складку, шинель цвета штормовой волны и фуражка с кокардой поразили маленького Рому в самое нутро, чтобы в дальнейшем оформиться во вполне конкретную цель и повлиять на выбор профессии.
Из ребенка, который оказался чрезмерно равнодушным, мог получиться либо работник органов, либо бандит, но благодаря усилиям родителей второго пути удалось избежать. Мать, занимавшая пост главврача в горбольнице Павлозаводска, и отец, преподававший на кафедре психиатрии и наркологии, упорно разъясняли сыну этические нюансы, понятные другим детям по умолчанию. Чтобы Рома научился управлять агрессией, родители отдали его на бокс, а дома поддерживали теплую атмосферу, показывая на собственном примере, что такое нежность и сочувствие. Отец, страстно любящий охоту, часто возвращался домой с мертвыми зайцами, и по праздникам на семейном столе Юдиных всегда была зайчатина в сметанно-томатном соусе. Сначала отец подвешивал освежеванную тушку над ванной, туго приматывая задние лапы к деревянной планке, а когда в горлышко слива утекали последние ручейки крови, в дело вступала мать, и тушка отправлялась в духовку. В праздничные дни Рома пережевывал суховатую зайчатину, а его зубы то и дело упирались в деформированные дробинки. Мать обычно смеялась и говорила, что это хорошая примета. Дробь в мясе была не только признаком смерти, но и символом будущей удачи, и Рома спокойно принял этот факт.
Путь к мечте лежал через пионерию, комсомол и школу милиции, но когда Рома был в пятом классе, Советский Союз распался. Не стало ни пионерии, ни комсомола. Перестройка кончилась тем, что строить теперь нужно было с нуля. Пережив девяностые и не став быком, хотя к этому располагали секция бокса и врожденные наклонности, Юдин окончил школу с золотой медалью и поступил на юридический факультет. Студенчество Юдина сопровождалось дефолтом и сгущающейся неопределенностью, однако из университета он вышел с красным дипломом. Юдина ожидала служба в прокуратуре – с начищенными ботинками, форменным пальто и кокардой на фуражке. Благодаря полномочиям, он мог вести себя доминантно и выплескивать агрессию, получая взамен социальное одобрение, а не выходить за рамки ему помогали холодная голова, холодные руки и не менее холодное сердце. Он пустил внутренний хаос в полезное русло.
Всё это вылилось в пятнадцать лет опыта и окрепшую следственную интуицию. Надежным подспорьем для раскрываемости стали хорошие отношения с операми, экспертами и шефом отдела - полковником Крыгиным, который в свою очередь был на короткой ноге с прокурором. Детская мечта сбылась и достигла пика. Юдин носил мундир с золотистыми погонами и имел доступ к людям, которых можно и нужно было запугивать. Его переполняла энергия, и работал он, как одержимый. В его жизни был даже брак, однако недолгий. Юдина не устраивало, что у жены имелось свое мнение. Первое время он её не бил, но при каждом удобном случае напоминал об ошибках опиатного прошлого – значительных и не очень. Когда Юдин стал налегать на алкоголь, дошло до домашнего насилия. После особенно жуткого делирия жена, покрытая иссиня-черными синяками, сбежала в одном халате и даже не вернулась за вещами. Юдин со спокойной душой выставил её чемоданы возле подъезда.
Однако от спиртного всё равно пришлось отказаться. Пьянство могло снизить показатели Юдина, а терять должность в комитете ему крайне не хотелось. Ощущение власти было важнее невнятного алкогольного тумана, да и пьянило гораздо крепче. Физическим насилием Юдин не брезговал, однако куда сильнее его прельщало чувство морального превосходства над жертвами и их беспрекословное послушание – в конце концов, вербальная обработка требовала большего мастерства, чем грубая сила. Срывался Юдин на подозреваемых, которых нужно было колоть. Если же их оказывалось недостаточно, он ездил к проституткам, которые оказывали специфические услуги. В этом деле он полагался на четырех проверенных путан, которые соответствовали его запросам, были хорошими актрисами и работали с душой. После тридцати пяти у Юдина появилась возможность уйти на пенсию, однако он ей не воспользовался и остался в комитете. Коллеги его ценили, а соседи уважали. Здоровье, конечно, было уже не то, но жизнь определенно удалась.
Отец Юдина, дожив до преклонного возраста, скончался по естественным причинам, а мать до сих пор была относительно здорова. Время от времени Юдин навещал её и помогал с бытовыми делами: ездил в супермаркет за продуктами, организовывал ремонт квартиры, если в этом была нужда, и оплачивал лечение. Близкий друг у Юдина был всего один – Николай Владимирович Вахт, майор юстиции и старший следователь из соседнего отдела. С наибольшим интересом Вахт расследовал убийства. Его тактика была простой, но действенной: он взвешенно чередовал вежливость с оскорблениями, а подозреваемые теряли самообладание и в пылу злости проговаривались о том, что изначально хотели утаить.
Не было ничего удивительного в том, что именно Вахт сдружился с Юдиным, который искренне радовался, когда в Ленинской области начинал действовать маньяк. В комитете прекрасно знали, что Юдин помешан на серийных убийцах и не одобряет ложные обвинения. С таким работником можно было рассчитывать на качественное раскрытие серии. В свое время Юдин даже собственноручно составил картотеку, в которую попали все жители Ленинской области, когда-либо отбывавшие срок за изнасилование или убийство. Картотекой он пользовался, когда нужно было отыскать очередного начинающего серийника. Многие попадались на первом же убийстве, а во время следствия рассказывали о намерениях, которые не успели претворить в жизнь. Технически они маньяками не считались, однако Юдин чуял в них нездоровые желания и обычно оказывался прав. На допросах он мысленно смаковал жалкий вид несостоявшегося Чикатило, который оказался слишком тупым для длительной карьеры. Убийца, еще недавно считавший себя вершителем судеб, пытался оправдаться и всячески юлил, а потом начинал заискивать перед Юдиным, надеясь хотя бы на смягчение срока. Финальным аккордом обычно становилась попытка изобразить умопомешательство. Каждую такую победу Юдин отмечал бутылкой шампанского, хотя уже семь лет был в строгой завязке. Исключениями становились лишь дела о серийных убийствах.
Две жертвы Юдина даже прославились на федеральном уровне. В начале десятых школьный учитель Миронов, щуплый и подслеповатый очкарик, в слепой ярости потрошил, а затем насиловал всех, кто встречался ему в лесополосе: и детей, и мальчиков-подростков, и взрослых женщин. К Юдину он попал с багажом из одиннадцати трупов. Миронов старательно имитировал шизофрению, утверждая, что ему помогал чёрт, однако психиатрическая экспертиза доказала его вменяемость, признав за ним лишь антисоциальную психопатию, после чего Миронов уехал на пожизненное.
Спустя несколько лет Юдину пришлось охотиться за его юным подражателем. Безработный вор Колесников не имел высшего образования, по малолетству сидел за пьяную поножовщину, а в тюремной иерархии занимал наименее почетное место петуха. Откинувшись, он вернулся в Ленинскую область и принялся убивать женщин, похожих внешне на его мать. Ему хотелось превзойти Миронова, однако убил он лишь семерых. Колесникова экспертиза тоже признала вменяемым социопатом. Однако сумасшедшим тот не прикидывался и чертей не упоминал, а о своих поступках рассказывал охотно, считая Юдина самым близким человеком «во всей несчастной жизни». Пока шло следствие, Колесников сочинял сентиментальные стихотворения о женщинах и материнстве, а Юдину посвящал неуклюжие хвалебные оды. Как и Миронова, его тоже приговорили к пожизненному заключению. Одна из тетрадей со стихотворениями Колесникова до сих пор лежала у Юдина на антресолях.
Начало двадцатых тоже обещало быть урожайным. Две недели назад из дежурной части Смородинского микрорайона поступило сообщение о женской руке, и Юдин немедленно выехал на место происшествия, хотя на часах было пять утра. Конечность обнаружили между пустырем, где спал под сугробами золотистый песок, и заснеженными лугами. Над пустырем нависало сизое небо, затянутое тучами, а возле дороги возвышалась бетонная остановка советского образца – тускло-белая, усыпанная пестрой крошкой мозаики на космическую тематику. В кроваво-синих всполохах проблесковых маячков ежились на ветру сонные понятые, переглядывались хмурые опера. У судмедэксперта, криминалиста и кинолога были одинаково кислые лица. Норд, немецкая овчарка, сидел на снегу и принюхивался к воздуху.
- Боже правый, – вырвалось у неверующего Юдина, когда он приблизился к ожидающим коллегам и разглядел причину вызова. На бетонной скамье остановки лежала женская рука с татуировкой в виде медузы. К руке черной траурной лентой была привязана искусственная гвоздика, а на запястье виднелась трафаретная цифра «1», нанесенная желтой краской. Ленту с надписью «вечная память» подергивало ветром. К грязно-синим трупным пятнам прилагался рубленый срез с красновато-коричневой каймой. Рука была более-менее свежей.
«Да уж, головняк…» - подумал Юдин, потирая подбородок. Ледяной ветер проникал под лаковый козырек мутоновой шапки, хлестал по утепленной форменной куртке и сминал штанины с багровым кантом. Трепетали концы траурной ленты.
Покружив возле скамьи шерстяной юлой, Норд не смог взять след и озадаченно замер. Юдин скептически окинул взглядом дорогу и пустырь. Вероятность того, что руку привезли на машине, обретала четкие очертания и сулила монотонную работу с ближайшими камерами. Которой, впрочем, еще можно было избежать. Юдин приказал операм опросить всех, кто жил в близлежащих домах, но очевидцев среди них не нашлось. Дело стремительно превращалось в головоломку, а особенно усложнялось анонимностью руки.
Узнав о пронумерованной конечности, Следственный комитет по Ленинской области организовал следственно-оперативную группу, во главе которой оказался, конечно же, Юдин. Первая неделя ушла на экспертизы, изучение места происшествия и работу с водителями, автомобили которых попали на дорожные камеры. К счастью, таковых оказалось немного – преступление произошло глубокой ночью на отшибе города, куда редко кто заезжал. Но проделанная работа ничего не дала. На месте происшествия тоже не нашлось ничего, что могло бы помочь следствию. Порадовал Юдина лишь судмедэксперт, который внес кое-какую ясность.
Согласно его выводам, руку отделили посмертно, тремя ударами топора. Девушка же была убита или умерла в промежутке между десятью и одиннадцатью часами вечера. Песок, обнаруженный под ногтями, оказался идентичен песку со Смородинского пляжа. Однако на личность убийцы ничего не указывало – на руке не обнаружилось ни отпечатков пальцев, ни следов зубов, ни биологических жидкостей. Трупные пятна были сконцентрированы в кисти и пальцах, и это доказывало, что какое-то время труп находился в вертикальном положении.
Личность погибшей удалось установить лишь через две недели, когда было уже слишком поздно. Погибшая нашлась в списке свежих потеряшек[2] и оказалась четырнадцатилетней Жанной Клименко, которая при жизни не отличалась примерным поведением. Родственники Жанны оказались не лучше: бабушка в конце восьмидесятых работала на панели, а остальные родственники просто тихо пили. Ничего хорошего такой расклад не предвещал. Жанна была запущенным ребенком, и убить её мог кто угодно – начиная с нестабильных родственников и заканчивая случайным прохожим.
[2] без вести пропавшие
Биллинг показал, что в последний раз мобильный Жанны засветился на смородинском пляже, неподалеку от кафе «Речное». Естественно, следов борьбы на пляже уже не было - за две недели снег подтаял, стерев все возможные подсказки. Телефон найти не удалось. Юдин распорядился насчет опросов, но люди, живущие возле пляжа, ничего не видели и не слышали. Работники кафе и ближайшей больницы тоже ничего путного не сообщили. Выводы напрашивались неутешительные: нельзя было исключать, что преступник уже убивал и прекрасно знает, как заметать следы. Возможно, когда-то давно он не прибрал за собой, из-за чего побывал в местах не столь отдаленных. Юдин понял, что пора браться за картотеку.
Но перед этим следовало допросить родственников жертвы. Конечно, Юдин мог поручить это лейтенанту и старшему следователю Гатауллину, который тоже входил в состав группы и имел неплохой опыт работы с бытовой мокрухой, однако на этот раз Юдина снедало желание поговорить с родственниками Жанны лично. Он слишком давно не любовался нарастающим страхом, который проступал на побледневшем лице фигуранта, и эту потребность нужно было срочно удовлетворить.
Тучи снова обнажили неровный ломтик луны, и на лицо Юдина упал квадрат белого, как алебастр, света. Спящее тело почти не шевелилось, однако сам Юдин барахтался в бессознательном. Тягуче шуршала в ночном сумраке пожухлая осенняя рожь, сухие колосья били по кителю, ботинки увязали в черноземе. Юдин что есть сил несся по колхозному полю, преследуя мазутно-черную тень душегуба. У Юдина было мало времени. Дрыгая ногами и приплясывая, тень убегала в сторону затхлого болота, над которым подергивались йодно-желтые огоньки.
Двухкомнатная квартира Юдина располагалась в Затонском микрорайоне, недалеко от стыка набережной и дикого пляжа, а проживал он здесь уже больше двадцати лет. Обстановку комнат сложно было назвать уютной, она отдавала нафталином, будто последний жилец покинул квартиру еще в прошлом веке, отбыв при этом на погост. В узком коридоре висела потемневшая репродукция «Аленушки» Васнецова, кухонный стол был накрыт цветастой скатертью с тяжелой бахромой, а одну из стен зала украшал узорчатый красный ковер.
Юдин отсыпался, потому что завтра ему предстояло встать раньше обычного, облачиться в синий мундир и допросить всех родственников погибшей Жанны Клименко. В мундире Юдин выглядел эффектно и производил впечатление как на женщин, так и на преступников. Первые проникались к нему симпатией, пока не узнавали достаточно близко, а вторые осознавали, что попали в руки к упертому и беспощадному следователю, которого подгоняют не надбавки к зарплате, а охотничий азарт, идущий из глубины его натуры. Высокий и широкоплечий Юдин с аккуратным пробором темных волос и белозубой улыбкой комсомольца органично смотрелся бы в кинофильмах сталинской эпохи об отважных летчиках. Портили образ лишь тонкие морщины, несвойственные вечно юным героям, и впалые щеки трудоголика.
Детство Ромы, ровесника московской Олимпиады, пришлось на нелегкую декаду чернобыльской катастрофы, афганской войны и перестройки, однако Рома, с ребяческой непосредственностью игнорируя тревожный исторический фон, всё равно обзавелся зачатком мечты. Дядя Степа, всесоюзный архетип бесстрашного милиционера, отпечатался в его воспоминаниях исполином, который превосходил остальных персонажей советской былины габаритами и ростом. Особенно это касалось испуганных жуликов, которых художники намеренно изображали щуплыми, чтобы возникал эффект неоспоримого могущества дяди Степы. Сверкающие хромовые сапоги в складку, шинель цвета штормовой волны и фуражка с кокардой поразили маленького Рому в самое нутро, чтобы в дальнейшем оформиться во вполне конкретную цель и повлиять на выбор профессии.
Из ребенка, который оказался чрезмерно равнодушным, мог получиться либо работник органов, либо бандит, но благодаря усилиям родителей второго пути удалось избежать. Мать, занимавшая пост главврача в горбольнице Павлозаводска, и отец, преподававший на кафедре психиатрии и наркологии, упорно разъясняли сыну этические нюансы, понятные другим детям по умолчанию. Чтобы Рома научился управлять агрессией, родители отдали его на бокс, а дома поддерживали теплую атмосферу, показывая на собственном примере, что такое нежность и сочувствие. Отец, страстно любящий охоту, часто возвращался домой с мертвыми зайцами, и по праздникам на семейном столе Юдиных всегда была зайчатина в сметанно-томатном соусе. Сначала отец подвешивал освежеванную тушку над ванной, туго приматывая задние лапы к деревянной планке, а когда в горлышко слива утекали последние ручейки крови, в дело вступала мать, и тушка отправлялась в духовку. В праздничные дни Рома пережевывал суховатую зайчатину, а его зубы то и дело упирались в деформированные дробинки. Мать обычно смеялась и говорила, что это хорошая примета. Дробь в мясе была не только признаком смерти, но и символом будущей удачи, и Рома спокойно принял этот факт.
Путь к мечте лежал через пионерию, комсомол и школу милиции, но когда Рома был в пятом классе, Советский Союз распался. Не стало ни пионерии, ни комсомола. Перестройка кончилась тем, что строить теперь нужно было с нуля. Пережив девяностые и не став быком, хотя к этому располагали секция бокса и врожденные наклонности, Юдин окончил школу с золотой медалью и поступил на юридический факультет. Студенчество Юдина сопровождалось дефолтом и сгущающейся неопределенностью, однако из университета он вышел с красным дипломом. Юдина ожидала служба в прокуратуре – с начищенными ботинками, форменным пальто и кокардой на фуражке. Благодаря полномочиям, он мог вести себя доминантно и выплескивать агрессию, получая взамен социальное одобрение, а не выходить за рамки ему помогали холодная голова, холодные руки и не менее холодное сердце. Он пустил внутренний хаос в полезное русло.
Всё это вылилось в пятнадцать лет опыта и окрепшую следственную интуицию. Надежным подспорьем для раскрываемости стали хорошие отношения с операми, экспертами и шефом отдела - полковником Крыгиным, который в свою очередь был на короткой ноге с прокурором. Детская мечта сбылась и достигла пика. Юдин носил мундир с золотистыми погонами и имел доступ к людям, которых можно и нужно было запугивать. Его переполняла энергия, и работал он, как одержимый. В его жизни был даже брак, однако недолгий. Юдина не устраивало, что у жены имелось свое мнение. Первое время он её не бил, но при каждом удобном случае напоминал об ошибках опиатного прошлого – значительных и не очень. Когда Юдин стал налегать на алкоголь, дошло до домашнего насилия. После особенно жуткого делирия жена, покрытая иссиня-черными синяками, сбежала в одном халате и даже не вернулась за вещами. Юдин со спокойной душой выставил её чемоданы возле подъезда.
Однако от спиртного всё равно пришлось отказаться. Пьянство могло снизить показатели Юдина, а терять должность в комитете ему крайне не хотелось. Ощущение власти было важнее невнятного алкогольного тумана, да и пьянило гораздо крепче. Физическим насилием Юдин не брезговал, однако куда сильнее его прельщало чувство морального превосходства над жертвами и их беспрекословное послушание – в конце концов, вербальная обработка требовала большего мастерства, чем грубая сила. Срывался Юдин на подозреваемых, которых нужно было колоть. Если же их оказывалось недостаточно, он ездил к проституткам, которые оказывали специфические услуги. В этом деле он полагался на четырех проверенных путан, которые соответствовали его запросам, были хорошими актрисами и работали с душой. После тридцати пяти у Юдина появилась возможность уйти на пенсию, однако он ей не воспользовался и остался в комитете. Коллеги его ценили, а соседи уважали. Здоровье, конечно, было уже не то, но жизнь определенно удалась.
Отец Юдина, дожив до преклонного возраста, скончался по естественным причинам, а мать до сих пор была относительно здорова. Время от времени Юдин навещал её и помогал с бытовыми делами: ездил в супермаркет за продуктами, организовывал ремонт квартиры, если в этом была нужда, и оплачивал лечение. Близкий друг у Юдина был всего один – Николай Владимирович Вахт, майор юстиции и старший следователь из соседнего отдела. С наибольшим интересом Вахт расследовал убийства. Его тактика была простой, но действенной: он взвешенно чередовал вежливость с оскорблениями, а подозреваемые теряли самообладание и в пылу злости проговаривались о том, что изначально хотели утаить.
Не было ничего удивительного в том, что именно Вахт сдружился с Юдиным, который искренне радовался, когда в Ленинской области начинал действовать маньяк. В комитете прекрасно знали, что Юдин помешан на серийных убийцах и не одобряет ложные обвинения. С таким работником можно было рассчитывать на качественное раскрытие серии. В свое время Юдин даже собственноручно составил картотеку, в которую попали все жители Ленинской области, когда-либо отбывавшие срок за изнасилование или убийство. Картотекой он пользовался, когда нужно было отыскать очередного начинающего серийника. Многие попадались на первом же убийстве, а во время следствия рассказывали о намерениях, которые не успели претворить в жизнь. Технически они маньяками не считались, однако Юдин чуял в них нездоровые желания и обычно оказывался прав. На допросах он мысленно смаковал жалкий вид несостоявшегося Чикатило, который оказался слишком тупым для длительной карьеры. Убийца, еще недавно считавший себя вершителем судеб, пытался оправдаться и всячески юлил, а потом начинал заискивать перед Юдиным, надеясь хотя бы на смягчение срока. Финальным аккордом обычно становилась попытка изобразить умопомешательство. Каждую такую победу Юдин отмечал бутылкой шампанского, хотя уже семь лет был в строгой завязке. Исключениями становились лишь дела о серийных убийствах.
Две жертвы Юдина даже прославились на федеральном уровне. В начале десятых школьный учитель Миронов, щуплый и подслеповатый очкарик, в слепой ярости потрошил, а затем насиловал всех, кто встречался ему в лесополосе: и детей, и мальчиков-подростков, и взрослых женщин. К Юдину он попал с багажом из одиннадцати трупов. Миронов старательно имитировал шизофрению, утверждая, что ему помогал чёрт, однако психиатрическая экспертиза доказала его вменяемость, признав за ним лишь антисоциальную психопатию, после чего Миронов уехал на пожизненное.
Спустя несколько лет Юдину пришлось охотиться за его юным подражателем. Безработный вор Колесников не имел высшего образования, по малолетству сидел за пьяную поножовщину, а в тюремной иерархии занимал наименее почетное место петуха. Откинувшись, он вернулся в Ленинскую область и принялся убивать женщин, похожих внешне на его мать. Ему хотелось превзойти Миронова, однако убил он лишь семерых. Колесникова экспертиза тоже признала вменяемым социопатом. Однако сумасшедшим тот не прикидывался и чертей не упоминал, а о своих поступках рассказывал охотно, считая Юдина самым близким человеком «во всей несчастной жизни». Пока шло следствие, Колесников сочинял сентиментальные стихотворения о женщинах и материнстве, а Юдину посвящал неуклюжие хвалебные оды. Как и Миронова, его тоже приговорили к пожизненному заключению. Одна из тетрадей со стихотворениями Колесникова до сих пор лежала у Юдина на антресолях.
Начало двадцатых тоже обещало быть урожайным. Две недели назад из дежурной части Смородинского микрорайона поступило сообщение о женской руке, и Юдин немедленно выехал на место происшествия, хотя на часах было пять утра. Конечность обнаружили между пустырем, где спал под сугробами золотистый песок, и заснеженными лугами. Над пустырем нависало сизое небо, затянутое тучами, а возле дороги возвышалась бетонная остановка советского образца – тускло-белая, усыпанная пестрой крошкой мозаики на космическую тематику. В кроваво-синих всполохах проблесковых маячков ежились на ветру сонные понятые, переглядывались хмурые опера. У судмедэксперта, криминалиста и кинолога были одинаково кислые лица. Норд, немецкая овчарка, сидел на снегу и принюхивался к воздуху.
- Боже правый, – вырвалось у неверующего Юдина, когда он приблизился к ожидающим коллегам и разглядел причину вызова. На бетонной скамье остановки лежала женская рука с татуировкой в виде медузы. К руке черной траурной лентой была привязана искусственная гвоздика, а на запястье виднелась трафаретная цифра «1», нанесенная желтой краской. Ленту с надписью «вечная память» подергивало ветром. К грязно-синим трупным пятнам прилагался рубленый срез с красновато-коричневой каймой. Рука была более-менее свежей.
«Да уж, головняк…» - подумал Юдин, потирая подбородок. Ледяной ветер проникал под лаковый козырек мутоновой шапки, хлестал по утепленной форменной куртке и сминал штанины с багровым кантом. Трепетали концы траурной ленты.
Покружив возле скамьи шерстяной юлой, Норд не смог взять след и озадаченно замер. Юдин скептически окинул взглядом дорогу и пустырь. Вероятность того, что руку привезли на машине, обретала четкие очертания и сулила монотонную работу с ближайшими камерами. Которой, впрочем, еще можно было избежать. Юдин приказал операм опросить всех, кто жил в близлежащих домах, но очевидцев среди них не нашлось. Дело стремительно превращалось в головоломку, а особенно усложнялось анонимностью руки.
Узнав о пронумерованной конечности, Следственный комитет по Ленинской области организовал следственно-оперативную группу, во главе которой оказался, конечно же, Юдин. Первая неделя ушла на экспертизы, изучение места происшествия и работу с водителями, автомобили которых попали на дорожные камеры. К счастью, таковых оказалось немного – преступление произошло глубокой ночью на отшибе города, куда редко кто заезжал. Но проделанная работа ничего не дала. На месте происшествия тоже не нашлось ничего, что могло бы помочь следствию. Порадовал Юдина лишь судмедэксперт, который внес кое-какую ясность.
Согласно его выводам, руку отделили посмертно, тремя ударами топора. Девушка же была убита или умерла в промежутке между десятью и одиннадцатью часами вечера. Песок, обнаруженный под ногтями, оказался идентичен песку со Смородинского пляжа. Однако на личность убийцы ничего не указывало – на руке не обнаружилось ни отпечатков пальцев, ни следов зубов, ни биологических жидкостей. Трупные пятна были сконцентрированы в кисти и пальцах, и это доказывало, что какое-то время труп находился в вертикальном положении.
Личность погибшей удалось установить лишь через две недели, когда было уже слишком поздно. Погибшая нашлась в списке свежих потеряшек[2] и оказалась четырнадцатилетней Жанной Клименко, которая при жизни не отличалась примерным поведением. Родственники Жанны оказались не лучше: бабушка в конце восьмидесятых работала на панели, а остальные родственники просто тихо пили. Ничего хорошего такой расклад не предвещал. Жанна была запущенным ребенком, и убить её мог кто угодно – начиная с нестабильных родственников и заканчивая случайным прохожим.
[2] без вести пропавшие
Биллинг показал, что в последний раз мобильный Жанны засветился на смородинском пляже, неподалеку от кафе «Речное». Естественно, следов борьбы на пляже уже не было - за две недели снег подтаял, стерев все возможные подсказки. Телефон найти не удалось. Юдин распорядился насчет опросов, но люди, живущие возле пляжа, ничего не видели и не слышали. Работники кафе и ближайшей больницы тоже ничего путного не сообщили. Выводы напрашивались неутешительные: нельзя было исключать, что преступник уже убивал и прекрасно знает, как заметать следы. Возможно, когда-то давно он не прибрал за собой, из-за чего побывал в местах не столь отдаленных. Юдин понял, что пора браться за картотеку.
Но перед этим следовало допросить родственников жертвы. Конечно, Юдин мог поручить это лейтенанту и старшему следователю Гатауллину, который тоже входил в состав группы и имел неплохой опыт работы с бытовой мокрухой, однако на этот раз Юдина снедало желание поговорить с родственниками Жанны лично. Он слишком давно не любовался нарастающим страхом, который проступал на побледневшем лице фигуранта, и эту потребность нужно было срочно удовлетворить.
Тучи снова обнажили неровный ломтик луны, и на лицо Юдина упал квадрат белого, как алебастр, света. Спящее тело почти не шевелилось, однако сам Юдин барахтался в бессознательном. Тягуче шуршала в ночном сумраке пожухлая осенняя рожь, сухие колосья били по кителю, ботинки увязали в черноземе. Юдин что есть сил несся по колхозному полю, преследуя мазутно-черную тень душегуба. У Юдина было мало времени. Дрыгая ногами и приплясывая, тень убегала в сторону затхлого болота, над которым подергивались йодно-желтые огоньки.
В бледно-зеленых рефлексах стеклоблоков, сквозь которые в помещение мясного рынка проникал студенистый свет, дышали холодом прилавки с грудами сырой говядины, курятины и свинины. Пахло полами, обработанными хлоркой, а голоса покупателей сливались в негромкий гул и эхом отталкивались от высоких стен. Сдув с лица крупный локон, выбившийся из-под голубого колпака, Неля потянула руку в прозрачной перчатке к морозным залежам сочно-красной говядины, цвет которой вступал в болезненный контраст с голубыми фартуками продавщиц. По ту сторону прилавка стоял сутуловатый и задумчивый Фишер. От его прокуренной одежды тянуло дымом, а из-под куртки торчал воротник клетчатой рубашки. Фишер пришел за тремя килограммами говяжьей вырезки. Он молчал и с некоторым упоением косился на субтильную Нелю, которая ловко кидала на весы тяжелые говяжьи мышцы. За её спиной покачивались на крюках толстые пласты мяса, напоминающие гигантские языки.
- Давай встретимся с тобой в пятницу, - предложила Неля, заметив во взгляде Фишера знакомый тяжелый блеск, обычно сопровождающий его мазохистские порывы, - можно было бы сегодня, но я сегодня не могу, меня вызвали в Следственный комитет.
- Давай, конечно, у меня как раз выходной, - с готовностью отозвался Фишер, - из-за племянницы?
- Ага. Как ты догадался, Евгеша?
- Предположил. Две недели назад в морг приходили менты, спрашивали, замечал ли я что-нибудь странное. А потом медсестры рассказали, что на пустыре руку нашли.
- Про руку я уже в курсе, - буркнула Неля и достала из-под прилавка пакет, - знаешь, кто следак? Тот важный хрен, который у нас в области двух маньяков поймал. Миронова и Колесникова. Наводит на мысли, да?
- Более чем. Соболезную, - нахмурился Фишер.
- Да ладно, можешь не расшаркиваться. Я Жанку не видела уже года полтора.
- Ты хорошо осведомлена о родственниках, с которыми не общаешься, - со странной интонацией подметил он и захлебнулся кашлем. Влажный хрип клочками вырывался из легких и спотыкался об ладонь, прижатую ко рту.
- Люблю быть в курсе, - усмехнулась Неля, - жаль, что мне сегодня в мусарню нужно. Я бы тебе с удовольствием рога обломала.
Фишер хмыкнул. Не зная, в каком тоне лучше ответить, он обычно издавал глухой смешок и полагал, что Неля до сих пор не разгадала его маневр.
Переписка с Фишером завязалась год назад. Нелю заинтересовали его нестандартные фетиши, едкое чувство юмора и неприятие серьезных отношений. Неле не нравилось, когда партнеры лезли в душу и требовали чувственного отклика. Судя по всему, именно этого от Фишера нельзя было дождаться ни при каких обстоятельствах.
Первая встреча состоялась в блинной. Фишер оказался флегматичным очкариком в клетчатой рубашке, которому в ноябре исполнилось двадцать пять. Непроницаемо глядя на Нелю и сухо покашливая, он рассказал, что работает в морге, живет в частном доме на окраине и слушает постпанк. Когда Неля сообщила, что ей нравятся документальные фильмы о серийных убийцах, Фишер оживился. С видимым облегчением он признался, что интересуется Анатолием Сливко, Сергеем Головкиным и Джеффри Дамером. Новый знакомый нравился Неле всё больше. Фишер предложил укрепить знакомство в приватной обстановке.
- Только если ты плохой мальчик, Евгеша, - шутливо осадила его Неля.
- Я сидел за убийство, - серьезным тоном произнес он.
- А ты юморист.
- При чем здесь юмор? - возразил он, но сразу расслабился. - На самом деле я преувеличил, это была всего лишь самооборона. Но человек всё равно умер.
- И кем ты сидел?
- Козлом[3], - лаконично ответил Фишер.
[3] заключенный, состоящий в активе и сотрудничающий с администрацией исправительного учреждения
Насчет пребывания на зоне он не солгал. Доказательством этому были тонкий рубец на животе и уродливые шрамы на левой руке: еще на воле Фишер пережил удар ножом, который ему нанес пьяный знакомый, а в следственном изоляторе пытался вскрыть вены. Судя по всему, остальное тоже могло быть правдой. Однако Неля не рискнула сходу ехать к нему домой и настояла на гостинице.
Следующая встреча состоялась уже на территории Фишера. Придя раньше назначенного времени, Неля застала его за готовкой: он шинковал поварским ножом овощи и промывал от застоявшейся крови куриные сердца, а на черную ткань фартука пестрой пылью оседали специи – чеснок, карри и красный перец. К ужину Фишер потушил овощное рагу с печенью, сердцами и желудками. В последовавшем разговоре Неля случайно выяснила, что в школе Фишеру приходилось нелегко. Когда он показал свои детские фотографии, Неля поняла, что тоже не удержалась бы от нападок – она в свое время недолюбливала ботаников.
«Теперь понятно, почему ты так прешься от унижений», - подумала она, но ей хватило ума не говорить этого вслух.
Фишер, конечно, повзрослел и возмужал, однако аутсайдером быть не перестал. Одним из его хобби была теоретическая физика. Он читал о параллельных мирах и путешествиях во времени, а иногда даже порывался обсудить это с Нелей, но она находила эти теории безумными. Наталкиваясь на вежливое молчание, Фишер так же вежливо сворачивал разговор. Кажется, он понимал, что не все разделяют его интересы. Второе хобби, бердвотчинг, было не менее скучным. Надевая дождевик и резиновые сапоги, Фишер часами бродил по лесу с фотокамерой и снимал птиц. Другие причуды были лишь скромными штрихами к портрету: он пил чай с гематогеном, подолгу мыл руки с мылом, собственноручно затачивал кухонные ножи и крахмалил постельное белье. Словом, был однозначно странным, но всё же безобидным. Фишера тяготила неизгладимая потребность бояться, и иногда ему хотелось, чтобы его хорошенько приструнили. В этом Неля его охотно поддерживала. Повод для наказания выбирали, раскрывая наугад уголовный кодекс и указывая на случайную статью. Жилистый Фишер был на полторы головы выше Нели и, само собой, сильнее, поэтому мучить его было приятно. Озлобленно-жалкий вид дергающегося человека, неспособного себе помочь, приятно согревал сердце Нели. Однако на повседневную жизнь мазохизм Фишера не распространялся. От бывшего активиста и, скорее всего, завхоза[4]сложно было ожидать моральной слабости.
[4] заключенный, который следит за хозяйственными делами в отряде или на территории исправительного учреждения
Забрав пакет с покупками, Фишер скромно попрощался и ушел. Неля же проработала до четырех часов, а затем, сняв фартук с колпаком, покинула мясной рынок. Через полчаса ей следовало быть в управлении Следственного комитета, куда её вызвал следователь по особо важным делам, Роман Викторович Юдин. С одной стороны, беседовать с ним Неле не хотелось, потому что об убитой племяннице она ничего дельного рассказать не могла и свой визит считала бесполезным. С другой стороны, ей выпала возможность собственными глазами посмотреть на человека, который отправил на пожизненное двух потрошителей, ставших зловещими символами Ленинской области.
Неля вышла на бетонное крыльцо рынка и закурила. Город вел обычную весеннюю жизнь. Полотно мокрого снега разъедали проплешины асфальта и темной земли, а в кленовых ветвях тревожно каркали вороны. Натужно дребезжа, проползла по рельсам голубая гусеница трамвая и скрылась за Парком Афганцев, где в частоколе беленых деревьев виднелись тускло-синие фонтаны. На пятаке парковой площади водили неподвижный хоровод тридцать шесть тюльпанов из черного мрамора - по количеству жителей Павлозаводска, не вернувшихся из Афганистана. В центре площади возвышался флагшток с российским триколором. Улицу, вдоль которой располагался парк, занимал овощной базар, окутанный запахом сырости, беляшей и подгнившей зелени. Сделав последнюю затяжку, Неля выбросила тлеющий окурок в урну, и тот исчез в разинутом клюве железного пингвина, покрытого засохшими потеками грязи. Пока Неля шла к автобусной остановке, под подошвами сапог хрустела тонкая корка луж. По щекам бил холодный ветер. Неля накинула капюшон, и в поле зрения затрепетала меховая опушка.
Родня Нели проживала в частном секторе, возле угольных разрезов. Старшее поколение представляли собой дедушка, который из-за болезни Альцгеймера не покидал кровать, и хромая бабушка, недолюбливающая молодых членов семьи. За стариками ухаживала мать Нели – умеренно пьющая женщина, которая в молодости стояла на трассе, а потом вышла замуж за шахтера. Свадьбу сыграли со всеми атрибутами, которые тогда считались обязательными: пышным белым платьем, выкупом невесты и куклой на капоте, а после этого началась приличная жизнь - мать Нели обзавелась двумя дочерьми и тремя сыновьями. Время семью не укрепило. Отца бесследно поглотил взрыв метана, и он навсегда остался в забое. Подросшие дети разъехались по общежитиям соседних городов, а в Павлозаводске остались лишь Неля и её старшая сестра Катя, которая после замужества стала носить фамилию Клименко. Катя с мужем и дочерью проживали в том же доме, что и матриарх семейства.
Неля считала свое детство беззаботным, хоть оно и сопровождалось финансовыми проблемами. До начала полового созревания она одевалась, как мальчишка, и с такими же несозревшими братьями лазила по ветшающим стройкам и исполинским котлованам, где можно было без опасений взрывать петарды и самодельные бомбы из селитры. Каким-то чудом Неля вступила в подростковый возраст с полным набором конечностей и неповрежденными глазами, а затем, преобразившись в весьма женственную панкушку, пристрастилась к сигаретам и алкоголю. Иногда Неля уходила из дома, но возвращалась всегда живой и здоровой. Несмотря на инаковость, изгоем в школе она не стала и заняла в типичной для казенных учреждений иерархии место экзекутора. С задором Спесивцева она издевалась над слишком воспитанными одноклассницами и болезненными одноклассниками, которым не повезло родиться дефектными. Вещи тех, кто реагировал на её выходки слишком скучно, Неля просто прятала, более эмоциональных ребят запирала в душных хозяйственных помещениях, из-за чего они начинали хныкать, а запуганных девочек силой умывала в туалете, заламывая им руки за спину и окуная лицом в мыльную раковину. Во время одного из таких умываний Неля случайно сломала жертве мизинец. Стучать жертва не стала – чтобы избежать худшего.
После кулинарного техникума Неля переехала в Петербург. Там она пристрастилась к мефедрону, поняла, что денег ей теперь нужно больше, и занялась эпизодической проституцией, избрав наиболее доходную роль. Субтильное телосложение позволяло притворяться пятнадцатилетней, и это помогало драть с клиента удвоенную, а то и утроенную сумму – если в моральном плане он был не только первертом, но и тюфяком. Некоторых смущал хрипловатый голос Нели, и она в таких случаях отвечала, что родилась в шахтерском поселке и курит уже пять лет. Когда мефедрон окончательно стер с её лица подростковую свежесть, Неля переключилась на роль госпожи. Выяснилось, что ненависть приносит больше денег, чем амплуа Лолиты из нищей глубинки, и проблемы Нели отступили на задний план. Впрочем, на улице она и так никогда не работала. Неля определенно была успешнее матери.
К сожалению, из-за нехорошей истории с криминальным душком Петербург пришлось покинуть. Вернувшись в Павлозаводск с ворохом невысказанных обид, Неля устроилась продавщицей в продуктовый магазин и больше в сомнительные проекты не ввязывалась. Семья о нелегких годах Нели ничего не знала. А Неля не собиралась рассказывать о них никому – даже Фишеру, с которым у неё сложились на редкость долгие и стабильные дружеские отношения.
Управление Следственного комитета находилось возле набережной, где были сосредоточены главные достопримечательности города: исполинский градусник на торце жилого дома, единственный в Павлозаводске подземный переход и башня с офисами, увенчанная черным циферблатом. Градусник был для жителей Павлозаводска популярным местом встречи, стены темного перехода были расписаны шаржами на постсоветских знаменитостей, а башню в народе с теплой иронией называли «Биг-Беном». Здание Следственного комитета разительно отличалось от своего коммерческого окружения: четыре этажа серой плитки, железные прутья забора и тесное крыльцо с флагом России, темное отражение которого колыхалось в окнах лестничной клетки. Перед крыльцом ожидали тепла голые клумбы с мерзлой землей, чтобы к лету вздуться розовым каскадом фуксий.
В кабинете на третьем этаже Нелю уже поджидал майор Юдин, следователь по особо важным делам и охотник на маньяков. Внешне это был мужчина лет сорока с короткой прядью темных волос, спадающей на лоб. За годы службы он осунулся, однако мускулатура до сих пор оставалась при нем. В молодости он наверняка был привлекательным, но теперь впечатление портил взгляд, отягощенный профессиональным цинизмом. Плотно задернутые жалюзи наполняли воздух легкой серостью, смешанной с бледным светом потолочной лампы. В полумраке Неля даже не сразу разглядела в дальнем углу молодого лейтенанта-татарина, наблюдающего за ней из-за компьютера. Единственными яркими пятнами на весь кабинет были лишь синий китель Юдина и ярко-красная искусственная гвоздика, которая почему-то стояла в вазе на следовательском столе. Неля застыла в дверях. Юдин впился в неё пристальным взглядом.
- Добрый день, Нелли Ивановна, - не вставая с места, произнес он вежливым, но безличным тоном и взмахом руки указал на пустой стул, - присаживайтесь.
Неля уселась, закинув ногу на ногу, и отдала Юдину паспорт, а взамен получила лист бумаги, где были перечислены права свидетеля. Неля внимательно прочла документ. Содержание заголовку соответствовало.
- Догадываетесь, зачем я вас вызвал? – спросил Юдин.
- Видимо, из-за племянницы, - без особого удивления ответила она и отложила лист. В углу застучали по клавишам пальцы молодого лейтенанта.
- Так и есть. Насколько близко вы знали Жанну Клименко?
- Вообще никак, в последний раз я её видела осенью, - пожала плечами Неля, - я стараюсь не встречаться с родственниками.
- И они это подтверждают, - вкрадчиво продолжил Юдин, заговорив вдруг с неприветливым холодком казенного механизма, - у вас не очень-то сплоченная семья. Антонина Васильевна, например, считает, что Жанна сама была во всем виновата, потому что гуляла по ночам, курила и употребляла алкоголь.
- У нас все так делают. А мнение бабки ничего не стоит, она думает только о себе, и на других ей наплевать.
- Так ведь и вам наплевать, Нелли Ивановна, - откинулся Юдин на спинку стула, - ваша мать сообщила, что в детстве вы играли в «жуткие», по её мнению, игры. Уродовали кукол, а потом хоронили их в огороде.
- Это нормально для детей, все дети играют в похороны, - осторожно возразила Неля.
Чего она не ожидала, так это того, что Юдина заинтересует её детство. Когда-то Неле и вправду нравилось играть с куклами - раздирать тела ножом и густо измазывать останки вишневым соком. Кукол, покрытых колото-резаными ранами, Неля закапывала в углу огорода, где покачивало рукавами пугало, наряженное в черный брезентовый плащ. Когда старшие родственники решили посадить картошку и начали перекапывать участок, их глазам предстало захоронение, где обнаружилось несколько десятков кукольных трупиков. К маленькой Неле сразу же возникли вопросы, но оправдываться перед родственниками она не стала, а потом и вовсе забыла об этом происшествии. Однако родственники, как оказалось, не забыли.
- Ваша мать сообщила, что после техникума вы уехали в Петербург и разорвали все контакты с семьей. Почему вы так поступили? – с тонкой улыбкой спросил Юдин. В его голосе зазвучали человеческие нотки, но это были нотки тщательно скрываемого наслаждения.
- Потому что они мне нахер не нужны! – выпалила Неля. Глухой цокот клавиш в углу прервался.
- Комина, - неодобрительно посмотрел на неё Юдин, - просьба выражаться в приличной форме.
- Потому что они мне совсем не нужны, - процедила она сквозь зубы, но взяла себя в руки. Злить следователя было рискованно. Пока что Юдин мало походил на свой официальный образ, и Неле не верилось, что он действительно считает убийцей её – на основании одних лишь игрушек, закопанных в огороде много лет назад. И если Юдин не был таким наблюдательным, каким его считали граждане Павлозаводска, он вполне мог повесить на невинного человека преступление, которое требовалось поскорее раскрыть. Неля нахмурилась и закусила губу.
- Антонина Васильевна хваталась за сердце и утверждала, что ваша нелюбовь сводит её в могилу, - не унимался Юдин. Одну за другой он вытаскивал из памяти опрометчивые фразы родственников Нели, которые явно не могли предвидеть, чем для неё обернутся их показания.
- Бабка ломает комедию, она умирает уже лет тридцать, - отбила удар Неля, сложив руки на груди, - она еще нас всех переживет.
- Ваша мать рассказала, что вы работаете на мясном рынке, гражданка Комина. И в ваши обязанности входит не только продажа, но еще и обвалка.
- Вы что, меня подозреваете? – исподлобья посмотрела она на Юдина. – Вы правда считаете, что я способна убить ребенка?
- Где вы находились, когда погибла ваша племянница? – строго спросил Юдин.
- А когда она погибла? Какого числа?
- Восьмого марта.
- Вечером я ходила с подругами в бар, а до этого была у любовника.
Юдин задумался, и его лицо снова приняло непроницаемое выражение, будто и не было проблесков злорадства, упоения чужой нервозностью, которые невозможно было спрятать за форменным мундиром и репутацией профессионала. Медленно запустив ладонь в карман кителя, Юдин положил перед Нелей фотографию.
- Вам знаком этот человек? – проникновенно спросил он.
От изумления Неля вскинула брови. Дело стремительно принимало совсем иной оборот. Человека с фотографии Неля определенно знала. Широкая улыбка с оголенной десной и крупными зубами, пожелтевшими от курения, крючковатый нос с горбинкой, темные глаза за стеклами очков, напоминающие черный янтарь… Никаких сомнений. На фотографии был запечатлен Евгений Фишер. До Нели запоздало дошло, что Юдин её даже не подозревал. Не выходя за рамки служебных приличий и не прибегая к рукоприкладству, он намеренно выводил её из себя, чтобы в итоге огорошить и расспросить о настоящем подозреваемом.
«Какой из него маньяк? Человека он, конечно, зарезал, но когда это было? – раздумывала Неля, уставившись на фотографию. – Да и зачем ему детей расчленять?..»
- Конечно, - произнесла она, собравшись с мыслями, - это и есть мой любовник, Женя Фишер.
- Где и при каких обстоятельствах вы познакомились?
- В прошлом феврале, в тиндере. У нас совпали сексуальные предпочтения.
- Какие, например?
- А об этом обязательно прям подробно рассказывать? Разве это имеет отношение к делу? – насторожилась Неля. Ответом ей было лишь молчание. По всей видимости, увернуться от вопроса было нельзя.
- Садо-мазо, - твердо произнесла она. Юдин вопросительно вскинул бровь.
- Женя возбуждается, когда ему делают больно. Особенно ему нравится, когда его душат и тушат об него сигареты, когда ножом режут... Он вообще жесткий, хардкорный мазохист, - объяснила Неля. Юдин промолчал. Он нахмурился и поиграл желваками. Неля покосилась на лейтенанта, который сидел в углу, и заметила, что он поглядывает на неё с легким недоумением.
- Очень интересная информация, - произнес наконец Юдин, - вы, кстати, знаете, кем Фишер работает? И где?
- Ночным санитаром, в морге на Смородине, - ответила Неля, - а что?
- Спасибо, Нелли Ивановна, вы нам очень помогли, - спокойно сообщил Юдин, вновь надев маску бюрократа. Неля притворно улыбнулась:
- Да не за что.
Подписав протокол и расписку о неразглашении, она поспешно покинула управление. Спустившись в темный подземный переход, в полумраке которого виднелись карикатурные лица Верки Сердючки и пародистов из «Кривого зеркала», Неля погрузилась в мрачные раздумья. Для жестокого убийцы Фишер выглядел слишком уж невинным, однако в ночь смерти Жанны он находился недалеко от места, где позже нашли её руку. К тому же, сегодня он без объяснений понял, из-за чего Нелю вызвали на допрос… Нет, что-то тут не сходилось. Неля решила подождать развития событий, а с Фишером пока не видеться. До назначенного свидания оставалось четыре дня. За это время Юдин должен был вынести вердикт.
Вернувшись в приватизированное общежитие, где она снимала студию, Неля кое-как умылась, завалилась в неубранную постель с мятыми простынями и сама не заметила, как заснула. Внешний мир погружался в сон вместе с ней. За окном набирал силу фонарный свет, который тусклыми бликами пробивался сквозь гелевые свечи, и его пестрые мазки отпечатывались в косой тени цветущего кактуса, что стоял на подоконнике. Пышный фиолетово-коричневый цветок с ворсистыми лепестками напоминал кусок несвежего мяса. От цветка исходил тяжелый запах тухлятины.
Дневные хлопоты отпечатались на сновидениях Нели, превратив их в навязчивый кошмар. Границы картофельного поля сливались с пустой чернотой, а в вывернутой наизнанку земле горели, как самоцветы, гнойно-желтые картофельные клубни. Собирать их было уже некому. Земля под ногами подрагивала, медленно убегали во тьму три серых зайца, а Неля держала их на мушке отцовского ружья и надеялась сделать хотя бы один точный выстрел.
- Давай встретимся с тобой в пятницу, - предложила Неля, заметив во взгляде Фишера знакомый тяжелый блеск, обычно сопровождающий его мазохистские порывы, - можно было бы сегодня, но я сегодня не могу, меня вызвали в Следственный комитет.
- Давай, конечно, у меня как раз выходной, - с готовностью отозвался Фишер, - из-за племянницы?
- Ага. Как ты догадался, Евгеша?
- Предположил. Две недели назад в морг приходили менты, спрашивали, замечал ли я что-нибудь странное. А потом медсестры рассказали, что на пустыре руку нашли.
- Про руку я уже в курсе, - буркнула Неля и достала из-под прилавка пакет, - знаешь, кто следак? Тот важный хрен, который у нас в области двух маньяков поймал. Миронова и Колесникова. Наводит на мысли, да?
- Более чем. Соболезную, - нахмурился Фишер.
- Да ладно, можешь не расшаркиваться. Я Жанку не видела уже года полтора.
- Ты хорошо осведомлена о родственниках, с которыми не общаешься, - со странной интонацией подметил он и захлебнулся кашлем. Влажный хрип клочками вырывался из легких и спотыкался об ладонь, прижатую ко рту.
- Люблю быть в курсе, - усмехнулась Неля, - жаль, что мне сегодня в мусарню нужно. Я бы тебе с удовольствием рога обломала.
Фишер хмыкнул. Не зная, в каком тоне лучше ответить, он обычно издавал глухой смешок и полагал, что Неля до сих пор не разгадала его маневр.
Переписка с Фишером завязалась год назад. Нелю заинтересовали его нестандартные фетиши, едкое чувство юмора и неприятие серьезных отношений. Неле не нравилось, когда партнеры лезли в душу и требовали чувственного отклика. Судя по всему, именно этого от Фишера нельзя было дождаться ни при каких обстоятельствах.
Первая встреча состоялась в блинной. Фишер оказался флегматичным очкариком в клетчатой рубашке, которому в ноябре исполнилось двадцать пять. Непроницаемо глядя на Нелю и сухо покашливая, он рассказал, что работает в морге, живет в частном доме на окраине и слушает постпанк. Когда Неля сообщила, что ей нравятся документальные фильмы о серийных убийцах, Фишер оживился. С видимым облегчением он признался, что интересуется Анатолием Сливко, Сергеем Головкиным и Джеффри Дамером. Новый знакомый нравился Неле всё больше. Фишер предложил укрепить знакомство в приватной обстановке.
- Только если ты плохой мальчик, Евгеша, - шутливо осадила его Неля.
- Я сидел за убийство, - серьезным тоном произнес он.
- А ты юморист.
- При чем здесь юмор? - возразил он, но сразу расслабился. - На самом деле я преувеличил, это была всего лишь самооборона. Но человек всё равно умер.
- И кем ты сидел?
- Козлом[3], - лаконично ответил Фишер.
[3] заключенный, состоящий в активе и сотрудничающий с администрацией исправительного учреждения
Насчет пребывания на зоне он не солгал. Доказательством этому были тонкий рубец на животе и уродливые шрамы на левой руке: еще на воле Фишер пережил удар ножом, который ему нанес пьяный знакомый, а в следственном изоляторе пытался вскрыть вены. Судя по всему, остальное тоже могло быть правдой. Однако Неля не рискнула сходу ехать к нему домой и настояла на гостинице.
Следующая встреча состоялась уже на территории Фишера. Придя раньше назначенного времени, Неля застала его за готовкой: он шинковал поварским ножом овощи и промывал от застоявшейся крови куриные сердца, а на черную ткань фартука пестрой пылью оседали специи – чеснок, карри и красный перец. К ужину Фишер потушил овощное рагу с печенью, сердцами и желудками. В последовавшем разговоре Неля случайно выяснила, что в школе Фишеру приходилось нелегко. Когда он показал свои детские фотографии, Неля поняла, что тоже не удержалась бы от нападок – она в свое время недолюбливала ботаников.
«Теперь понятно, почему ты так прешься от унижений», - подумала она, но ей хватило ума не говорить этого вслух.
Фишер, конечно, повзрослел и возмужал, однако аутсайдером быть не перестал. Одним из его хобби была теоретическая физика. Он читал о параллельных мирах и путешествиях во времени, а иногда даже порывался обсудить это с Нелей, но она находила эти теории безумными. Наталкиваясь на вежливое молчание, Фишер так же вежливо сворачивал разговор. Кажется, он понимал, что не все разделяют его интересы. Второе хобби, бердвотчинг, было не менее скучным. Надевая дождевик и резиновые сапоги, Фишер часами бродил по лесу с фотокамерой и снимал птиц. Другие причуды были лишь скромными штрихами к портрету: он пил чай с гематогеном, подолгу мыл руки с мылом, собственноручно затачивал кухонные ножи и крахмалил постельное белье. Словом, был однозначно странным, но всё же безобидным. Фишера тяготила неизгладимая потребность бояться, и иногда ему хотелось, чтобы его хорошенько приструнили. В этом Неля его охотно поддерживала. Повод для наказания выбирали, раскрывая наугад уголовный кодекс и указывая на случайную статью. Жилистый Фишер был на полторы головы выше Нели и, само собой, сильнее, поэтому мучить его было приятно. Озлобленно-жалкий вид дергающегося человека, неспособного себе помочь, приятно согревал сердце Нели. Однако на повседневную жизнь мазохизм Фишера не распространялся. От бывшего активиста и, скорее всего, завхоза[4]сложно было ожидать моральной слабости.
[4] заключенный, который следит за хозяйственными делами в отряде или на территории исправительного учреждения
Забрав пакет с покупками, Фишер скромно попрощался и ушел. Неля же проработала до четырех часов, а затем, сняв фартук с колпаком, покинула мясной рынок. Через полчаса ей следовало быть в управлении Следственного комитета, куда её вызвал следователь по особо важным делам, Роман Викторович Юдин. С одной стороны, беседовать с ним Неле не хотелось, потому что об убитой племяннице она ничего дельного рассказать не могла и свой визит считала бесполезным. С другой стороны, ей выпала возможность собственными глазами посмотреть на человека, который отправил на пожизненное двух потрошителей, ставших зловещими символами Ленинской области.
Неля вышла на бетонное крыльцо рынка и закурила. Город вел обычную весеннюю жизнь. Полотно мокрого снега разъедали проплешины асфальта и темной земли, а в кленовых ветвях тревожно каркали вороны. Натужно дребезжа, проползла по рельсам голубая гусеница трамвая и скрылась за Парком Афганцев, где в частоколе беленых деревьев виднелись тускло-синие фонтаны. На пятаке парковой площади водили неподвижный хоровод тридцать шесть тюльпанов из черного мрамора - по количеству жителей Павлозаводска, не вернувшихся из Афганистана. В центре площади возвышался флагшток с российским триколором. Улицу, вдоль которой располагался парк, занимал овощной базар, окутанный запахом сырости, беляшей и подгнившей зелени. Сделав последнюю затяжку, Неля выбросила тлеющий окурок в урну, и тот исчез в разинутом клюве железного пингвина, покрытого засохшими потеками грязи. Пока Неля шла к автобусной остановке, под подошвами сапог хрустела тонкая корка луж. По щекам бил холодный ветер. Неля накинула капюшон, и в поле зрения затрепетала меховая опушка.
Родня Нели проживала в частном секторе, возле угольных разрезов. Старшее поколение представляли собой дедушка, который из-за болезни Альцгеймера не покидал кровать, и хромая бабушка, недолюбливающая молодых членов семьи. За стариками ухаживала мать Нели – умеренно пьющая женщина, которая в молодости стояла на трассе, а потом вышла замуж за шахтера. Свадьбу сыграли со всеми атрибутами, которые тогда считались обязательными: пышным белым платьем, выкупом невесты и куклой на капоте, а после этого началась приличная жизнь - мать Нели обзавелась двумя дочерьми и тремя сыновьями. Время семью не укрепило. Отца бесследно поглотил взрыв метана, и он навсегда остался в забое. Подросшие дети разъехались по общежитиям соседних городов, а в Павлозаводске остались лишь Неля и её старшая сестра Катя, которая после замужества стала носить фамилию Клименко. Катя с мужем и дочерью проживали в том же доме, что и матриарх семейства.
Неля считала свое детство беззаботным, хоть оно и сопровождалось финансовыми проблемами. До начала полового созревания она одевалась, как мальчишка, и с такими же несозревшими братьями лазила по ветшающим стройкам и исполинским котлованам, где можно было без опасений взрывать петарды и самодельные бомбы из селитры. Каким-то чудом Неля вступила в подростковый возраст с полным набором конечностей и неповрежденными глазами, а затем, преобразившись в весьма женственную панкушку, пристрастилась к сигаретам и алкоголю. Иногда Неля уходила из дома, но возвращалась всегда живой и здоровой. Несмотря на инаковость, изгоем в школе она не стала и заняла в типичной для казенных учреждений иерархии место экзекутора. С задором Спесивцева она издевалась над слишком воспитанными одноклассницами и болезненными одноклассниками, которым не повезло родиться дефектными. Вещи тех, кто реагировал на её выходки слишком скучно, Неля просто прятала, более эмоциональных ребят запирала в душных хозяйственных помещениях, из-за чего они начинали хныкать, а запуганных девочек силой умывала в туалете, заламывая им руки за спину и окуная лицом в мыльную раковину. Во время одного из таких умываний Неля случайно сломала жертве мизинец. Стучать жертва не стала – чтобы избежать худшего.
После кулинарного техникума Неля переехала в Петербург. Там она пристрастилась к мефедрону, поняла, что денег ей теперь нужно больше, и занялась эпизодической проституцией, избрав наиболее доходную роль. Субтильное телосложение позволяло притворяться пятнадцатилетней, и это помогало драть с клиента удвоенную, а то и утроенную сумму – если в моральном плане он был не только первертом, но и тюфяком. Некоторых смущал хрипловатый голос Нели, и она в таких случаях отвечала, что родилась в шахтерском поселке и курит уже пять лет. Когда мефедрон окончательно стер с её лица подростковую свежесть, Неля переключилась на роль госпожи. Выяснилось, что ненависть приносит больше денег, чем амплуа Лолиты из нищей глубинки, и проблемы Нели отступили на задний план. Впрочем, на улице она и так никогда не работала. Неля определенно была успешнее матери.
К сожалению, из-за нехорошей истории с криминальным душком Петербург пришлось покинуть. Вернувшись в Павлозаводск с ворохом невысказанных обид, Неля устроилась продавщицей в продуктовый магазин и больше в сомнительные проекты не ввязывалась. Семья о нелегких годах Нели ничего не знала. А Неля не собиралась рассказывать о них никому – даже Фишеру, с которым у неё сложились на редкость долгие и стабильные дружеские отношения.
Управление Следственного комитета находилось возле набережной, где были сосредоточены главные достопримечательности города: исполинский градусник на торце жилого дома, единственный в Павлозаводске подземный переход и башня с офисами, увенчанная черным циферблатом. Градусник был для жителей Павлозаводска популярным местом встречи, стены темного перехода были расписаны шаржами на постсоветских знаменитостей, а башню в народе с теплой иронией называли «Биг-Беном». Здание Следственного комитета разительно отличалось от своего коммерческого окружения: четыре этажа серой плитки, железные прутья забора и тесное крыльцо с флагом России, темное отражение которого колыхалось в окнах лестничной клетки. Перед крыльцом ожидали тепла голые клумбы с мерзлой землей, чтобы к лету вздуться розовым каскадом фуксий.
В кабинете на третьем этаже Нелю уже поджидал майор Юдин, следователь по особо важным делам и охотник на маньяков. Внешне это был мужчина лет сорока с короткой прядью темных волос, спадающей на лоб. За годы службы он осунулся, однако мускулатура до сих пор оставалась при нем. В молодости он наверняка был привлекательным, но теперь впечатление портил взгляд, отягощенный профессиональным цинизмом. Плотно задернутые жалюзи наполняли воздух легкой серостью, смешанной с бледным светом потолочной лампы. В полумраке Неля даже не сразу разглядела в дальнем углу молодого лейтенанта-татарина, наблюдающего за ней из-за компьютера. Единственными яркими пятнами на весь кабинет были лишь синий китель Юдина и ярко-красная искусственная гвоздика, которая почему-то стояла в вазе на следовательском столе. Неля застыла в дверях. Юдин впился в неё пристальным взглядом.
- Добрый день, Нелли Ивановна, - не вставая с места, произнес он вежливым, но безличным тоном и взмахом руки указал на пустой стул, - присаживайтесь.
Неля уселась, закинув ногу на ногу, и отдала Юдину паспорт, а взамен получила лист бумаги, где были перечислены права свидетеля. Неля внимательно прочла документ. Содержание заголовку соответствовало.
- Догадываетесь, зачем я вас вызвал? – спросил Юдин.
- Видимо, из-за племянницы, - без особого удивления ответила она и отложила лист. В углу застучали по клавишам пальцы молодого лейтенанта.
- Так и есть. Насколько близко вы знали Жанну Клименко?
- Вообще никак, в последний раз я её видела осенью, - пожала плечами Неля, - я стараюсь не встречаться с родственниками.
- И они это подтверждают, - вкрадчиво продолжил Юдин, заговорив вдруг с неприветливым холодком казенного механизма, - у вас не очень-то сплоченная семья. Антонина Васильевна, например, считает, что Жанна сама была во всем виновата, потому что гуляла по ночам, курила и употребляла алкоголь.
- У нас все так делают. А мнение бабки ничего не стоит, она думает только о себе, и на других ей наплевать.
- Так ведь и вам наплевать, Нелли Ивановна, - откинулся Юдин на спинку стула, - ваша мать сообщила, что в детстве вы играли в «жуткие», по её мнению, игры. Уродовали кукол, а потом хоронили их в огороде.
- Это нормально для детей, все дети играют в похороны, - осторожно возразила Неля.
Чего она не ожидала, так это того, что Юдина заинтересует её детство. Когда-то Неле и вправду нравилось играть с куклами - раздирать тела ножом и густо измазывать останки вишневым соком. Кукол, покрытых колото-резаными ранами, Неля закапывала в углу огорода, где покачивало рукавами пугало, наряженное в черный брезентовый плащ. Когда старшие родственники решили посадить картошку и начали перекапывать участок, их глазам предстало захоронение, где обнаружилось несколько десятков кукольных трупиков. К маленькой Неле сразу же возникли вопросы, но оправдываться перед родственниками она не стала, а потом и вовсе забыла об этом происшествии. Однако родственники, как оказалось, не забыли.
- Ваша мать сообщила, что после техникума вы уехали в Петербург и разорвали все контакты с семьей. Почему вы так поступили? – с тонкой улыбкой спросил Юдин. В его голосе зазвучали человеческие нотки, но это были нотки тщательно скрываемого наслаждения.
- Потому что они мне нахер не нужны! – выпалила Неля. Глухой цокот клавиш в углу прервался.
- Комина, - неодобрительно посмотрел на неё Юдин, - просьба выражаться в приличной форме.
- Потому что они мне совсем не нужны, - процедила она сквозь зубы, но взяла себя в руки. Злить следователя было рискованно. Пока что Юдин мало походил на свой официальный образ, и Неле не верилось, что он действительно считает убийцей её – на основании одних лишь игрушек, закопанных в огороде много лет назад. И если Юдин не был таким наблюдательным, каким его считали граждане Павлозаводска, он вполне мог повесить на невинного человека преступление, которое требовалось поскорее раскрыть. Неля нахмурилась и закусила губу.
- Антонина Васильевна хваталась за сердце и утверждала, что ваша нелюбовь сводит её в могилу, - не унимался Юдин. Одну за другой он вытаскивал из памяти опрометчивые фразы родственников Нели, которые явно не могли предвидеть, чем для неё обернутся их показания.
- Бабка ломает комедию, она умирает уже лет тридцать, - отбила удар Неля, сложив руки на груди, - она еще нас всех переживет.
- Ваша мать рассказала, что вы работаете на мясном рынке, гражданка Комина. И в ваши обязанности входит не только продажа, но еще и обвалка.
- Вы что, меня подозреваете? – исподлобья посмотрела она на Юдина. – Вы правда считаете, что я способна убить ребенка?
- Где вы находились, когда погибла ваша племянница? – строго спросил Юдин.
- А когда она погибла? Какого числа?
- Восьмого марта.
- Вечером я ходила с подругами в бар, а до этого была у любовника.
Юдин задумался, и его лицо снова приняло непроницаемое выражение, будто и не было проблесков злорадства, упоения чужой нервозностью, которые невозможно было спрятать за форменным мундиром и репутацией профессионала. Медленно запустив ладонь в карман кителя, Юдин положил перед Нелей фотографию.
- Вам знаком этот человек? – проникновенно спросил он.
От изумления Неля вскинула брови. Дело стремительно принимало совсем иной оборот. Человека с фотографии Неля определенно знала. Широкая улыбка с оголенной десной и крупными зубами, пожелтевшими от курения, крючковатый нос с горбинкой, темные глаза за стеклами очков, напоминающие черный янтарь… Никаких сомнений. На фотографии был запечатлен Евгений Фишер. До Нели запоздало дошло, что Юдин её даже не подозревал. Не выходя за рамки служебных приличий и не прибегая к рукоприкладству, он намеренно выводил её из себя, чтобы в итоге огорошить и расспросить о настоящем подозреваемом.
«Какой из него маньяк? Человека он, конечно, зарезал, но когда это было? – раздумывала Неля, уставившись на фотографию. – Да и зачем ему детей расчленять?..»
- Конечно, - произнесла она, собравшись с мыслями, - это и есть мой любовник, Женя Фишер.
- Где и при каких обстоятельствах вы познакомились?
- В прошлом феврале, в тиндере. У нас совпали сексуальные предпочтения.
- Какие, например?
- А об этом обязательно прям подробно рассказывать? Разве это имеет отношение к делу? – насторожилась Неля. Ответом ей было лишь молчание. По всей видимости, увернуться от вопроса было нельзя.
- Садо-мазо, - твердо произнесла она. Юдин вопросительно вскинул бровь.
- Женя возбуждается, когда ему делают больно. Особенно ему нравится, когда его душат и тушат об него сигареты, когда ножом режут... Он вообще жесткий, хардкорный мазохист, - объяснила Неля. Юдин промолчал. Он нахмурился и поиграл желваками. Неля покосилась на лейтенанта, который сидел в углу, и заметила, что он поглядывает на неё с легким недоумением.
- Очень интересная информация, - произнес наконец Юдин, - вы, кстати, знаете, кем Фишер работает? И где?
- Ночным санитаром, в морге на Смородине, - ответила Неля, - а что?
- Спасибо, Нелли Ивановна, вы нам очень помогли, - спокойно сообщил Юдин, вновь надев маску бюрократа. Неля притворно улыбнулась:
- Да не за что.
Подписав протокол и расписку о неразглашении, она поспешно покинула управление. Спустившись в темный подземный переход, в полумраке которого виднелись карикатурные лица Верки Сердючки и пародистов из «Кривого зеркала», Неля погрузилась в мрачные раздумья. Для жестокого убийцы Фишер выглядел слишком уж невинным, однако в ночь смерти Жанны он находился недалеко от места, где позже нашли её руку. К тому же, сегодня он без объяснений понял, из-за чего Нелю вызвали на допрос… Нет, что-то тут не сходилось. Неля решила подождать развития событий, а с Фишером пока не видеться. До назначенного свидания оставалось четыре дня. За это время Юдин должен был вынести вердикт.
Вернувшись в приватизированное общежитие, где она снимала студию, Неля кое-как умылась, завалилась в неубранную постель с мятыми простынями и сама не заметила, как заснула. Внешний мир погружался в сон вместе с ней. За окном набирал силу фонарный свет, который тусклыми бликами пробивался сквозь гелевые свечи, и его пестрые мазки отпечатывались в косой тени цветущего кактуса, что стоял на подоконнике. Пышный фиолетово-коричневый цветок с ворсистыми лепестками напоминал кусок несвежего мяса. От цветка исходил тяжелый запах тухлятины.
Дневные хлопоты отпечатались на сновидениях Нели, превратив их в навязчивый кошмар. Границы картофельного поля сливались с пустой чернотой, а в вывернутой наизнанку земле горели, как самоцветы, гнойно-желтые картофельные клубни. Собирать их было уже некому. Земля под ногами подрагивала, медленно убегали во тьму три серых зайца, а Неля держала их на мушке отцовского ружья и надеялась сделать хотя бы один точный выстрел.
Глава 2
Столица мира
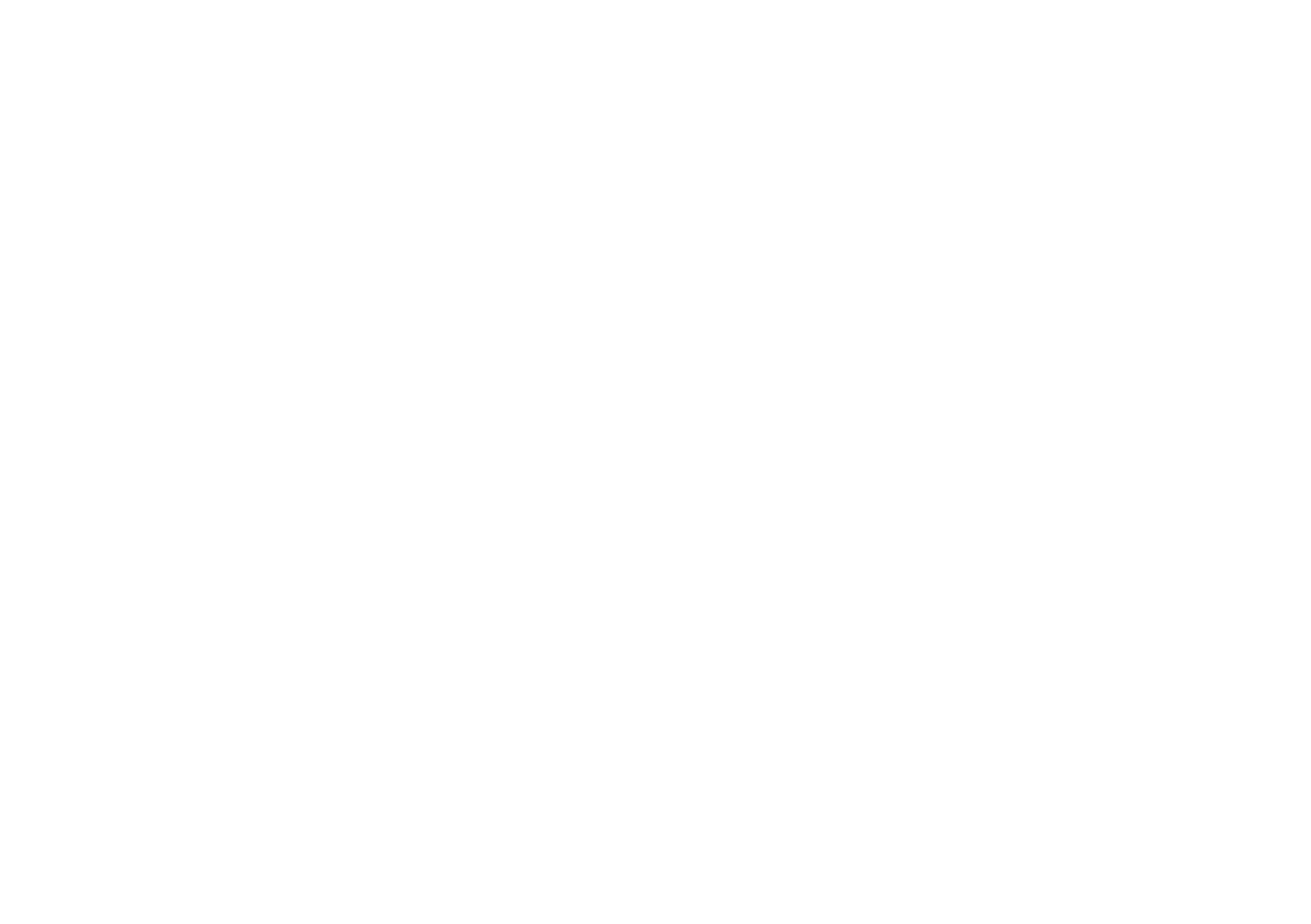
1969 год, 10 января
- Подумать только! Я сражался под Верденом, твой дядя пережил Сталинград, а ты, мой родной сын и чистокровный немец, вдруг оказался расово неполноценным!
Свет протекал сквозь кремово-белый тюль, рассеивая студенистый сумрак дубового кабинета. Сложив руки за спиной, по паркетным доскам вышагивал пожилой гауляйтер[5] Берлина, носящий звание обергруппенфюрера СС[6]: в статной походке огрузневшего тела угадывались долгие годы муштры, а на коричневом лацкане двубортного пиджака мерцал золотистый партийный значок НСДАП, некогда врученный барону фон Штакельбергу великим фюрером. Под паутиной морщин и жиром сытости угадывалось вытянутое лицо с высоким лбом, длинным носом и глубоко посаженными светлыми глазами, которые почти не отличались цветом от пепельно-седых волос, зачесанных на гитлеровский манер.
[5] высшая партийная должность НСДАП областного уровня, лицо, управляющее гау
[6] генерал
В кожаном кресле, предназначенном для визитеров, сидел, закинув ногу на ногу, щеголеватый мужчина в приталенном пиджаке. Он сохранял молчание, досадливо морщился и потирал пальцами ноющий висок. Рудольф фон Штакельберг, самый младший из сыновей барона, обликом повторял отца, будучи его молодой и сухощавой копией с хорошо очерченным черепом. Однако отец воплощал собой старое, еще кайзеровское пруссачество и сражался на фронтах Великой войны, а вот сын, рожденный в конце тридцатых, был национал-социалистом новой формации и Вторую мировую войну не помнил вовсе. Пшенично-русые волосы Рудольфа, уложенные на косой пробор, чуть отдавали рыжиной костров, в которых некогда сжигали запрещенные книги, а оттенок голубых глаз был ледянисто-светлым и напоминал о витринных осколках, которые хрустели под сапогами штурмовиков в Хрустальную ночь. Как и четверо старших братьев, Рудольф занимал должность в государственном учреждении, вот только его привычки шли вразрез и с укладом семьи, и с принципами партии.
С зеленого сукна письменного стола за ссорой отца и сына наблюдал бронзовый бюст Адольфа Гитлера – великого фюрера, который не выдержал гнета болезней и скончался, не дотянув до пятидесятых. Европа запомнила его трясущимся стариком, на римском носу которого плотно сидели круглые очки для чтения, однако официальная пропаганда продолжала тиражировать его героический облик времен берлинской Олимпиады. С портрета, который висел на стене, мефистофельским взором глядел Йозеф Геббельс: уже достаточно старый и убеленный сединами нынешний фюрер, который, впрочем, до сих пор сохранял кипучий характер и живость ума. Дополняло верноподданнический набор необязательное, но идеологически верное полотно, которое изображало человеческое море цвета фельдграу, вереницу кроваво-красных знамен и прозрачно-голубое небо над нюрнбергской трибуной.
Претензии гауляйтера были Рудольфу непонятны. Ему с самого детства рассказывали о блицкриге, который пронесся по России непрерывным натиском танковых войск, подхлестываемых первитином, о летчиках, которым тоже был положен первитин, и о последних годах жизни великого фюрера, который в военные годы трудился на благо страны сутками, не отвлекаясь на сон. Вот только популярный раньше первитин, типичный боевой стимулятор, превращал людей в беснующихся щелкунчиков с вытаращенными глазами, а кокаин, который по выходным нюхал Рудольф, всего лишь придавал уверенность, не лишая при этом чувства реальности и связных мыслей. Однако кокаин почему-то считался большим злом.
Наркозависимость как явление могла существовать лишь в демократических странах, где было больше психологически дефектных граждан – из-за будничности межрасовых браков и отказа от евгеники[7], которая эти дефекты вымарывала. Поэтому ребцентр, в котором Рудольф иногда отдыхал от кокаинизма, формально считался частным санаторием для обеспеченных господ, и в тени его благоухающих садов Рудольф не раз замечал людей, знакомых ему по госслужбе. В столовой он иногда встречал подавленную дочь промышленника Круппа, который был монополистом в оборонной сфере. Как правило, фройляйн Крупп пребывала в мрачном настроении, и поухаживать за ней Рудольфу никак не удавалось.
[7] наука о человеческой селекции
- Как ты можешь позорить меня, аристократа крови и аристократа духа? Как ты можешь позорить нашу семью, позорить СС?! – сорвался на крик гауляйтер, поддавшись напору негодования. – Ты лечился уже трижды, а результата до сих пор нет! А я ведь говорил, что новые порядки не пойдут на пользу Германии, я им всем еще тогда говорил…
Рудольф тяжело вздохнул. Гауляйтер, взращенный на старых традициях, считал нового фюрера излишне либеральным. В начале пятидесятых Геббельс пошел на компромисс с Соединенным Штатами, у которых на тот момент тоже имелось ядерное оружие, и предложил заключить перемирие. Геббельс надеялся, что ядерное оружие поставит точку в тотальной войне, но это было возможно лишь при условии, что у противника такого оружия не будет. Шанс на победу был безвозвратно упущен. Даже фанатичному Геббельсу не хотелось править воплощением Хельхейма. Иметь в распоряжении Европу и Восток было гораздо лучше, чем восседать среди мертвецов и ядерных пустошей.
Дальнейшие изменения последовали одно за другим: приостановка программы эвтаназии, посредством которой ликвидировали инвалидов и сумасшедших, снятие запрета на львиную долю запрещенной литературы, смягчение мер в отношении еврейского вопроса… Хотя в последнем пункте смягчать было уже нечего, потому что еврейский вопрос успели решить при Гитлере: кому удалось сбежать в Соединенные Штаты, кого стерилизовали, кого уничтожили. Изменилась и концепция концлагерей: отказавшись от карательной функции, они сфокусировались на обеспечении частных предприятий рабским трудом. Труд требовался качественный, и это повлекло за собой улучшение условий, в которых содержались преступники. Жить заключенные стали лучше и дольше.
Функционированием концлагерей заправляло ВФХА, хозяйственно-административное управление СС, и Рудольф служил как раз в одной из его структур - Инспекции концентрационных лагерей. Вот уже три года он носил петлицы гауптштурмфюрера[8] и был одним из множества бюрократов. По утрам маслянисто-черный служебный «хорьх» привозил Рудольфа к монументальному зданию Инспекции. Поблескивая сапогами, портупеей и козырьком фуражки, инспектор фон Штакельберг скрывался под величественным брекеровским барельефом, на котором сплетались в масштабное полотно свастики знамен и рабочие со снопами пшеницы. Личный шофер направлял «хорьх» к служебной парковке, дрожали на ветру черные автомобильные вымпелы с парой рубленых молний, а Рудольф, отметившись на проходной, приступал к рутинной работе с документами. Несмотря на репутацию кутилы, нетрезвым на работу он никогда не являлся. Порой Рудольфа отправляли в один из европейских рейхскомиссариатов[9], чтобы он проверил очередной концлагерь на предмет нарушений, которые обычно допускали коменданты, не желающие тратить на заключенных слишком много бюджетных средств. Отступать от назначенных нормативов запрещалось, и если комендант оказывался коррумпированным, Рудольф фиксировал, что комиссию концлагерь не прошел, а документы передавал другому звену Инспекции, которое должно было проследить за исправлением недочетов.
[8] капитан
[9] крупная административная единица Третьего Рейха
В детском фотоальбоме Рудольфа не было ничего необычного: первое грудное вскармливание, первые замеры черепа, первые военно-спортивные игры под руководством вожатых из гитлерюгенда[10]. Когда Рудольфа наконец приняли в СС, у него за плечами уже имелись два года службы на ракетном полигоне, где ему изредка приходилось стрелять в людей, степень магистра юриспруденции и, разумеется, покровительство отца. Как и все остальные новобранцы черного ордена, Рудольф присягал на верность не Рейху, а непосредственно Адольфу Гитлеру, хотя тот уже давно был мертв, а его забальзамированный труп, накрытый прозрачным саркофагом, покоился во Дворце фюрера.
[10] молодежная организация НСДАП
Между обязательным браком с последующей плодовитостью и регулярными посещениями центров «Лебенсборн» Рудольф выбрал второе, потому что этот вариант исключал эмоциональную привязанность к роженице и заботу о детях. Доктора сводили здорового эсэсовца с такой же здоровой немкой в фазе овуляции, чтобы заполнить новыми людьми пустующее жизненное пространство, и после совершённого полового акта знакомство можно было не продолжать – воспитывали детей либо государственные приюты, либо бездетные семьи. Для Рудольфа, который обязан был выполнять репродуктивный долг, но при этом не желал жениться, этот вариант оказался наилучшим. Ему не хотелось отказываться от азартных игр и кокаиновых марафонов, которые были для него приятными спутниками холостяцкой жизни.
Оборвав шаги, гауляйтер вдруг остановился перед Рудольфом, с неприязнью на него взглянул и произнес:
- Нужно рисковать собственной жизнью, чтобы окрепнуть морально, а несколько выстрелов, которые ты сделал в армии, крайне далеки от того, что пережил твой дядя. Полагаю, сибирский климат тебя отрезвит. Мороз там такой же адский, как в Сталинграде. Я допустил большую ошибку, посадив тебя на кабинетную должность.
- То есть, мою командировку на Восток инициировал ты? – снисходительно улыбнулся Рудольф. Гауляйтер любил стыдить сыновей, упоминая сухощавого, как мумия, дядюшку Альберта, который в сороковых уничтожал восточное население, переходя из одной айнзатцгруппы[11] в другую, а теперь был угрюмым ветераном с катарактой на глазу. Ставить в пример себя гауйлятер не мог, потому что еще в тридцатых пошел по партийной линии и тыл впоследствии ни разу не покидал.
[11] оперативное карательное подразделение Третьего Рейха, которое действовало на восточных территориях и ликвидировало местное население
- Ты должен выбраться из теплицы, в которой живешь уже тридцать лет. Скоро ты узнаешь, чем на самом деле дышит Германия. Ты даже не представляешь, насколько восточные территории не похожи на Берлин.
В командировку на Восток Рудольфа посылали впервые, и это его совсем не радовало. Захваченная Россия состояла из шести рейхскомиссариатов, а самым холодным и проблемным из них был рейхскомиссариат Сибирь. Крупных городов вроде Киева и бывшего Ленинграда там практически не было, но это щедро компенсировалось обилием промышленных городов, которые теперь населяли немецкие колонисты, клюнувшие на бесплатные квартиры, и славяне, дожившие до правления Геббельса. Столь желанное жизненное пространство оказалось совершенно непригодным для жизни: суровые зимы, от которых промерзали кости, скудные урожаи, далекие от европейских показателей, и топкие болота, занимающие больше половины восточных земель.
Рудольф искренне не понимал, как русские умудрились прожить в таких условиях аж до сорок третьего года. Однако теперь ему предстояло лично побывать в Паульмунде, который существовал за счет двух угольных разрезов, фабрик концерна «ИГ Фарбен» и концлагеря «Сибирь-2». В захолустном Паульмунде не было даже местного управления СС, а ближайшее располагалось в соседнем и более развитом Гитлерштадте, до которого было четыре часа езды. Рудольф скептически вскинул бровь:
- Мне действительно нужно ехать в эти авгиевы конюшни? Ты уверен, что одного человека будет достаточно?
- Когда закончишь проверку, доложишь о нарушениях и в Берлин, и в Гитлерштадт. Сможешь отправиться домой лишь после того, как в Паульмунд прибудут контролеры из Гитлерштадта.
Рудольфу представился типичный восточный гау[12], в котором непременно есть населенный пункт, названный в честь великого фюрера, а каждый город укомплектован Гитлерштрассе, которая превосходит остальные улицы чистотой и масштабом, и главной площадью с бронзовым памятником великому фюреру. Восточные города отличались друг от друга лишь климатической зоной. И кокаин в них, конечно же, было не достать. Рассчитывать можно было лишь на грязный первитин, происхождение которого было кустарным, а не медицинским.
[12] партийный округ
- Да-а, отец, ты действительно стратег, - разочарованно протянул Рудольф. Отговаривать гауляйтера было бесполезно. Наверняка он уже согласовал командировку с Министерством по делам Восточных территорий, и теперь опустившиеся сотрудники провинциального концлагеря с распростертыми объятиями ожидали столичного инспектора.
«С хлебом-маслом ждут. Или как там русские говорят... - мрачно подумал Рудольф, озадаченный открывшейся перспективой. - Если бы не тот полоумный чех, отец был бы сговорчивее».
Барон фон Штакельберг, который и раньше обладал крутым характером, окончательно превратился в деспота после серии убийств, имевшей место в Берлине четыре года назад. Что-то надломилось в гауляйтере, когда в берлинских трущобах стали находить трупы гитлерюнге[13] – со следами сексуального насилия, вишнево-черными кровоподтеками по всему телу и глубоким разрезом поперек горла. Что-то надломилось в гауляйтере снова, когда арестовали и приговорили к расстрелу уроженца протектората Богемия и Моравия – чеха Яна Дробны, который яростно отвергал предъявленные обвинения и истерически утверждал, что никогда никого не убивал. Впрочем, после казни Дробны убийства прекратились. Это явно говорило не в его пользу – как и расовая принадлежность.
[13] член гитлерюгенда, мальчик в возрасте от 14 до 18 лет
Серийных убийц в Рейхе тоже существовать не могло. Это было скорее американское явление, порожденное отказом от расовой гигиены, а чистокровный немец по природе своей был застрахован от этой психической патологии. Пока Соединенные Штаты переживали чуть ли не эпидемию серийных преступлений, в Рейхе маньяки появлялись крайне редко: почти все носители подобных генов были уничтожены еще в сороковых, когда правительство массово истребляло душевнобольных. Будущие серийники Рейха попросту не доживали до периода своей активности.
- Я и представить не мог, что скажу нечто подобное, но даже этот отброс Гаже, с которым ты умудрился спутаться, пробыл в Паульмунде два года и вернулся оттуда… поумневшим, - с горечью заключил гаулятер и утомленно опустился в соседнее кресло. - А чем в это время занимаешься ты? Прожигаешь жизнь и отдаешь свои деньги выродку, который наживается на твоем безволии! Ты хоть знаешь, какое у Гаже происхождение?
- Отец австриец, а мать еврейка из французского гетто, - скучающим тоном ответил Рудольф, - да в курсе я уже, папа. Считаешь меня дураком, которые конфиденциальные контакты не проверяет?
- Если бы не крипо[14] и гестапо, я с удовольствием отправил бы твоего Гаже в концлагерь! Первым же поездом! – слабо воскликнул гауляйтер.
[14] криминальная полиция
- А что, крипо и гестапо препятствуют? Препятствуют тебе? – оживился Рудольф. Он даже сменил позу, вольготно развалившись в кресле и сложив руки на груди. Впервые за весь разговор он посмотрел на гауляйтера с неподдельным интересом. Гауляйтер молчал. Он понял, что сболтнул лишнее. Кашлянув, он строго произнес:
- Через неделю ты вылетаешь в Паульмунд. Восток пойдет тебе на пользу.
Рудольф самоуверенно хмыкнул. Ему стала понятна странная неприкосновенность Октава Гаже, у которого он регулярно покупал отменный медицинский кокаин. Судя по оговорке гауляйтера, плутоватый мишлинг второй степени[15], рожденный под конец войны француженкой еврейского происхождения, был не только наркоторговцем, но и профессиональным осведомителем, от которого зависело раскрытие серьезных уголовных дел. Врожденное коварство Октава парадоксальным образом шло на пользу государству, которое сочло его настолько опасным, что подвергло принудительной стерилизации. Своим преступным поведением Октав лишь подтверждал расовую теорию, однако в концлагерь его забирать не спешили: полиция нередко шла на уступки гангстерам, чтобы те помогали раскрывать крупные дела. Несмотря на чистоту крови, немцы из полиции открыто нарушали закон, то есть, поступали точно так же, как Октав, и в свою очередь опровергали расовую теорию, но об этом логическом расхождении Рудольф старался не думать.
[15] метис с четвертью еврейской крови
Выплеснув гнев, гауляйтер вполне мирным тоном заговорил о делах семейства. Рудольф слушал его с вежливой улыбкой. Узнав, что баронесса фон Штакельберг, обладательница бронзового Креста немецкой матери, отдыхает на янтарных берегах Кенигсберга, старший брат, пристроенный в СД, недавно получил повышение, а сам гауляйтер безуспешно борется с аполитичной молодежью, Рудольф решил, что с него хватит, и деликатно свернул разговор.
Среди теней коридора уже поджидал сдержанный слуга, похожий на филина. Рудольф надел поданный им серый плащ окопного фасона и спрятал глаза под широкими полами фетровой шляпы. Сунув ладони в карманы, он направился в дальний конец коридора, где виднелась узкая дверь. За широкими окнами гауляйтерской виллы набирали силу латунно-желтые блики зимнего дня, раскатисто металось под высоким потолком эхо шагов. Рудольф прошел мимо портрета Фридриха Великого, портрета Вильгельма II, портрета Гитлера… Замыкал перечень правителей пока еще живой Геббельс.
«На инспекцию уйдет примерно неделя. Или даже две, если дела обстоят совсем плохо, - прикидывал Рудольф, спускаясь по наружной винтовой лестнице в припорошенный снегом сад, - а ведь нужно еще и согласовывать с Гитлершадтом, ждать, пока они подготовят документацию, пришлют контролеров…»
Рудольф задумался, и витиеватый ассоциативный ряд привел его к детскому воспоминанию о цветном мультфильме, в котором снеговик, лишенный страха смерти, стремился к согревающему июльскому солнцу, чтобы погибнуть в его лучах, и напевал мягким баритоном песню счастья и радости. «Вот и лето моей жизни…» - ликовал снеговик, раскинув в стороны стремительно тающие руки. Рудольф миновал каменистую тропу, над которой сетчатым покровом сплетались голые сучья дубов, и вышел на боковую улицу фешенебельного района, где проживали обеспеченные партайгеноссе. У обочины был припаркован серый «опель», предназначенный для поездок по приличным районам Берлина. Воздух кровоточил сыростью. Где-то в высоте небес надсадно хрипел ветер.
- Куда едем, герр барон? – непринужденно спросил Гельмут, личный ассистент и шофер Рудольфа, когда тот комфортно расположился на заднем сиденье. Темные волосы, округлое лицо с мясистым носом и характерный мягкий говор выдавали в нем выходца из Баварии. В будни Гельмут носил черный китель, на правой петлице которого тускло мерцала одинокая серебряная звезда, положенная шарфюрерам[16] СС, однако сегодня он был в штатском и казался деревенским простаком. Рудольф ценил Гельмута, который закрывал глаза на вредные привычки начальства и был нем, как могила.
[16] старший сержант
- На Рейхсадлерплатц, - приказал Рудольф, барабаня пальцами по колену. Район, на его взгляд, был весьма паскудный, однако возле типовой бетонированной площади располагались кинотеатр «Штерн» и джаз-кафе «Бабилон», куда Рудольф частенько захаживал.
«Опель» мягко тронулся с места и оставил позади череду кованых оград, за которыми просматривались старомодные виллы пожилых партаппаратчиков. Скрылись за спиной монументальные эстакады первого транспортного кольца, и лобовое стекло заполнила ось Восток-Запад – необъятный тридцатиполосный проспект, кишащий автомобилями. На разворачивающемся горизонте пламенел листами меди громоздкий купол Дома народа, где обычно проходили конгрессы, а венчал его золотистый колосс имперского орла, который стискивал в когтях земной шар. Музей мировой войны, давящий рублеными формами, сменился Музеем расовой науки, от внушительных барельефов которого у Рудольфа зарябило в глазах. Он провел в Берлине почти всю жизнь, однако центр города, проникнутый духом античной классики и тевтонских традиций, до сих пор давил на него морально. Впрочем, в этом давлении было немало приятного: иррациональный страх перед фатальной тяжестью неуловимо переходил в верноподданнический восторг, а в сердце пробуждались сорняки фанатического чувства.
Дом народа неизбежно разрастался, обретая исполинскую колоннаду и квадратную глыбу фундамента из светлого гранита. Солнце скрылось за распухшим куполом, превратив имперского орла в черный силуэт, и справа показался прямоугольный бассейн, растянувшийся на километр. Бассейн занимал чуть ли не четверть оси Север-Юг, и в его тяжелой сине-зеленой глади, затянутой тонкой коркой льда, отраженно тлела купольная медь. «Опель» проехал перекресток осей, и за Домом народа вырос титанический Дворец фюрера. Над красным мрамором колонн, бронзовыми львами и барельефами работы Арно Брекера простирался гранитный фасад, и на нем, за исключением балкона, с которого великий фюрер некогда произносил речи, не было ни одного окна.
Имперское великолепие закончилось так же внезапно, как и началось. Подошла к концу ось Восток-Запад, и перед «опелем», красноречиво говоря о смерти великого фюрера, раскинулись геббельсовские жилые комплексы – тяжеловесные, железобетонные, практически лишенные декора. Великий фюрер счел бы брутализм архитектурной пошлостью, однако Геббельс ничего предосудительного в нем не видел: бетон оказался достаточно дешевым, чтобы поменять точку зрения нового фюрера, который, в отличие от предшественника, не был мегаломаньяком.
Не прошло и получаса, как Рудольф увидел за окнами автомобиля безлюдную Рейхсадлерплатц. Кубические многоэтажки с квадратными окнами и зигзагами общих балконов казались костно-бледными, будто полдень соскреб с них налет свинцовой серости. На бетонных плитах площади таяла хрупкая скорлупа снега, а поверх неё чернильным росчерком тянулась резкая тень монумента, обнаженного бронзового дискобола. В тени дискобола ютился оранжевый цилиндр рекламной тумбы. На яркое изображение бутылок «Фанты» был косо наклеен плакат со свастичной шестеренкой Германского трудового фронта.
Рудольф вышел из «опеля» и бросил беглый взгляд на кинотеатр «Штерн». Не горел неоново-красным ощетинившийся готический шрифт на фасаде, не вращались прозрачные двери – до открытия оставалось два часа. Разнообразием репертуар не радовал. Под поцарапанным пластиком виднелась лишь одна афиша – романтическая комедия «Невеста из Лемберга»: старлетка балтийского типажа в роли мечтательной провинциалки и постаревшая Цара Леандер, играющая саму себя. Чуть поодаль от кинотеатра располагалась телефонная будка стандартного голубого цвета.
У Рудольфа задрожали пальцы. Поправив шляпу, он решительно направился к джаз-кафе, в узких окнах которого вяло барахтались пестрые огни. Тесная утроба «Бабилона» встретила Рудольфа сигаретным дымом, меланхолическими напевами музыкального автомата и легким полумраком, в котором тягуче меняли цвет сине-зеленые потолочные лампы. Джаз-кафе пустовало. Его обычный контингент отсыпался после пятницы. В пятнах дневного света, болотной зелени и подводной синевы Рудольф заметил девушку, которая всем телом наваливалась на музыкальный автомат. Вычурный макияж и кричащее желто-зеленое платье с широким колоколом юбки выдавали в девушке аполитичную, гедонистическую натуру, а сонное лицо с тяжелыми веками и унылым изгибом рта намекали на героиновую апатию. Музыкальный автомат прохрипел последние аккорды «Горного эдельвейса», популярного шлягера об ушедшей любви. Девушка очнулась от дремы, кинула в прорезь автомата монету, и снова заиграл «Горный эдельвейс».
Между круглыми столиками и пустой эстрадой, на которой по вечерам выступали джаз-бэнды, медленно топтался худосочный юноша. Он флегматично танцевал, роняя голову на плечо, и периодически затягивался сигаретой, которую держал в безвольной руке. Пепел осыпался на мешковатый пиджак с глубокими разрезами по бокам, узкие брюки, не доходившие до лодыжек, и остроносые ботинки. Юноша и впрямь напоминал дождевого червя. И он, и девушка были типичными вурмами, которые относились к политике с подчеркнутым равнодушием, слушали музыку американских негров, а свободное время проводили, предаваясь карточным играм и саморазрушению.
«Или дома дрыхнет, или где-то шляется, ублюдок…» - подумал Рудольф, стиснув зубы так сильно, что у него заныла челюсть. Призрачная надежда застать Октава в «Бабилоне», купить кокаин и отправиться в казино растаяла, уступив место грызущему раздражению. Рудольфу предстояло отыскать Октава, договориться с ним о встрече, а затем следить за минутной стрелкой, делая мысленные ставки на то, как сильно Октав опоздает на этот раз.
Торопливо покинув джаз-кафе, Рудольф нырнул в телефонную будку. Он достал из кармана монету, оплатил звонок и набрал номер, который помнил даже лучше, чем перечень требований к типовому концлагерю. В трубке потянулись друг за другом длинные гудки. Наконец раздался картавый мужской голос:
- Доброе утро. С кем я говорю?
- Давно я к тебе в гости не заходил, Октав, - произнес Рудольф с фальшивым дружелюбием. Взглянув на наручные часы, он мысленно добавил: «Сейчас почти одиннадцать, дегенерат. Какое еще утро?».
- Можешь зайти прямо сейчас, Руди, я как раз проснулся.
Рудольф поморщился. Грассировал Октав на французский манер, а евреем был всего на четверть, но ситуацию это не спасало. Когда Рудольф желал получить свой кокаин, все свойства окружающего мира казались ему недостатками. Особенно нордическая внешность Октава, испорченная черными волосами, близорукими карими глазами и носом с горбинкой. Особенно его характерная вурмовская одежда, из-за которой складывалось впечатление, что Октав носит вещи не по размеру. Особенно кривоватые длинные пальцы, которые в свое время неправильно срослись, и хромота левой ноги, которую тоже изуродовал перелом. В моменты мучительного ожидания Октав Гаже казался Рудольфу живой иллюстрацией генетического брака.
- Лучше ты ко мне, на Унтер-ден-Линден. В ближайшие три часа я свободен.
- Три часа, понял, - хмыкнул Октав, - жди меня к полудню, постараюсь не опоздать.
Чуть поодаль от Унтер-ден-Линден располагался железобетонный цилиндрический монолит с ракушками балконов, вишневыми вкраплениями стеклоблоков и плоской крышей - охраняемый небоскреб «Лорелея», и Рудольфу принадлежала одна из его просторных трехкомнатных квартир. Вернувшись домой, Рудольф отпустил Гельмута, а консьержу приказал не заносить в список визитеров хромого мужчину в очках, который должен был явиться в ближайшие часы.
Мучнисто-бежевый зал тонул в отсветах полуденного солнца. За большим квадратным окном сверкал медью колоссальный купол Дома народа: рыжее море острых искр сливалось в огромный всполох, увенчанный золотистым блеском имперского орла, а где-то внизу болезненно переливалось их отражение в прямоугольнике бассейна. Рудольф швырнул пиджак в дверной проем спальни и устало повалился на стоящий в зале диван. Скрипнула черная кожа, Рудольф тяжело выдохнул.
Он пытался успокоиться, но хрустально-голубые глаза нервозно бегали из стороны в сторону, спотыкаясь то об кофейный столик, то об настенный календарь. Эти два предмета ассоциативно напоминали об Октаве и, следовательно, о кокаине. Журнальный столик привлекал внимание Рудольфа набором политической литературы: «Майн кампф», «Миф XX века» Розенберга и ворох антисемитских журналов, подписка на которые была для членов СС обязательной. Календарь «Новый народ» с январским разворотом, где сочилась летом фотография молодой крестьянки с косой, не давал Рудольфу забыть о сегодняшней субботе. Её клетка была жирно отмечена инициалом «О.».
Октав, конечно же, опоздал и явился только к часу дня. Рудольфу повезло выйти на балкон, – уже в который раз, – именно в тот момент, когда у главного входа остановился модный темно-синий «ситроен». Из него вышел человек в черном, а пятью минутами позже Октав уже стоял перед Рудольфом и сучковатыми пальцами доставал из кармана пальто крохотный бумажный конверт с тремя граммами аптечного кокаина.
- Прости, Руди. Я слегка задержался, зато привез тебе самый хороший порошок, - картаво извинился Октав. Рудольф отдал ему полторы тысячи рейхсмарок и дрожащей рукой забрал конверт.
Позабыв все нелестные эпитеты, которыми он за время ожидания успел наградить Октава, Рудольф расположился над кофейным столиком, вытащил из кипы журналов свежий номер «Штюрмера» с глянцевой обложкой и проворно начертил на нем две жирные дороги. Лицо карикатурного еврея в очках перечеркнули косые белые штрихи. Рудольф наклонился над журналом, коротко зашмыгал, и дороги одна за другой исчезли в скрученной купюре с портретом Гитлера. Ноздри обожгло колким крошевом Хрустальной ночи. Забилось галопом сердце, онемело от внутренней прохлады нёбо, налились стеклянным блеском голубые глаза. Рудольф откинулся на спинку дивана, довольно улыбнулся и хрустнул шеей.
Октав с безучастным видом стоял у окна и оглядывал пейзаж. За стеклами округлых очков в черепаховой оправе сонно шевелились карие глаза. Рудольф не сомневался, что Октав с удовольствием находился бы сейчас в кинотеатре «Штерн», на дневном сеансе с минимумом публики, или в «Бабилоне», без компании и с бутылкой вина – но только не в центре Берлина, где всё было для него враждебным. Оставили свой отпечаток два года, проведенные в сибирском концлагере. К счастью, посадили Октава не за расовое преступление, а всего лишь за шулерство, поэтому в концлагере он носил на груди полосатой робы черный винкель[17] асоциального элемента, наиболее безобидной категории заключенных. Смягчало его участь еще и то, что он был добровольным помощником лагерной администрации, надевал поверх робы вольный пиджак с белой нарукавной повязкой и прилежно выполнял обязанности библиотекаря. Должность стукача была для него логичным этапом карьеры.
[17] перевернутый треугольник определенного цвета, указывающий на тип совершенного преступления, который нашивали на робу заключенного концлагеря
Под успешного наркоторговца Октав маскировался неплохо. Ездил на собственной машине, пусть и подержанной. Проживал в паршивом панельном районе, но квартиру все-таки занимал двухкомнатную. К Октаву домой Рудольф ездил на бюджетном фольксвагеновском «жуке»: чтобы не стать жертвой угона, ездить в народ следовало на народном автомобиле.
- Иди-ка сюда, друг мой. Давай немного поговорим, - улыбнулся Рудольф, демонстрируя белоснежные искусственные зубы. Одной рукой он взял с кофейного столика номер «Штюрмера», с которого только что нюхал кокаин, а другой отыскал среди журналов заточенный карандаш. Рудольфа посетила неожиданная, но очевидная идея.
- О чем еще? – нахмурился Октав.
- О концлагере «Сибирь-2», где ты отбывал наказание за ловкость рук. Дарю тебе редкую возможность отомстить тем, кто тебя унижал. Через неделю я отправляюсь в Паульмунд с проверкой, и мне очень хочется знать, до какой степени дошло тамошнее разгильдяйство.
Октав вскинул брови, но ничего не сказал. Он снял пальто и сел на расстоянии вытянутой руки от Рудольфа. Неряшливо смялись полы мешковатого пиджака, разрез на боку открыл белое пятно рубашки, надетой навыпуск. Закинув ногу на ногу, Октав обхватил ладонью собственное колено, принялся мерно качать острым мыском ботинка и безучастно приступил к рассказу:
- Прошло почти два года, за это время всё могло измениться…
- Комендант? – лаконично перебил его ускоренный Рудольф.
- Эрвин Менгеле. Не родственник, однофамилец. Если тебя интересует, воровал ли он бюджетные деньги, то об этом я ничего не знаю. Знаю только, что он русофил. Цитировал Пушкина.
«Комендант – русофил», - написал Рудольф на гротескном изображении еврейского коммерсанта и перешел к следующему пункту:
- Питание?
- Трехразовое. Я помогал администрации, и у меня была хорошая пайка, но обычные хефтлинги[18]
получали баланду с рыбой. Мясо им давали редко, а рыба иногда попадалась с гнилью.
[18] заключенные концлагеря
Рудольф инспектировал концлагеря уже три года. Он прекрасно понимал, что лагерная администрация не спешит избавляться от нечеловеческих условий содержания, чтобы у заключенных оставался стимул исправиться – пусть даже ради здоровой пищи, комфортного спального места и режимных послаблений. Однако за рамки официальных инструкций это все же выходило, а инструкции были превыше всего.
- Помещения?
- Я жил в отдельной комнате вместе с тремя кухрабочими, и у нас всё было нормально, а на первом этаже барака, где жили обычные хефтлинги, было очень холодно. Им даже печка не помогала.
- Надзиратели?
- В смысле, надзиратели? – переспросил Октав, прекратив качать ногой. Кривые пальцы машинально впились в колено, обтянутое узкой брючиной. Побелели костяшки, но пальцы тут же разжались. Снова закачался, как маятник, ботинок.
- Кто из них применял неуставное насилие? – уточнил Рудольф. В каждом концлагере встречались живодеры, которые любили сверх меры махать дубинкой и полагали, что им за это ничего не будет. Иногда их поддерживало начальство, тоже обладающее палаческими замашками, и особенно часто подобное происходило в окраинных рейхскомиссариатах, избалованных нехваткой контроля.
- Был там один вертухай из славян, Анатолий Страшко, - сказал Октав тягучим тоном и внимательно посмотрел на Рудольфа из-под тяжелых век, - садист с говорящей фамилией. При мне он спокойно избивал людей до полусмерти, а потом их фотографировал. Из этих снимков он составлял фотоальбомы. На память.
- Что-то еще? – хмыкнул Рудольф. Он подметил, что рассказ сдержанного Октава расцвел деталями, а сам Октав недобро оживился. Рудольф догадался, кого именно избивал и фотографировал Анатолий Страшко.
- Да нет, вроде всё, - пожал плечами Октав, приняв обычный равнодушный вид, - впрочем, были еще оберштурмфюрер[19] Олендорф и ауфзеерин[20] Магалл. Они, судя по словам других хефтлингов, тоже людей избивали, но при мне такого не происходило. Магалл я видел еще реже, чем Олендорфа, потому что она обычно находилась в женской части лагеря… А больше я ничего не знаю. Можно мне уже уйти?
[19] старший лейтенант
[20] надзирательница
- Теперь можно, - усмехнулся Рудольф, вернув на кофейный столик журнал. Обложка с карикатурой пестрела пометками, должностями и фамилиями. Октав надел пальто и молча, без принятых в обществе любезностей покинул квартиру. Для него такое поведение не было из ряда вон выходящим. Скрывать внутреннюю холодность Октав, как правило, даже не пытался.
Свет протекал сквозь кремово-белый тюль, рассеивая студенистый сумрак дубового кабинета. Сложив руки за спиной, по паркетным доскам вышагивал пожилой гауляйтер[5] Берлина, носящий звание обергруппенфюрера СС[6]: в статной походке огрузневшего тела угадывались долгие годы муштры, а на коричневом лацкане двубортного пиджака мерцал золотистый партийный значок НСДАП, некогда врученный барону фон Штакельбергу великим фюрером. Под паутиной морщин и жиром сытости угадывалось вытянутое лицо с высоким лбом, длинным носом и глубоко посаженными светлыми глазами, которые почти не отличались цветом от пепельно-седых волос, зачесанных на гитлеровский манер.
[5] высшая партийная должность НСДАП областного уровня, лицо, управляющее гау
[6] генерал
В кожаном кресле, предназначенном для визитеров, сидел, закинув ногу на ногу, щеголеватый мужчина в приталенном пиджаке. Он сохранял молчание, досадливо морщился и потирал пальцами ноющий висок. Рудольф фон Штакельберг, самый младший из сыновей барона, обликом повторял отца, будучи его молодой и сухощавой копией с хорошо очерченным черепом. Однако отец воплощал собой старое, еще кайзеровское пруссачество и сражался на фронтах Великой войны, а вот сын, рожденный в конце тридцатых, был национал-социалистом новой формации и Вторую мировую войну не помнил вовсе. Пшенично-русые волосы Рудольфа, уложенные на косой пробор, чуть отдавали рыжиной костров, в которых некогда сжигали запрещенные книги, а оттенок голубых глаз был ледянисто-светлым и напоминал о витринных осколках, которые хрустели под сапогами штурмовиков в Хрустальную ночь. Как и четверо старших братьев, Рудольф занимал должность в государственном учреждении, вот только его привычки шли вразрез и с укладом семьи, и с принципами партии.
С зеленого сукна письменного стола за ссорой отца и сына наблюдал бронзовый бюст Адольфа Гитлера – великого фюрера, который не выдержал гнета болезней и скончался, не дотянув до пятидесятых. Европа запомнила его трясущимся стариком, на римском носу которого плотно сидели круглые очки для чтения, однако официальная пропаганда продолжала тиражировать его героический облик времен берлинской Олимпиады. С портрета, который висел на стене, мефистофельским взором глядел Йозеф Геббельс: уже достаточно старый и убеленный сединами нынешний фюрер, который, впрочем, до сих пор сохранял кипучий характер и живость ума. Дополняло верноподданнический набор необязательное, но идеологически верное полотно, которое изображало человеческое море цвета фельдграу, вереницу кроваво-красных знамен и прозрачно-голубое небо над нюрнбергской трибуной.
Претензии гауляйтера были Рудольфу непонятны. Ему с самого детства рассказывали о блицкриге, который пронесся по России непрерывным натиском танковых войск, подхлестываемых первитином, о летчиках, которым тоже был положен первитин, и о последних годах жизни великого фюрера, который в военные годы трудился на благо страны сутками, не отвлекаясь на сон. Вот только популярный раньше первитин, типичный боевой стимулятор, превращал людей в беснующихся щелкунчиков с вытаращенными глазами, а кокаин, который по выходным нюхал Рудольф, всего лишь придавал уверенность, не лишая при этом чувства реальности и связных мыслей. Однако кокаин почему-то считался большим злом.
Наркозависимость как явление могла существовать лишь в демократических странах, где было больше психологически дефектных граждан – из-за будничности межрасовых браков и отказа от евгеники[7], которая эти дефекты вымарывала. Поэтому ребцентр, в котором Рудольф иногда отдыхал от кокаинизма, формально считался частным санаторием для обеспеченных господ, и в тени его благоухающих садов Рудольф не раз замечал людей, знакомых ему по госслужбе. В столовой он иногда встречал подавленную дочь промышленника Круппа, который был монополистом в оборонной сфере. Как правило, фройляйн Крупп пребывала в мрачном настроении, и поухаживать за ней Рудольфу никак не удавалось.
[7] наука о человеческой селекции
- Как ты можешь позорить меня, аристократа крови и аристократа духа? Как ты можешь позорить нашу семью, позорить СС?! – сорвался на крик гауляйтер, поддавшись напору негодования. – Ты лечился уже трижды, а результата до сих пор нет! А я ведь говорил, что новые порядки не пойдут на пользу Германии, я им всем еще тогда говорил…
Рудольф тяжело вздохнул. Гауляйтер, взращенный на старых традициях, считал нового фюрера излишне либеральным. В начале пятидесятых Геббельс пошел на компромисс с Соединенным Штатами, у которых на тот момент тоже имелось ядерное оружие, и предложил заключить перемирие. Геббельс надеялся, что ядерное оружие поставит точку в тотальной войне, но это было возможно лишь при условии, что у противника такого оружия не будет. Шанс на победу был безвозвратно упущен. Даже фанатичному Геббельсу не хотелось править воплощением Хельхейма. Иметь в распоряжении Европу и Восток было гораздо лучше, чем восседать среди мертвецов и ядерных пустошей.
Дальнейшие изменения последовали одно за другим: приостановка программы эвтаназии, посредством которой ликвидировали инвалидов и сумасшедших, снятие запрета на львиную долю запрещенной литературы, смягчение мер в отношении еврейского вопроса… Хотя в последнем пункте смягчать было уже нечего, потому что еврейский вопрос успели решить при Гитлере: кому удалось сбежать в Соединенные Штаты, кого стерилизовали, кого уничтожили. Изменилась и концепция концлагерей: отказавшись от карательной функции, они сфокусировались на обеспечении частных предприятий рабским трудом. Труд требовался качественный, и это повлекло за собой улучшение условий, в которых содержались преступники. Жить заключенные стали лучше и дольше.
Функционированием концлагерей заправляло ВФХА, хозяйственно-административное управление СС, и Рудольф служил как раз в одной из его структур - Инспекции концентрационных лагерей. Вот уже три года он носил петлицы гауптштурмфюрера[8] и был одним из множества бюрократов. По утрам маслянисто-черный служебный «хорьх» привозил Рудольфа к монументальному зданию Инспекции. Поблескивая сапогами, портупеей и козырьком фуражки, инспектор фон Штакельберг скрывался под величественным брекеровским барельефом, на котором сплетались в масштабное полотно свастики знамен и рабочие со снопами пшеницы. Личный шофер направлял «хорьх» к служебной парковке, дрожали на ветру черные автомобильные вымпелы с парой рубленых молний, а Рудольф, отметившись на проходной, приступал к рутинной работе с документами. Несмотря на репутацию кутилы, нетрезвым на работу он никогда не являлся. Порой Рудольфа отправляли в один из европейских рейхскомиссариатов[9], чтобы он проверил очередной концлагерь на предмет нарушений, которые обычно допускали коменданты, не желающие тратить на заключенных слишком много бюджетных средств. Отступать от назначенных нормативов запрещалось, и если комендант оказывался коррумпированным, Рудольф фиксировал, что комиссию концлагерь не прошел, а документы передавал другому звену Инспекции, которое должно было проследить за исправлением недочетов.
[8] капитан
[9] крупная административная единица Третьего Рейха
В детском фотоальбоме Рудольфа не было ничего необычного: первое грудное вскармливание, первые замеры черепа, первые военно-спортивные игры под руководством вожатых из гитлерюгенда[10]. Когда Рудольфа наконец приняли в СС, у него за плечами уже имелись два года службы на ракетном полигоне, где ему изредка приходилось стрелять в людей, степень магистра юриспруденции и, разумеется, покровительство отца. Как и все остальные новобранцы черного ордена, Рудольф присягал на верность не Рейху, а непосредственно Адольфу Гитлеру, хотя тот уже давно был мертв, а его забальзамированный труп, накрытый прозрачным саркофагом, покоился во Дворце фюрера.
[10] молодежная организация НСДАП
Между обязательным браком с последующей плодовитостью и регулярными посещениями центров «Лебенсборн» Рудольф выбрал второе, потому что этот вариант исключал эмоциональную привязанность к роженице и заботу о детях. Доктора сводили здорового эсэсовца с такой же здоровой немкой в фазе овуляции, чтобы заполнить новыми людьми пустующее жизненное пространство, и после совершённого полового акта знакомство можно было не продолжать – воспитывали детей либо государственные приюты, либо бездетные семьи. Для Рудольфа, который обязан был выполнять репродуктивный долг, но при этом не желал жениться, этот вариант оказался наилучшим. Ему не хотелось отказываться от азартных игр и кокаиновых марафонов, которые были для него приятными спутниками холостяцкой жизни.
Оборвав шаги, гауляйтер вдруг остановился перед Рудольфом, с неприязнью на него взглянул и произнес:
- Нужно рисковать собственной жизнью, чтобы окрепнуть морально, а несколько выстрелов, которые ты сделал в армии, крайне далеки от того, что пережил твой дядя. Полагаю, сибирский климат тебя отрезвит. Мороз там такой же адский, как в Сталинграде. Я допустил большую ошибку, посадив тебя на кабинетную должность.
- То есть, мою командировку на Восток инициировал ты? – снисходительно улыбнулся Рудольф. Гауляйтер любил стыдить сыновей, упоминая сухощавого, как мумия, дядюшку Альберта, который в сороковых уничтожал восточное население, переходя из одной айнзатцгруппы[11] в другую, а теперь был угрюмым ветераном с катарактой на глазу. Ставить в пример себя гауйлятер не мог, потому что еще в тридцатых пошел по партийной линии и тыл впоследствии ни разу не покидал.
[11] оперативное карательное подразделение Третьего Рейха, которое действовало на восточных территориях и ликвидировало местное население
- Ты должен выбраться из теплицы, в которой живешь уже тридцать лет. Скоро ты узнаешь, чем на самом деле дышит Германия. Ты даже не представляешь, насколько восточные территории не похожи на Берлин.
В командировку на Восток Рудольфа посылали впервые, и это его совсем не радовало. Захваченная Россия состояла из шести рейхскомиссариатов, а самым холодным и проблемным из них был рейхскомиссариат Сибирь. Крупных городов вроде Киева и бывшего Ленинграда там практически не было, но это щедро компенсировалось обилием промышленных городов, которые теперь населяли немецкие колонисты, клюнувшие на бесплатные квартиры, и славяне, дожившие до правления Геббельса. Столь желанное жизненное пространство оказалось совершенно непригодным для жизни: суровые зимы, от которых промерзали кости, скудные урожаи, далекие от европейских показателей, и топкие болота, занимающие больше половины восточных земель.
Рудольф искренне не понимал, как русские умудрились прожить в таких условиях аж до сорок третьего года. Однако теперь ему предстояло лично побывать в Паульмунде, который существовал за счет двух угольных разрезов, фабрик концерна «ИГ Фарбен» и концлагеря «Сибирь-2». В захолустном Паульмунде не было даже местного управления СС, а ближайшее располагалось в соседнем и более развитом Гитлерштадте, до которого было четыре часа езды. Рудольф скептически вскинул бровь:
- Мне действительно нужно ехать в эти авгиевы конюшни? Ты уверен, что одного человека будет достаточно?
- Когда закончишь проверку, доложишь о нарушениях и в Берлин, и в Гитлерштадт. Сможешь отправиться домой лишь после того, как в Паульмунд прибудут контролеры из Гитлерштадта.
Рудольфу представился типичный восточный гау[12], в котором непременно есть населенный пункт, названный в честь великого фюрера, а каждый город укомплектован Гитлерштрассе, которая превосходит остальные улицы чистотой и масштабом, и главной площадью с бронзовым памятником великому фюреру. Восточные города отличались друг от друга лишь климатической зоной. И кокаин в них, конечно же, было не достать. Рассчитывать можно было лишь на грязный первитин, происхождение которого было кустарным, а не медицинским.
[12] партийный округ
- Да-а, отец, ты действительно стратег, - разочарованно протянул Рудольф. Отговаривать гауляйтера было бесполезно. Наверняка он уже согласовал командировку с Министерством по делам Восточных территорий, и теперь опустившиеся сотрудники провинциального концлагеря с распростертыми объятиями ожидали столичного инспектора.
«С хлебом-маслом ждут. Или как там русские говорят... - мрачно подумал Рудольф, озадаченный открывшейся перспективой. - Если бы не тот полоумный чех, отец был бы сговорчивее».
Барон фон Штакельберг, который и раньше обладал крутым характером, окончательно превратился в деспота после серии убийств, имевшей место в Берлине четыре года назад. Что-то надломилось в гауляйтере, когда в берлинских трущобах стали находить трупы гитлерюнге[13] – со следами сексуального насилия, вишнево-черными кровоподтеками по всему телу и глубоким разрезом поперек горла. Что-то надломилось в гауляйтере снова, когда арестовали и приговорили к расстрелу уроженца протектората Богемия и Моравия – чеха Яна Дробны, который яростно отвергал предъявленные обвинения и истерически утверждал, что никогда никого не убивал. Впрочем, после казни Дробны убийства прекратились. Это явно говорило не в его пользу – как и расовая принадлежность.
[13] член гитлерюгенда, мальчик в возрасте от 14 до 18 лет
Серийных убийц в Рейхе тоже существовать не могло. Это было скорее американское явление, порожденное отказом от расовой гигиены, а чистокровный немец по природе своей был застрахован от этой психической патологии. Пока Соединенные Штаты переживали чуть ли не эпидемию серийных преступлений, в Рейхе маньяки появлялись крайне редко: почти все носители подобных генов были уничтожены еще в сороковых, когда правительство массово истребляло душевнобольных. Будущие серийники Рейха попросту не доживали до периода своей активности.
- Я и представить не мог, что скажу нечто подобное, но даже этот отброс Гаже, с которым ты умудрился спутаться, пробыл в Паульмунде два года и вернулся оттуда… поумневшим, - с горечью заключил гаулятер и утомленно опустился в соседнее кресло. - А чем в это время занимаешься ты? Прожигаешь жизнь и отдаешь свои деньги выродку, который наживается на твоем безволии! Ты хоть знаешь, какое у Гаже происхождение?
- Отец австриец, а мать еврейка из французского гетто, - скучающим тоном ответил Рудольф, - да в курсе я уже, папа. Считаешь меня дураком, которые конфиденциальные контакты не проверяет?
- Если бы не крипо[14] и гестапо, я с удовольствием отправил бы твоего Гаже в концлагерь! Первым же поездом! – слабо воскликнул гауляйтер.
[14] криминальная полиция
- А что, крипо и гестапо препятствуют? Препятствуют тебе? – оживился Рудольф. Он даже сменил позу, вольготно развалившись в кресле и сложив руки на груди. Впервые за весь разговор он посмотрел на гауляйтера с неподдельным интересом. Гауляйтер молчал. Он понял, что сболтнул лишнее. Кашлянув, он строго произнес:
- Через неделю ты вылетаешь в Паульмунд. Восток пойдет тебе на пользу.
Рудольф самоуверенно хмыкнул. Ему стала понятна странная неприкосновенность Октава Гаже, у которого он регулярно покупал отменный медицинский кокаин. Судя по оговорке гауляйтера, плутоватый мишлинг второй степени[15], рожденный под конец войны француженкой еврейского происхождения, был не только наркоторговцем, но и профессиональным осведомителем, от которого зависело раскрытие серьезных уголовных дел. Врожденное коварство Октава парадоксальным образом шло на пользу государству, которое сочло его настолько опасным, что подвергло принудительной стерилизации. Своим преступным поведением Октав лишь подтверждал расовую теорию, однако в концлагерь его забирать не спешили: полиция нередко шла на уступки гангстерам, чтобы те помогали раскрывать крупные дела. Несмотря на чистоту крови, немцы из полиции открыто нарушали закон, то есть, поступали точно так же, как Октав, и в свою очередь опровергали расовую теорию, но об этом логическом расхождении Рудольф старался не думать.
[15] метис с четвертью еврейской крови
Выплеснув гнев, гауляйтер вполне мирным тоном заговорил о делах семейства. Рудольф слушал его с вежливой улыбкой. Узнав, что баронесса фон Штакельберг, обладательница бронзового Креста немецкой матери, отдыхает на янтарных берегах Кенигсберга, старший брат, пристроенный в СД, недавно получил повышение, а сам гауляйтер безуспешно борется с аполитичной молодежью, Рудольф решил, что с него хватит, и деликатно свернул разговор.
Среди теней коридора уже поджидал сдержанный слуга, похожий на филина. Рудольф надел поданный им серый плащ окопного фасона и спрятал глаза под широкими полами фетровой шляпы. Сунув ладони в карманы, он направился в дальний конец коридора, где виднелась узкая дверь. За широкими окнами гауляйтерской виллы набирали силу латунно-желтые блики зимнего дня, раскатисто металось под высоким потолком эхо шагов. Рудольф прошел мимо портрета Фридриха Великого, портрета Вильгельма II, портрета Гитлера… Замыкал перечень правителей пока еще живой Геббельс.
«На инспекцию уйдет примерно неделя. Или даже две, если дела обстоят совсем плохо, - прикидывал Рудольф, спускаясь по наружной винтовой лестнице в припорошенный снегом сад, - а ведь нужно еще и согласовывать с Гитлершадтом, ждать, пока они подготовят документацию, пришлют контролеров…»
Рудольф задумался, и витиеватый ассоциативный ряд привел его к детскому воспоминанию о цветном мультфильме, в котором снеговик, лишенный страха смерти, стремился к согревающему июльскому солнцу, чтобы погибнуть в его лучах, и напевал мягким баритоном песню счастья и радости. «Вот и лето моей жизни…» - ликовал снеговик, раскинув в стороны стремительно тающие руки. Рудольф миновал каменистую тропу, над которой сетчатым покровом сплетались голые сучья дубов, и вышел на боковую улицу фешенебельного района, где проживали обеспеченные партайгеноссе. У обочины был припаркован серый «опель», предназначенный для поездок по приличным районам Берлина. Воздух кровоточил сыростью. Где-то в высоте небес надсадно хрипел ветер.
- Куда едем, герр барон? – непринужденно спросил Гельмут, личный ассистент и шофер Рудольфа, когда тот комфортно расположился на заднем сиденье. Темные волосы, округлое лицо с мясистым носом и характерный мягкий говор выдавали в нем выходца из Баварии. В будни Гельмут носил черный китель, на правой петлице которого тускло мерцала одинокая серебряная звезда, положенная шарфюрерам[16] СС, однако сегодня он был в штатском и казался деревенским простаком. Рудольф ценил Гельмута, который закрывал глаза на вредные привычки начальства и был нем, как могила.
[16] старший сержант
- На Рейхсадлерплатц, - приказал Рудольф, барабаня пальцами по колену. Район, на его взгляд, был весьма паскудный, однако возле типовой бетонированной площади располагались кинотеатр «Штерн» и джаз-кафе «Бабилон», куда Рудольф частенько захаживал.
«Опель» мягко тронулся с места и оставил позади череду кованых оград, за которыми просматривались старомодные виллы пожилых партаппаратчиков. Скрылись за спиной монументальные эстакады первого транспортного кольца, и лобовое стекло заполнила ось Восток-Запад – необъятный тридцатиполосный проспект, кишащий автомобилями. На разворачивающемся горизонте пламенел листами меди громоздкий купол Дома народа, где обычно проходили конгрессы, а венчал его золотистый колосс имперского орла, который стискивал в когтях земной шар. Музей мировой войны, давящий рублеными формами, сменился Музеем расовой науки, от внушительных барельефов которого у Рудольфа зарябило в глазах. Он провел в Берлине почти всю жизнь, однако центр города, проникнутый духом античной классики и тевтонских традиций, до сих пор давил на него морально. Впрочем, в этом давлении было немало приятного: иррациональный страх перед фатальной тяжестью неуловимо переходил в верноподданнический восторг, а в сердце пробуждались сорняки фанатического чувства.
Дом народа неизбежно разрастался, обретая исполинскую колоннаду и квадратную глыбу фундамента из светлого гранита. Солнце скрылось за распухшим куполом, превратив имперского орла в черный силуэт, и справа показался прямоугольный бассейн, растянувшийся на километр. Бассейн занимал чуть ли не четверть оси Север-Юг, и в его тяжелой сине-зеленой глади, затянутой тонкой коркой льда, отраженно тлела купольная медь. «Опель» проехал перекресток осей, и за Домом народа вырос титанический Дворец фюрера. Над красным мрамором колонн, бронзовыми львами и барельефами работы Арно Брекера простирался гранитный фасад, и на нем, за исключением балкона, с которого великий фюрер некогда произносил речи, не было ни одного окна.
Имперское великолепие закончилось так же внезапно, как и началось. Подошла к концу ось Восток-Запад, и перед «опелем», красноречиво говоря о смерти великого фюрера, раскинулись геббельсовские жилые комплексы – тяжеловесные, железобетонные, практически лишенные декора. Великий фюрер счел бы брутализм архитектурной пошлостью, однако Геббельс ничего предосудительного в нем не видел: бетон оказался достаточно дешевым, чтобы поменять точку зрения нового фюрера, который, в отличие от предшественника, не был мегаломаньяком.
Не прошло и получаса, как Рудольф увидел за окнами автомобиля безлюдную Рейхсадлерплатц. Кубические многоэтажки с квадратными окнами и зигзагами общих балконов казались костно-бледными, будто полдень соскреб с них налет свинцовой серости. На бетонных плитах площади таяла хрупкая скорлупа снега, а поверх неё чернильным росчерком тянулась резкая тень монумента, обнаженного бронзового дискобола. В тени дискобола ютился оранжевый цилиндр рекламной тумбы. На яркое изображение бутылок «Фанты» был косо наклеен плакат со свастичной шестеренкой Германского трудового фронта.
Рудольф вышел из «опеля» и бросил беглый взгляд на кинотеатр «Штерн». Не горел неоново-красным ощетинившийся готический шрифт на фасаде, не вращались прозрачные двери – до открытия оставалось два часа. Разнообразием репертуар не радовал. Под поцарапанным пластиком виднелась лишь одна афиша – романтическая комедия «Невеста из Лемберга»: старлетка балтийского типажа в роли мечтательной провинциалки и постаревшая Цара Леандер, играющая саму себя. Чуть поодаль от кинотеатра располагалась телефонная будка стандартного голубого цвета.
У Рудольфа задрожали пальцы. Поправив шляпу, он решительно направился к джаз-кафе, в узких окнах которого вяло барахтались пестрые огни. Тесная утроба «Бабилона» встретила Рудольфа сигаретным дымом, меланхолическими напевами музыкального автомата и легким полумраком, в котором тягуче меняли цвет сине-зеленые потолочные лампы. Джаз-кафе пустовало. Его обычный контингент отсыпался после пятницы. В пятнах дневного света, болотной зелени и подводной синевы Рудольф заметил девушку, которая всем телом наваливалась на музыкальный автомат. Вычурный макияж и кричащее желто-зеленое платье с широким колоколом юбки выдавали в девушке аполитичную, гедонистическую натуру, а сонное лицо с тяжелыми веками и унылым изгибом рта намекали на героиновую апатию. Музыкальный автомат прохрипел последние аккорды «Горного эдельвейса», популярного шлягера об ушедшей любви. Девушка очнулась от дремы, кинула в прорезь автомата монету, и снова заиграл «Горный эдельвейс».
Между круглыми столиками и пустой эстрадой, на которой по вечерам выступали джаз-бэнды, медленно топтался худосочный юноша. Он флегматично танцевал, роняя голову на плечо, и периодически затягивался сигаретой, которую держал в безвольной руке. Пепел осыпался на мешковатый пиджак с глубокими разрезами по бокам, узкие брюки, не доходившие до лодыжек, и остроносые ботинки. Юноша и впрямь напоминал дождевого червя. И он, и девушка были типичными вурмами, которые относились к политике с подчеркнутым равнодушием, слушали музыку американских негров, а свободное время проводили, предаваясь карточным играм и саморазрушению.
«Или дома дрыхнет, или где-то шляется, ублюдок…» - подумал Рудольф, стиснув зубы так сильно, что у него заныла челюсть. Призрачная надежда застать Октава в «Бабилоне», купить кокаин и отправиться в казино растаяла, уступив место грызущему раздражению. Рудольфу предстояло отыскать Октава, договориться с ним о встрече, а затем следить за минутной стрелкой, делая мысленные ставки на то, как сильно Октав опоздает на этот раз.
Торопливо покинув джаз-кафе, Рудольф нырнул в телефонную будку. Он достал из кармана монету, оплатил звонок и набрал номер, который помнил даже лучше, чем перечень требований к типовому концлагерю. В трубке потянулись друг за другом длинные гудки. Наконец раздался картавый мужской голос:
- Доброе утро. С кем я говорю?
- Давно я к тебе в гости не заходил, Октав, - произнес Рудольф с фальшивым дружелюбием. Взглянув на наручные часы, он мысленно добавил: «Сейчас почти одиннадцать, дегенерат. Какое еще утро?».
- Можешь зайти прямо сейчас, Руди, я как раз проснулся.
Рудольф поморщился. Грассировал Октав на французский манер, а евреем был всего на четверть, но ситуацию это не спасало. Когда Рудольф желал получить свой кокаин, все свойства окружающего мира казались ему недостатками. Особенно нордическая внешность Октава, испорченная черными волосами, близорукими карими глазами и носом с горбинкой. Особенно его характерная вурмовская одежда, из-за которой складывалось впечатление, что Октав носит вещи не по размеру. Особенно кривоватые длинные пальцы, которые в свое время неправильно срослись, и хромота левой ноги, которую тоже изуродовал перелом. В моменты мучительного ожидания Октав Гаже казался Рудольфу живой иллюстрацией генетического брака.
- Лучше ты ко мне, на Унтер-ден-Линден. В ближайшие три часа я свободен.
- Три часа, понял, - хмыкнул Октав, - жди меня к полудню, постараюсь не опоздать.
Чуть поодаль от Унтер-ден-Линден располагался железобетонный цилиндрический монолит с ракушками балконов, вишневыми вкраплениями стеклоблоков и плоской крышей - охраняемый небоскреб «Лорелея», и Рудольфу принадлежала одна из его просторных трехкомнатных квартир. Вернувшись домой, Рудольф отпустил Гельмута, а консьержу приказал не заносить в список визитеров хромого мужчину в очках, который должен был явиться в ближайшие часы.
Мучнисто-бежевый зал тонул в отсветах полуденного солнца. За большим квадратным окном сверкал медью колоссальный купол Дома народа: рыжее море острых искр сливалось в огромный всполох, увенчанный золотистым блеском имперского орла, а где-то внизу болезненно переливалось их отражение в прямоугольнике бассейна. Рудольф швырнул пиджак в дверной проем спальни и устало повалился на стоящий в зале диван. Скрипнула черная кожа, Рудольф тяжело выдохнул.
Он пытался успокоиться, но хрустально-голубые глаза нервозно бегали из стороны в сторону, спотыкаясь то об кофейный столик, то об настенный календарь. Эти два предмета ассоциативно напоминали об Октаве и, следовательно, о кокаине. Журнальный столик привлекал внимание Рудольфа набором политической литературы: «Майн кампф», «Миф XX века» Розенберга и ворох антисемитских журналов, подписка на которые была для членов СС обязательной. Календарь «Новый народ» с январским разворотом, где сочилась летом фотография молодой крестьянки с косой, не давал Рудольфу забыть о сегодняшней субботе. Её клетка была жирно отмечена инициалом «О.».
Октав, конечно же, опоздал и явился только к часу дня. Рудольфу повезло выйти на балкон, – уже в который раз, – именно в тот момент, когда у главного входа остановился модный темно-синий «ситроен». Из него вышел человек в черном, а пятью минутами позже Октав уже стоял перед Рудольфом и сучковатыми пальцами доставал из кармана пальто крохотный бумажный конверт с тремя граммами аптечного кокаина.
- Прости, Руди. Я слегка задержался, зато привез тебе самый хороший порошок, - картаво извинился Октав. Рудольф отдал ему полторы тысячи рейхсмарок и дрожащей рукой забрал конверт.
Позабыв все нелестные эпитеты, которыми он за время ожидания успел наградить Октава, Рудольф расположился над кофейным столиком, вытащил из кипы журналов свежий номер «Штюрмера» с глянцевой обложкой и проворно начертил на нем две жирные дороги. Лицо карикатурного еврея в очках перечеркнули косые белые штрихи. Рудольф наклонился над журналом, коротко зашмыгал, и дороги одна за другой исчезли в скрученной купюре с портретом Гитлера. Ноздри обожгло колким крошевом Хрустальной ночи. Забилось галопом сердце, онемело от внутренней прохлады нёбо, налились стеклянным блеском голубые глаза. Рудольф откинулся на спинку дивана, довольно улыбнулся и хрустнул шеей.
Октав с безучастным видом стоял у окна и оглядывал пейзаж. За стеклами округлых очков в черепаховой оправе сонно шевелились карие глаза. Рудольф не сомневался, что Октав с удовольствием находился бы сейчас в кинотеатре «Штерн», на дневном сеансе с минимумом публики, или в «Бабилоне», без компании и с бутылкой вина – но только не в центре Берлина, где всё было для него враждебным. Оставили свой отпечаток два года, проведенные в сибирском концлагере. К счастью, посадили Октава не за расовое преступление, а всего лишь за шулерство, поэтому в концлагере он носил на груди полосатой робы черный винкель[17] асоциального элемента, наиболее безобидной категории заключенных. Смягчало его участь еще и то, что он был добровольным помощником лагерной администрации, надевал поверх робы вольный пиджак с белой нарукавной повязкой и прилежно выполнял обязанности библиотекаря. Должность стукача была для него логичным этапом карьеры.
[17] перевернутый треугольник определенного цвета, указывающий на тип совершенного преступления, который нашивали на робу заключенного концлагеря
Под успешного наркоторговца Октав маскировался неплохо. Ездил на собственной машине, пусть и подержанной. Проживал в паршивом панельном районе, но квартиру все-таки занимал двухкомнатную. К Октаву домой Рудольф ездил на бюджетном фольксвагеновском «жуке»: чтобы не стать жертвой угона, ездить в народ следовало на народном автомобиле.
- Иди-ка сюда, друг мой. Давай немного поговорим, - улыбнулся Рудольф, демонстрируя белоснежные искусственные зубы. Одной рукой он взял с кофейного столика номер «Штюрмера», с которого только что нюхал кокаин, а другой отыскал среди журналов заточенный карандаш. Рудольфа посетила неожиданная, но очевидная идея.
- О чем еще? – нахмурился Октав.
- О концлагере «Сибирь-2», где ты отбывал наказание за ловкость рук. Дарю тебе редкую возможность отомстить тем, кто тебя унижал. Через неделю я отправляюсь в Паульмунд с проверкой, и мне очень хочется знать, до какой степени дошло тамошнее разгильдяйство.
Октав вскинул брови, но ничего не сказал. Он снял пальто и сел на расстоянии вытянутой руки от Рудольфа. Неряшливо смялись полы мешковатого пиджака, разрез на боку открыл белое пятно рубашки, надетой навыпуск. Закинув ногу на ногу, Октав обхватил ладонью собственное колено, принялся мерно качать острым мыском ботинка и безучастно приступил к рассказу:
- Прошло почти два года, за это время всё могло измениться…
- Комендант? – лаконично перебил его ускоренный Рудольф.
- Эрвин Менгеле. Не родственник, однофамилец. Если тебя интересует, воровал ли он бюджетные деньги, то об этом я ничего не знаю. Знаю только, что он русофил. Цитировал Пушкина.
«Комендант – русофил», - написал Рудольф на гротескном изображении еврейского коммерсанта и перешел к следующему пункту:
- Питание?
- Трехразовое. Я помогал администрации, и у меня была хорошая пайка, но обычные хефтлинги[18]
получали баланду с рыбой. Мясо им давали редко, а рыба иногда попадалась с гнилью.
[18] заключенные концлагеря
Рудольф инспектировал концлагеря уже три года. Он прекрасно понимал, что лагерная администрация не спешит избавляться от нечеловеческих условий содержания, чтобы у заключенных оставался стимул исправиться – пусть даже ради здоровой пищи, комфортного спального места и режимных послаблений. Однако за рамки официальных инструкций это все же выходило, а инструкции были превыше всего.
- Помещения?
- Я жил в отдельной комнате вместе с тремя кухрабочими, и у нас всё было нормально, а на первом этаже барака, где жили обычные хефтлинги, было очень холодно. Им даже печка не помогала.
- Надзиратели?
- В смысле, надзиратели? – переспросил Октав, прекратив качать ногой. Кривые пальцы машинально впились в колено, обтянутое узкой брючиной. Побелели костяшки, но пальцы тут же разжались. Снова закачался, как маятник, ботинок.
- Кто из них применял неуставное насилие? – уточнил Рудольф. В каждом концлагере встречались живодеры, которые любили сверх меры махать дубинкой и полагали, что им за это ничего не будет. Иногда их поддерживало начальство, тоже обладающее палаческими замашками, и особенно часто подобное происходило в окраинных рейхскомиссариатах, избалованных нехваткой контроля.
- Был там один вертухай из славян, Анатолий Страшко, - сказал Октав тягучим тоном и внимательно посмотрел на Рудольфа из-под тяжелых век, - садист с говорящей фамилией. При мне он спокойно избивал людей до полусмерти, а потом их фотографировал. Из этих снимков он составлял фотоальбомы. На память.
- Что-то еще? – хмыкнул Рудольф. Он подметил, что рассказ сдержанного Октава расцвел деталями, а сам Октав недобро оживился. Рудольф догадался, кого именно избивал и фотографировал Анатолий Страшко.
- Да нет, вроде всё, - пожал плечами Октав, приняв обычный равнодушный вид, - впрочем, были еще оберштурмфюрер[19] Олендорф и ауфзеерин[20] Магалл. Они, судя по словам других хефтлингов, тоже людей избивали, но при мне такого не происходило. Магалл я видел еще реже, чем Олендорфа, потому что она обычно находилась в женской части лагеря… А больше я ничего не знаю. Можно мне уже уйти?
[19] старший лейтенант
[20] надзирательница
- Теперь можно, - усмехнулся Рудольф, вернув на кофейный столик журнал. Обложка с карикатурой пестрела пометками, должностями и фамилиями. Октав надел пальто и молча, без принятых в обществе любезностей покинул квартиру. Для него такое поведение не было из ряда вон выходящим. Скрывать внутреннюю холодность Октав, как правило, даже не пытался.
Рудольф усмехнулся. Приведя себя в порядок, он спрятал во внутренний карман пиджака конвертик с кокаином и миниатюрную золотую ложку. На подземной парковке его ожидал серый «опель», а на Курфюрстендамм – казино «Шварцвальд». До наступления темноты Рудольф играл в покер и каждый час заправлялся кокаином. Проиграл семнадцать тысяч рейхсмарок, а выиграл всего восемь - слишком уж смело блефовали другие игроки. Домой Рудольф вернулся поздним вечером и сразу же заснул. В заоконной мгле теплился под галогеновым светом прожекторов Дом народа, а на площади перед Дворцом фюрера огненными брызгами извивалась свастика факельного шествия. Сквозь оконные щели прорывался строгий грохот барабанов, усиленный аппаратурой.
Семнадцатого января Рудольф отправился в восточную командировку, взяв с собой Гельмута, чемодан с вещами и комплект униформы, рассчитанный на русскую зиму. Он отбыл полуночным рейсом «Люфтганзы» из аэропорта Темпельхоф, подсвеченные конструкции которого напоминали в темноте орла с расправленными крыльями. Спустя шесть часов Рудольф приземлился в Москау, добрался до одного из железнодорожных вокзалов Остбанна и купил два билета в купейный вагон.
Чем глубже он продвигался на Восток, тем с большим почтением косились на его мундир и прислушивались к резкому берлинскому выговору: проводник угодливо кланялся, кокетливо улыбалась официантка, а соседи по вагону, не отличающиеся чистотой крови, раболепно называли Рудольфа «герр дойче официр». Прилететь на Восток стоило хотя бы ради того, чтобы ощутить себя не одним из эсэсовских клерков, а господином мира. Рудольфу стало ясно, почему некоторые немцы, послужив в восточной глуши, отказывались возвращаться в Европу. Представителям мелких званий и чинов льстило подобное внимание, которое в Европе было попросту невозможным.
Однако природа такой угодливой не была. Под глухой стук колес за окном поезда проносился нелюдимый Восток. На горизонте белый панцирь снега неуловимо переходил в бледно-серое небо, и к этому небу тянулись колкие от инея каркасы деревьев, которые в теплое время года становились непроходимыми лесами. Рудольф лежал на своей полке и смотрел на негостеприимный ледяной ландшафт сквозь стекло, затянутое полупрозрачными шипами морозных узоров. Из коридора тянуло холодом, поезд Остбанна мчался сквозь жестокий восточный колотун. Шел пятый час пути. Оставалось еще двадцать.
Монотонность зацикленного пейзажа усыпила Рудольфа, перемешав явь со сном. Обрел силу дробный грохот. За деревьями показался ровный строй барабанщиков гитлерюгенда. Горели черные языки юношеских галстуков, горели черные языки пламени на тяжелых барабанах. Над сугробами кружил бесформенный ком метели. В правом глазу дядюшки Альберта мерцало мутно-белое пятно катаракты, морщинистая кожа обтягивала кости. «Недочеловек что угодно сожрет», - скрипуче говорил дядюшка Альберт, разглядывая фотографии с Восточного фронта. На фотографиях он был молодым и веселым, за его спиной полнились трупами расстрельные рвы. Вздрагивал в луже крови избитый Октав, по белой нарукавной повязке расползались алые пятна, хищно моргала вспышка фотокамеры. «Недочеловек что угодно сожрет», - скрипуче говорил дядюшка Альберт, за его спиной качались на сучьях повешенные партизаны. В вязкой гуще метели горели желтые глаза. За деревьями гремели барабаны, плясали черные языки огня.
Рудольф проснулся оттого, что непривычно сильно замерзли ноги, с которых сползло одеяло. На соседней полке похрапывал Гельмут. В плотном мраке, который обступал поезд, мелькали редкие фонари. Белое стало черным, границы горизонта стерлись, лес растворился во тьме. Где-то далеко затаился в ожидании Рудольфа дымящий фабриками Паульмунд.
Семнадцатого января Рудольф отправился в восточную командировку, взяв с собой Гельмута, чемодан с вещами и комплект униформы, рассчитанный на русскую зиму. Он отбыл полуночным рейсом «Люфтганзы» из аэропорта Темпельхоф, подсвеченные конструкции которого напоминали в темноте орла с расправленными крыльями. Спустя шесть часов Рудольф приземлился в Москау, добрался до одного из железнодорожных вокзалов Остбанна и купил два билета в купейный вагон.
Чем глубже он продвигался на Восток, тем с большим почтением косились на его мундир и прислушивались к резкому берлинскому выговору: проводник угодливо кланялся, кокетливо улыбалась официантка, а соседи по вагону, не отличающиеся чистотой крови, раболепно называли Рудольфа «герр дойче официр». Прилететь на Восток стоило хотя бы ради того, чтобы ощутить себя не одним из эсэсовских клерков, а господином мира. Рудольфу стало ясно, почему некоторые немцы, послужив в восточной глуши, отказывались возвращаться в Европу. Представителям мелких званий и чинов льстило подобное внимание, которое в Европе было попросту невозможным.
Однако природа такой угодливой не была. Под глухой стук колес за окном поезда проносился нелюдимый Восток. На горизонте белый панцирь снега неуловимо переходил в бледно-серое небо, и к этому небу тянулись колкие от инея каркасы деревьев, которые в теплое время года становились непроходимыми лесами. Рудольф лежал на своей полке и смотрел на негостеприимный ледяной ландшафт сквозь стекло, затянутое полупрозрачными шипами морозных узоров. Из коридора тянуло холодом, поезд Остбанна мчался сквозь жестокий восточный колотун. Шел пятый час пути. Оставалось еще двадцать.
Монотонность зацикленного пейзажа усыпила Рудольфа, перемешав явь со сном. Обрел силу дробный грохот. За деревьями показался ровный строй барабанщиков гитлерюгенда. Горели черные языки юношеских галстуков, горели черные языки пламени на тяжелых барабанах. Над сугробами кружил бесформенный ком метели. В правом глазу дядюшки Альберта мерцало мутно-белое пятно катаракты, морщинистая кожа обтягивала кости. «Недочеловек что угодно сожрет», - скрипуче говорил дядюшка Альберт, разглядывая фотографии с Восточного фронта. На фотографиях он был молодым и веселым, за его спиной полнились трупами расстрельные рвы. Вздрагивал в луже крови избитый Октав, по белой нарукавной повязке расползались алые пятна, хищно моргала вспышка фотокамеры. «Недочеловек что угодно сожрет», - скрипуче говорил дядюшка Альберт, за его спиной качались на сучьях повешенные партизаны. В вязкой гуще метели горели желтые глаза. За деревьями гремели барабаны, плясали черные языки огня.
Рудольф проснулся оттого, что непривычно сильно замерзли ноги, с которых сползло одеяло. На соседней полке похрапывал Гельмут. В плотном мраке, который обступал поезд, мелькали редкие фонари. Белое стало черным, границы горизонта стерлись, лес растворился во тьме. Где-то далеко затаился в ожидании Рудольфа дымящий фабриками Паульмунд.
Глава 3
Детская кровь
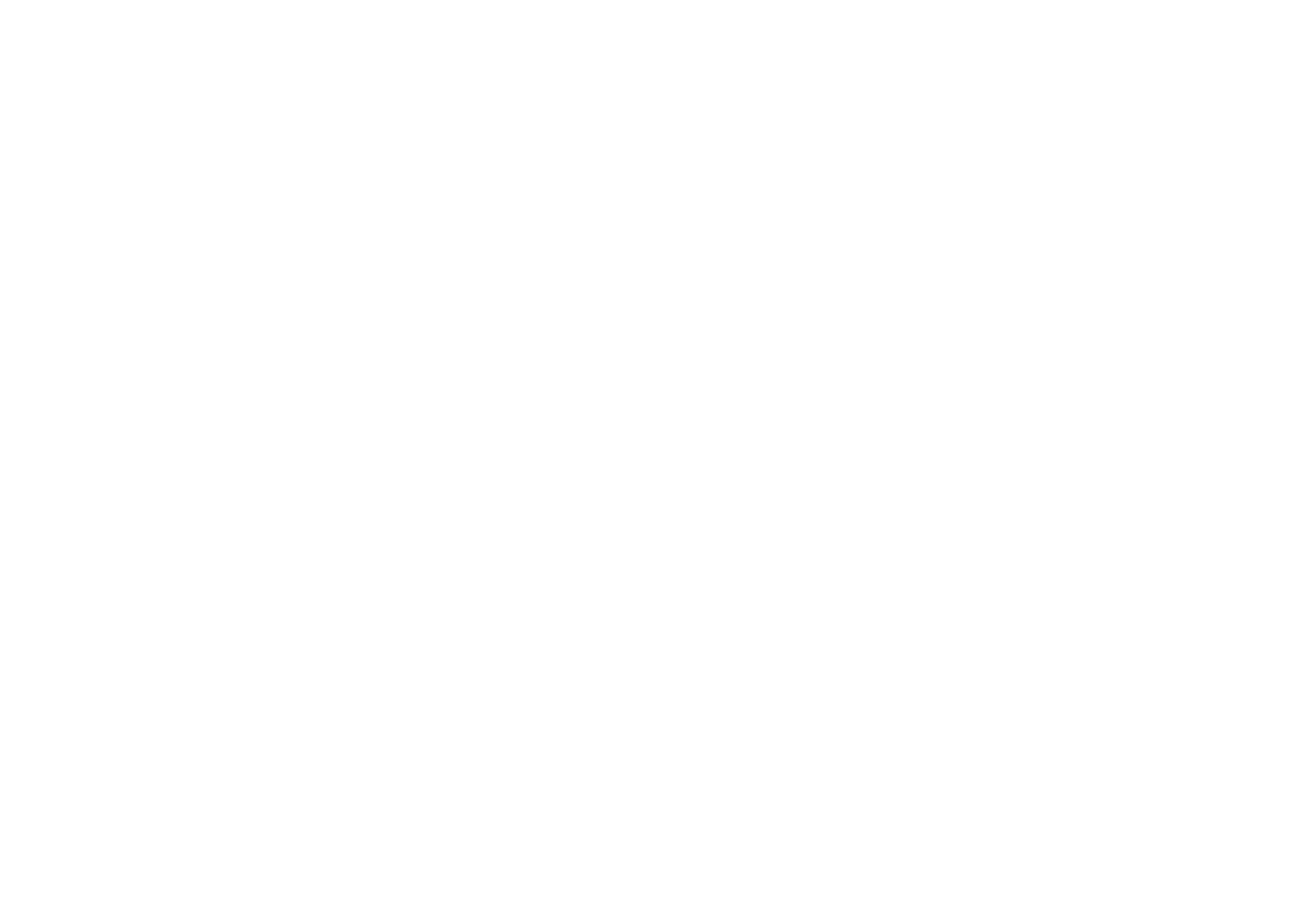
2020 год, март
- Прискакал, козлик… - довольно протянул Юдин. Он стоял у окна, сложив руки за спиной, и выглядывал сквозь жалюзи во двор, окруженный железным частоколом забора. Под горчично-желтым светом погожего дня парковался перед управлением Следственного комитета вишневый «рено». Наконец автомобиль замер, и из него выбрался мужчина в черном. Косо отбрасывая острую тень и хлопая полами пальто, по мокрому асфальту зашагал к крыльцу Евгений Фишер - невольный убийца, бывший сутенер и исправившийся заключенный, который некогда состоял в активе[21] пыточной колонии. Из-за действий Фишера шесть лет назад скончался студент Георгий Горняк, при жизни бывший его приятелем.
[21] категория заключенных, которые добровольно помогают администрации исправительного учреждения
- Сиди с хмурым лицом и поглядывай на него так, будто он крайне тебе не нравится, - повернулся Юдин к лейтенанту Гатауллину, который сидел возле компьютера в дальнем углу кабинета и готовился фиксировать допрос.
- Это легко, Роман Викторович, - бодро отозвался лейтенант и нахмурился, приняв мрачный вид.
Ринат Маратович Гатауллин был скептически настроенным молодым брюнетом, сутулящимся от кабинетной работы. С первого дня существования следственной группы он помогал Юдину допрашивать фигурантов и внимательно следил за тем, как тот их обрабатывает. Некоторые методы Юдина были неочевидными и даже эксцентричными, однако правилам не противоречили и обычно давали результат. Совместная работа с фанатичным охотником на серийных убийц, особенно если учитывать загадочные обстоятельства дела, была для Гатауллина полезным опытом.
Юдин отдернул жалюзи, и кабинет наполнился солнечным светом, в маслянистых лучах которого вспыхнула алым искусственная гвоздика, торчащая из прозрачной вазы. Надев синюю форменную фуражку, Юдин переставил вазу с гвоздикой в центр своего стола, чтобы взгляд вошедшего Фишера неизбежно запнулся об кроваво-красный цветок.
Заняв место за столом, Юдин выбрал личину следователя-изувера и замер в ожидании Фишера, как охотящийся удав. Психологический портрет убийцы был ему ясен: женоненавистник, не оставивший от жертвы цельного трупа, человек без особых достижений, который вычурно оформил преступление, чтобы заявить о себе, и, вероятно, педофил с садистскими наклонностями. Именно из-за последнего предположения Юдин допросил Нелли Комину, которая обладала подростковой комплекцией, насчет сексуальных фетишей Фишера. Он ожидал услышать, что Фишеру нравится хотя бы избивать партнерш, однако сообщила Комина совершенно противоположное, чем сильно его озадачила. Эта черта в психологический портрет убийцы не вписывалась.
Весь вчерашний вечер Юдин провел в Смородинском микрорайоне. Пока Гатауллин изымал записи с больничных видеокамер, Юдин опрашивал персонал морга и непосредственное начальство Фишера. Судя по журналу учета, предоставленному охранником, Фишер приехал в морг к пяти часам вечера, а покинул его после восьми часов утра. Всё это время его автомобиль находился на парковке. Однако и до пустыря, и до пляжа можно было добраться неспешным шагом, потратив на дорогу не больше пятнадцати минут. Мобильный Фишера в тех местах не засветился, но бывалый сиделец вполне мог для отвода глаз телефон на дело не брать.
Непонятным оставался только один момент: как убийца избавился от трупа Жанны Клименко? Лишь в одном из коллекторов Смородинского микрорайона обнаружили тело, но это оказалось не то тело – оно принадлежало мужчине и уже вовсю разлагалось. Из Смородины же выловили мешок с булыжниками и полным комплектом младенческих костей, а вот трупа Жанны Клименко не было нигде - как и следов расчленения. Юдин предположил, что если убивал Фишер, то он, не обладая запасом времени, вполне мог притопить тело в реке, чтобы его унесло течением в сторону песчаных карьеров, а от топора избавиться. Нужно было обладать редкостным хладнокровием, чтобы совершить подобное преступление, не вызвав ни у кого подозрений. Однако пока не было ни данных, подтверждающих причастность Фишера, ни доказательств его невиновности.
Поручив коллегам заняться видеозаписями, Юдин в управление возвращаться не стал. Поужинав в кафе «Речное», он дождался десяти часов вечера и пришел на пляж, где в последний раз был замечен мобильный Жанны. Из-за густых облаков выглядывала алебастровая луна. Глухо подвывал ветер, раскачивая прибрежные осины, а на другом берегу Смородины вздрагивали голые сучья лесополосы. После заката дикий пляж погрузился в темноту и обезлюдел, а о существовании жизни теперь напоминали лишь светящиеся окна многоэтажек и печной дым над частными домами, расположенными поодаль. Расхаживая по пляжу, Юдин пытался влезть в шкуру таинственного преступника. За полчаса мимо пляжа не прошел никто. Здесь вполне можно было убить человека и остаться незамеченным.
Анализ пленок должен был показать, ходил ли Фишер той ночью в сторону дикого пляжа или пустыря. К счастью, слепых зон вокруг больницы не было, так что нужно было всего лишь запастись терпением, однако Юдин мог бегло проверить Фишера на причастность буквально за минуту. Его подгоняло даже не чувство долга, а ребяческое любопытство.
В коридоре послышались тихие шаги, перемежаемые нарастающим кашлем. Раздался легкий стук, и в кабинет без спроса вошел Фишер, одетый крайне парадно: расстегнутое черное пальто с начищенными ботинками, черная отутюженная двойка и белая рубашка с галстуком. И волосы, и одежда были темными, как плодородный гумус, из-за чего лицо Фишера казалось нездорово-землистым. Сдвинутый контур черепа за линзами очков свидетельствовал о сильной близорукости.
- Я не опоздал? – осторожно спросил Фишер, остановившись у порога. В правой руке он сжимал красную пачку «Marlboro». Наткнувшись на тяжелый взгляд Гатауллина, Фишер растерялся. Он посмотрел на Юдина - заметив при этом гвоздику, но совсем не изменившись в лице, которое так и осталось флегматически-задумчивым.
«Очень жаль, дружок, но ты непричастен, - сделал Юдин мысленный вывод, - будь ты убийцей, ты бы уже нервничал и мямлил. Однако просто так ты отсюда всё равно не выйдешь».
- Присаживайтесь, Евгений Петрович, - непринужденно произнес он и подвинул пепельницу к краю стола, проявляя обманчивое гостеприимство.
Фишер неуклюже, стараясь не помять пальто, расположился на жестком деревянном стуле и положил перед Юдиным паспорт. Отвечая на формальные вопросы о личных данных, он старался говорить вежливо, однако в интеллигентную речь неизбежно вторгались резкие нотки. То ли намеренно, то ли по наитию Фишер усыплял бдительность окружающих, изображая неловкого интроверта. В его излишне правильном облике сквозило будничное притворство, и неискушенный собеседник, не обладающий опытом Юдина, вполне мог бы счесть этого уголовника милейшим человеком.
- И какой у вас стаж? – начал допрос Юдин, сдержанно улыбнувшись. Фишер, который пытался прикурить, тщетно щелкая зажигалкой, поднял на него недоуменный взгляд. Юдин указал подбородком на пачку сигарет, которая лежала возле пепельницы.
- Двенадцать лет, - спокойно ответил Фишер. Из зажигалки наконец вырвался крохотный язычок желтовато-белого огня. Фишер глубоко затянулся, и по солнечному воздуху кабинета пополз сизый орнамент дыма.
- Евгений Петрович, вы с торжества приехали?
- Можно и так сказать, - усмехнулся он, - с похорон. Раньше я работал водителем катафалка, а теперь иногда подменяю бывших коллег, если возникает необходимость. Один из водителей сломал руку. Шеф позвонил мне, и я согласился помочь.
В сторону Гатауллина, который всем своим видом выказывал антипатию и хмурился так, словно уже держал наготове противогаз, Фишер даже не смотрел – долгое общение с сотрудниками пенитенциарной системы сделало его невосприимчивым к грубости. Юдину невольно представилось, как он втаптывает избитого до крови Фишера в режущий щебень грунтовки, пока не начинают крошиться стекла очков и хищные зубы, а затем брезгливым пинком сталкивает стонущее тело в жирный от грязи буерак и спокойно покидает лесопосадку. Стряхнув непрошеную мысль, Юдин решил взять на себя роль экзекутора хотя бы в малом. Фишер пока еще ничего толком не сказал, но уже вызывал зубовный скрежет, и оставлять такое поведение без внимания было нельзя.
- Почему же вы решили работать в сфере ритуальных услуг?
- Я ничего не решал. Меня устроила по знакомству бабушка, Лора Генриховна. Два года назад я перешел в морг на Смородине и теперь работаю ночным санитаром.
- Вскрытиями на работе занимаетесь, Фишер? – сурово взглянул на него Юдин. На этот раз голос прозвучал достаточно колко, чтобы жертва заподозрила неладное.
- Вскрывает дневная смена с медобразованием, - осторожно произнес Фишер, стряхивая пепел, - у меня такого права нет. Навыков, впрочем, тоже.
- Где восьмого марта находилась Нелли Ивановна Комина?
- До четырех часов она была со мной. Потом я поехал на работу, а она в бар. По крайней мере, мне она сказала, что собирается в бар, - холодно ответил Фишер. За линзами очков потемнели карие глаза, чуть дрогнули нервно сжатые губы.
Процесс пошел. Фишер пришел всего пять минут назад, а уже трепыхался, как жуки-бронзовки, которых маленький Рома, проводя лето в деревне, живьем кидал в большой бак с водой, стоящий возле колючих зарослей малины. Оказавшись в воде, бронзовки уже не могли взлететь, им оставалось лишь сучить лапками и надеяться, что мальчику наскучит дожидаться их смерти. Однако мальчик стоял на цыпочках, ощущая кончиками пальцев нагретый жарой шлакоблок, цеплялся одной рукой за ржавый край бака и жуков отпускать не собирался. В водной толще рассеивался полуденный свет, колыхались тонкие перышки водорослей, а на мерцающих рукотворных волнах покачивались сверкающие бронзовки, чьи зеленые с золотом спины отражали тяжелое летнее солнце.
- Неужели вам нравится, когда об вас сигареты тушат? А, Фишер? - спросил наконец Юдин, перестав скрывать ехидство. – Соврала Комина или вы действительно мазохист?
Стрекотание клавиш в углу стало не таким поспешным, как раньше. Хотя расследование началось совсем недавно, Гатауллин уже приноровился к манере Юдина и теперь отлично понимал, какие вопросы в протокол заносить не стоит. Беспричинные порывы злословия, которым Юдин был подвержен, Гатауллина не смущали, а к концу второй недели и вовсе превратились для него в белый шум.
- Какие неожиданные вопросы вы задаете, гражданин начальник… - озадаченно пробормотал Фишер и отложил тлеющую сигарету в выемку пепельницы. – Я теперь не совсем понимаю, зачем вы меня вызвали и что именно…
- Следы есть? – перебил Юдин. – Можете продемонстрировать?
Фишер со вздохом потянулся к пуговицам пиджака. Как и подобало человеку, который за два года злоключений привык к постоянному шмону и утратил способность стыдиться, он спокойно задрал рубашку и подставил под солнечный свет реберный остов. Внимательно приглядевшись, Юдин сразу же опознал зеленовато-синие кровоподтеки недельной давности, заживающие точки сигаретных ожогов и тонкие бледные шрамы, оставленные ножом, вероятнее всего, стандартным кухонным.
- На прошлых выходных виделись с Коминой, значит? – усмехнулся Юдин. Фишер молча опустил рубашку и застегнул пиджак. Дотлевший до фильтра окурок уткнулся черным рыльцем в стекло пепельницы. Фишер снова закурил, вскинул подбородок и с чувством собственного достоинства произнес:
- Это происходит с моего полного согласия, я участвую в этом добровольно и никаких претензий к Коминой не имею. Писать на неё заявление я не собираюсь.
- Конечно, конечно. Дело исключительно ваше, - тихо засмеялся Юдин. Смесь мазохизма и гордыни вызывала у него отвращение, и с носителями подобных качеств он уживался плохо. Фишер, к своему несчастью, был представителем именно такого типажа нижних. Поигрывая его паспортом, Юдин непринужденно продолжил:
- В твоем личном деле сказано, что ты отбывал срок за превышение самообороны и сутенерство. С последним мне всё понятно, а вот по первому пункту возникли вопросы. Почему, например, твоя самооборона включала в себя семнадцать ударов ножом? Что это за самооборона такая, Женя? Муханкиным вдохновлялся?
Фишер, который уже считал себя спасенным, покосился на Юдина и неуловимо изменился. Застыли темные, словно печная зола, глаза. Маска неловкого ботаника исчезла. Фишер бесстрастно смотрел на Юдина, как таежный канюк. Однако он хорошо владел собой, и метаморфоза отняла не больше секунды.
- При чем здесь Муханкин? – с долей обиды возразил Фишер, приняв обыденный вид. – Меня в живот пырнули, стали бить башкой об асфальт и лишили очков. Надо же мне было как-то защищаться! К тому же, экспертиза установила, что смертельным оказался только пятнадцатый удар. Я не собирался никого убивать, это произошло случайно.
- Сутенером тоже случайно стал?
- Нет, намеренно. Но вину перед обществом я уже искупил.
- Как в колонии жилось?
- Нормально, - огрызнулся Фишер.
- Я вчера с кумом[22] разговаривал, и он сообщил, что ты был красный[23], как пожарная машина, - усмехнулся Юдин, хотя ни с кем из ИК-2 вчера не беседовал. В этом не было надобности: о жизненных приоритетах Фишера можно было догадаться, даже не будучи семи пядей во лбу.
[22] сотрудник оперативной части исправительного учреждения
[23] заключенный, состоящий в активе или сотрудничающий с администрацией исправительного учреждения
- С каким кумом? – удивился Фишер.
- Из оперчасти[24], козел. Хватит уже дурака валять.
[24] оперативная часть исправительного учреждения, занимающаяся контролем за заключенными
- А вам не нравится, что ли, когда осу̀жденные встают на путь исправления? – парировал Фишер. – Послушайте, гражданин начальник, я же понимаю, что вы меня вызвали из-за руки, которую на пустыре нашли. А вопросами обо всем подряд бомбардируете, чтобы я вышел из себя и что-нибудь ляпнул. Вот только ляпнуть я ничего не могу, потому что той ночью находился в морге и девочку не убивал. Я не люблю причинять людям физический вред, а дети у меня вообще никаких чувств не вызывают. Я не садист и уж точно не педофил. Перестаньте меня третировать.
- И зачем же мне, позволь спросить, тебя третировать? – осведомился Юдин с прежней усмешкой. – Разве ты в чем-то виноват?
- Затем, что я за убийство срок мотал, и вы почему-то думаете, что я непременно убью снова. Не конкретно вы, а правоохранительные органы в целом.
Результат был достигнут: Фишер распалился, потерял над собой контроль и теперь уже не был таким самоуверенным. Юдин брезгливо отшвырнул его паспорт на стол. В беседе с преступником, которого когда-то лишали человеческих прав, пусть даже на время, он мог себе такое позволить. Не успел Фишер спрятать паспорт в карман пиджака, как ему под нос сунули распечатанный протокол.
- На, подписывай, - грубо произнес Гатауллин, придерживаясь отведенного амплуа. Пробежав глазами выхолощенный казенный текст, в который не попала ни одна резкая формулировка, Фишер поставил кинжально-острую подпись, вскочил со стула и уже через миг оказался около двери.
- И никогда больше не хами мне, сучья морда. Ясно тебе? – надменно бросил ему в спину Юдин. Не отвечая на оскорбление, Фишер скрылся за дверью кабинета. Гулко застучали по коридору каблуки, перетекая в далекое дробное эхо лестничной клетки.
- Жанну убил не он, - произнес Юдин, - какие-то старые косяки за ним есть, но нас это не касается. В колониях свои тонкости работы. Не будем туда лезть.
Гатауллин вскинул бровь и вопросительно посмотрел на Юдина. Под косыми лучами дневного свечения непроницаемое лицо Гатауллина казалось совсем юным, а на погонах форменного свитера золотисто поблескивали парные лейтенантские звезды.
- Наш дражайший Евгений Петрович грубил и немного нервничал, но это нормальное поведение для человека, которого вызвали на допрос, - самодовольно улыбнулся Юдин, - особенно, если на допрос его вызвал я. А на гвоздику, как ты заметил, реакция нулевая. Обстоятельства убийства ему неизвестны.
Гатауллин нахмурился:
- Он ненормальный, Роман Викторович, это даже без психиатра понятно. У меня такие кадры обычно по бытовухе проходят. В прошлом году один подкаблучник зарезал жену и расчленил, а части тела сложил на балконе. Когда брали этого чудилу, он сказал, что не избавился от трупа, потому что очень её любил. Вот на него Фишер очень похож.
Юдин проигнорировал очередную историю Гатауллина, который интересовался природой насилия, а дела о бытовых убийствах расследовал с особым рвением. Словно шаман, он видел в лице очередного подозреваемого, кажущегося уравновешенным, невидимую печать совершённого убийства, и редкому домашнему тирану удавалось обвести его вокруг пальца.
Сложив руки за спиной, Юдин расслабленно подошел к окну и снова выглянул во двор управления. На сером сукне асфальта мерцала весенняя влага, а над крыльцом неподвижно нависал флаг России. Торопливо шагал к своей машине ранее судимый Евгений Фишер. Он был своеобразным человеком, возможно, таким же своеобразным, как Юдин. Это предположение можно было проверить, расспросив Фишера о детстве и взаимоотношениях с живностью, однако Юдину лень было этим заниматься, да и вряд ли бы он получил честные ответы. Но еще сильнее Юдин был убежден в том, что к ускоряющемуся хороводу смертей Фишер непричастен, пусть даже он и выглядел, как маньяк из американского фильма ужасов. Юдин по собственному опыту знал, что не все социопаты переступают черту.
[21] категория заключенных, которые добровольно помогают администрации исправительного учреждения
- Сиди с хмурым лицом и поглядывай на него так, будто он крайне тебе не нравится, - повернулся Юдин к лейтенанту Гатауллину, который сидел возле компьютера в дальнем углу кабинета и готовился фиксировать допрос.
- Это легко, Роман Викторович, - бодро отозвался лейтенант и нахмурился, приняв мрачный вид.
Ринат Маратович Гатауллин был скептически настроенным молодым брюнетом, сутулящимся от кабинетной работы. С первого дня существования следственной группы он помогал Юдину допрашивать фигурантов и внимательно следил за тем, как тот их обрабатывает. Некоторые методы Юдина были неочевидными и даже эксцентричными, однако правилам не противоречили и обычно давали результат. Совместная работа с фанатичным охотником на серийных убийц, особенно если учитывать загадочные обстоятельства дела, была для Гатауллина полезным опытом.
Юдин отдернул жалюзи, и кабинет наполнился солнечным светом, в маслянистых лучах которого вспыхнула алым искусственная гвоздика, торчащая из прозрачной вазы. Надев синюю форменную фуражку, Юдин переставил вазу с гвоздикой в центр своего стола, чтобы взгляд вошедшего Фишера неизбежно запнулся об кроваво-красный цветок.
Заняв место за столом, Юдин выбрал личину следователя-изувера и замер в ожидании Фишера, как охотящийся удав. Психологический портрет убийцы был ему ясен: женоненавистник, не оставивший от жертвы цельного трупа, человек без особых достижений, который вычурно оформил преступление, чтобы заявить о себе, и, вероятно, педофил с садистскими наклонностями. Именно из-за последнего предположения Юдин допросил Нелли Комину, которая обладала подростковой комплекцией, насчет сексуальных фетишей Фишера. Он ожидал услышать, что Фишеру нравится хотя бы избивать партнерш, однако сообщила Комина совершенно противоположное, чем сильно его озадачила. Эта черта в психологический портрет убийцы не вписывалась.
Весь вчерашний вечер Юдин провел в Смородинском микрорайоне. Пока Гатауллин изымал записи с больничных видеокамер, Юдин опрашивал персонал морга и непосредственное начальство Фишера. Судя по журналу учета, предоставленному охранником, Фишер приехал в морг к пяти часам вечера, а покинул его после восьми часов утра. Всё это время его автомобиль находился на парковке. Однако и до пустыря, и до пляжа можно было добраться неспешным шагом, потратив на дорогу не больше пятнадцати минут. Мобильный Фишера в тех местах не засветился, но бывалый сиделец вполне мог для отвода глаз телефон на дело не брать.
Непонятным оставался только один момент: как убийца избавился от трупа Жанны Клименко? Лишь в одном из коллекторов Смородинского микрорайона обнаружили тело, но это оказалось не то тело – оно принадлежало мужчине и уже вовсю разлагалось. Из Смородины же выловили мешок с булыжниками и полным комплектом младенческих костей, а вот трупа Жанны Клименко не было нигде - как и следов расчленения. Юдин предположил, что если убивал Фишер, то он, не обладая запасом времени, вполне мог притопить тело в реке, чтобы его унесло течением в сторону песчаных карьеров, а от топора избавиться. Нужно было обладать редкостным хладнокровием, чтобы совершить подобное преступление, не вызвав ни у кого подозрений. Однако пока не было ни данных, подтверждающих причастность Фишера, ни доказательств его невиновности.
Поручив коллегам заняться видеозаписями, Юдин в управление возвращаться не стал. Поужинав в кафе «Речное», он дождался десяти часов вечера и пришел на пляж, где в последний раз был замечен мобильный Жанны. Из-за густых облаков выглядывала алебастровая луна. Глухо подвывал ветер, раскачивая прибрежные осины, а на другом берегу Смородины вздрагивали голые сучья лесополосы. После заката дикий пляж погрузился в темноту и обезлюдел, а о существовании жизни теперь напоминали лишь светящиеся окна многоэтажек и печной дым над частными домами, расположенными поодаль. Расхаживая по пляжу, Юдин пытался влезть в шкуру таинственного преступника. За полчаса мимо пляжа не прошел никто. Здесь вполне можно было убить человека и остаться незамеченным.
Анализ пленок должен был показать, ходил ли Фишер той ночью в сторону дикого пляжа или пустыря. К счастью, слепых зон вокруг больницы не было, так что нужно было всего лишь запастись терпением, однако Юдин мог бегло проверить Фишера на причастность буквально за минуту. Его подгоняло даже не чувство долга, а ребяческое любопытство.
В коридоре послышались тихие шаги, перемежаемые нарастающим кашлем. Раздался легкий стук, и в кабинет без спроса вошел Фишер, одетый крайне парадно: расстегнутое черное пальто с начищенными ботинками, черная отутюженная двойка и белая рубашка с галстуком. И волосы, и одежда были темными, как плодородный гумус, из-за чего лицо Фишера казалось нездорово-землистым. Сдвинутый контур черепа за линзами очков свидетельствовал о сильной близорукости.
- Я не опоздал? – осторожно спросил Фишер, остановившись у порога. В правой руке он сжимал красную пачку «Marlboro». Наткнувшись на тяжелый взгляд Гатауллина, Фишер растерялся. Он посмотрел на Юдина - заметив при этом гвоздику, но совсем не изменившись в лице, которое так и осталось флегматически-задумчивым.
«Очень жаль, дружок, но ты непричастен, - сделал Юдин мысленный вывод, - будь ты убийцей, ты бы уже нервничал и мямлил. Однако просто так ты отсюда всё равно не выйдешь».
- Присаживайтесь, Евгений Петрович, - непринужденно произнес он и подвинул пепельницу к краю стола, проявляя обманчивое гостеприимство.
Фишер неуклюже, стараясь не помять пальто, расположился на жестком деревянном стуле и положил перед Юдиным паспорт. Отвечая на формальные вопросы о личных данных, он старался говорить вежливо, однако в интеллигентную речь неизбежно вторгались резкие нотки. То ли намеренно, то ли по наитию Фишер усыплял бдительность окружающих, изображая неловкого интроверта. В его излишне правильном облике сквозило будничное притворство, и неискушенный собеседник, не обладающий опытом Юдина, вполне мог бы счесть этого уголовника милейшим человеком.
- И какой у вас стаж? – начал допрос Юдин, сдержанно улыбнувшись. Фишер, который пытался прикурить, тщетно щелкая зажигалкой, поднял на него недоуменный взгляд. Юдин указал подбородком на пачку сигарет, которая лежала возле пепельницы.
- Двенадцать лет, - спокойно ответил Фишер. Из зажигалки наконец вырвался крохотный язычок желтовато-белого огня. Фишер глубоко затянулся, и по солнечному воздуху кабинета пополз сизый орнамент дыма.
- Евгений Петрович, вы с торжества приехали?
- Можно и так сказать, - усмехнулся он, - с похорон. Раньше я работал водителем катафалка, а теперь иногда подменяю бывших коллег, если возникает необходимость. Один из водителей сломал руку. Шеф позвонил мне, и я согласился помочь.
В сторону Гатауллина, который всем своим видом выказывал антипатию и хмурился так, словно уже держал наготове противогаз, Фишер даже не смотрел – долгое общение с сотрудниками пенитенциарной системы сделало его невосприимчивым к грубости. Юдину невольно представилось, как он втаптывает избитого до крови Фишера в режущий щебень грунтовки, пока не начинают крошиться стекла очков и хищные зубы, а затем брезгливым пинком сталкивает стонущее тело в жирный от грязи буерак и спокойно покидает лесопосадку. Стряхнув непрошеную мысль, Юдин решил взять на себя роль экзекутора хотя бы в малом. Фишер пока еще ничего толком не сказал, но уже вызывал зубовный скрежет, и оставлять такое поведение без внимания было нельзя.
- Почему же вы решили работать в сфере ритуальных услуг?
- Я ничего не решал. Меня устроила по знакомству бабушка, Лора Генриховна. Два года назад я перешел в морг на Смородине и теперь работаю ночным санитаром.
- Вскрытиями на работе занимаетесь, Фишер? – сурово взглянул на него Юдин. На этот раз голос прозвучал достаточно колко, чтобы жертва заподозрила неладное.
- Вскрывает дневная смена с медобразованием, - осторожно произнес Фишер, стряхивая пепел, - у меня такого права нет. Навыков, впрочем, тоже.
- Где восьмого марта находилась Нелли Ивановна Комина?
- До четырех часов она была со мной. Потом я поехал на работу, а она в бар. По крайней мере, мне она сказала, что собирается в бар, - холодно ответил Фишер. За линзами очков потемнели карие глаза, чуть дрогнули нервно сжатые губы.
Процесс пошел. Фишер пришел всего пять минут назад, а уже трепыхался, как жуки-бронзовки, которых маленький Рома, проводя лето в деревне, живьем кидал в большой бак с водой, стоящий возле колючих зарослей малины. Оказавшись в воде, бронзовки уже не могли взлететь, им оставалось лишь сучить лапками и надеяться, что мальчику наскучит дожидаться их смерти. Однако мальчик стоял на цыпочках, ощущая кончиками пальцев нагретый жарой шлакоблок, цеплялся одной рукой за ржавый край бака и жуков отпускать не собирался. В водной толще рассеивался полуденный свет, колыхались тонкие перышки водорослей, а на мерцающих рукотворных волнах покачивались сверкающие бронзовки, чьи зеленые с золотом спины отражали тяжелое летнее солнце.
- Неужели вам нравится, когда об вас сигареты тушат? А, Фишер? - спросил наконец Юдин, перестав скрывать ехидство. – Соврала Комина или вы действительно мазохист?
Стрекотание клавиш в углу стало не таким поспешным, как раньше. Хотя расследование началось совсем недавно, Гатауллин уже приноровился к манере Юдина и теперь отлично понимал, какие вопросы в протокол заносить не стоит. Беспричинные порывы злословия, которым Юдин был подвержен, Гатауллина не смущали, а к концу второй недели и вовсе превратились для него в белый шум.
- Какие неожиданные вопросы вы задаете, гражданин начальник… - озадаченно пробормотал Фишер и отложил тлеющую сигарету в выемку пепельницы. – Я теперь не совсем понимаю, зачем вы меня вызвали и что именно…
- Следы есть? – перебил Юдин. – Можете продемонстрировать?
Фишер со вздохом потянулся к пуговицам пиджака. Как и подобало человеку, который за два года злоключений привык к постоянному шмону и утратил способность стыдиться, он спокойно задрал рубашку и подставил под солнечный свет реберный остов. Внимательно приглядевшись, Юдин сразу же опознал зеленовато-синие кровоподтеки недельной давности, заживающие точки сигаретных ожогов и тонкие бледные шрамы, оставленные ножом, вероятнее всего, стандартным кухонным.
- На прошлых выходных виделись с Коминой, значит? – усмехнулся Юдин. Фишер молча опустил рубашку и застегнул пиджак. Дотлевший до фильтра окурок уткнулся черным рыльцем в стекло пепельницы. Фишер снова закурил, вскинул подбородок и с чувством собственного достоинства произнес:
- Это происходит с моего полного согласия, я участвую в этом добровольно и никаких претензий к Коминой не имею. Писать на неё заявление я не собираюсь.
- Конечно, конечно. Дело исключительно ваше, - тихо засмеялся Юдин. Смесь мазохизма и гордыни вызывала у него отвращение, и с носителями подобных качеств он уживался плохо. Фишер, к своему несчастью, был представителем именно такого типажа нижних. Поигрывая его паспортом, Юдин непринужденно продолжил:
- В твоем личном деле сказано, что ты отбывал срок за превышение самообороны и сутенерство. С последним мне всё понятно, а вот по первому пункту возникли вопросы. Почему, например, твоя самооборона включала в себя семнадцать ударов ножом? Что это за самооборона такая, Женя? Муханкиным вдохновлялся?
Фишер, который уже считал себя спасенным, покосился на Юдина и неуловимо изменился. Застыли темные, словно печная зола, глаза. Маска неловкого ботаника исчезла. Фишер бесстрастно смотрел на Юдина, как таежный канюк. Однако он хорошо владел собой, и метаморфоза отняла не больше секунды.
- При чем здесь Муханкин? – с долей обиды возразил Фишер, приняв обыденный вид. – Меня в живот пырнули, стали бить башкой об асфальт и лишили очков. Надо же мне было как-то защищаться! К тому же, экспертиза установила, что смертельным оказался только пятнадцатый удар. Я не собирался никого убивать, это произошло случайно.
- Сутенером тоже случайно стал?
- Нет, намеренно. Но вину перед обществом я уже искупил.
- Как в колонии жилось?
- Нормально, - огрызнулся Фишер.
- Я вчера с кумом[22] разговаривал, и он сообщил, что ты был красный[23], как пожарная машина, - усмехнулся Юдин, хотя ни с кем из ИК-2 вчера не беседовал. В этом не было надобности: о жизненных приоритетах Фишера можно было догадаться, даже не будучи семи пядей во лбу.
[22] сотрудник оперативной части исправительного учреждения
[23] заключенный, состоящий в активе или сотрудничающий с администрацией исправительного учреждения
- С каким кумом? – удивился Фишер.
- Из оперчасти[24], козел. Хватит уже дурака валять.
[24] оперативная часть исправительного учреждения, занимающаяся контролем за заключенными
- А вам не нравится, что ли, когда осу̀жденные встают на путь исправления? – парировал Фишер. – Послушайте, гражданин начальник, я же понимаю, что вы меня вызвали из-за руки, которую на пустыре нашли. А вопросами обо всем подряд бомбардируете, чтобы я вышел из себя и что-нибудь ляпнул. Вот только ляпнуть я ничего не могу, потому что той ночью находился в морге и девочку не убивал. Я не люблю причинять людям физический вред, а дети у меня вообще никаких чувств не вызывают. Я не садист и уж точно не педофил. Перестаньте меня третировать.
- И зачем же мне, позволь спросить, тебя третировать? – осведомился Юдин с прежней усмешкой. – Разве ты в чем-то виноват?
- Затем, что я за убийство срок мотал, и вы почему-то думаете, что я непременно убью снова. Не конкретно вы, а правоохранительные органы в целом.
Результат был достигнут: Фишер распалился, потерял над собой контроль и теперь уже не был таким самоуверенным. Юдин брезгливо отшвырнул его паспорт на стол. В беседе с преступником, которого когда-то лишали человеческих прав, пусть даже на время, он мог себе такое позволить. Не успел Фишер спрятать паспорт в карман пиджака, как ему под нос сунули распечатанный протокол.
- На, подписывай, - грубо произнес Гатауллин, придерживаясь отведенного амплуа. Пробежав глазами выхолощенный казенный текст, в который не попала ни одна резкая формулировка, Фишер поставил кинжально-острую подпись, вскочил со стула и уже через миг оказался около двери.
- И никогда больше не хами мне, сучья морда. Ясно тебе? – надменно бросил ему в спину Юдин. Не отвечая на оскорбление, Фишер скрылся за дверью кабинета. Гулко застучали по коридору каблуки, перетекая в далекое дробное эхо лестничной клетки.
- Жанну убил не он, - произнес Юдин, - какие-то старые косяки за ним есть, но нас это не касается. В колониях свои тонкости работы. Не будем туда лезть.
Гатауллин вскинул бровь и вопросительно посмотрел на Юдина. Под косыми лучами дневного свечения непроницаемое лицо Гатауллина казалось совсем юным, а на погонах форменного свитера золотисто поблескивали парные лейтенантские звезды.
- Наш дражайший Евгений Петрович грубил и немного нервничал, но это нормальное поведение для человека, которого вызвали на допрос, - самодовольно улыбнулся Юдин, - особенно, если на допрос его вызвал я. А на гвоздику, как ты заметил, реакция нулевая. Обстоятельства убийства ему неизвестны.
Гатауллин нахмурился:
- Он ненормальный, Роман Викторович, это даже без психиатра понятно. У меня такие кадры обычно по бытовухе проходят. В прошлом году один подкаблучник зарезал жену и расчленил, а части тела сложил на балконе. Когда брали этого чудилу, он сказал, что не избавился от трупа, потому что очень её любил. Вот на него Фишер очень похож.
Юдин проигнорировал очередную историю Гатауллина, который интересовался природой насилия, а дела о бытовых убийствах расследовал с особым рвением. Словно шаман, он видел в лице очередного подозреваемого, кажущегося уравновешенным, невидимую печать совершённого убийства, и редкому домашнему тирану удавалось обвести его вокруг пальца.
Сложив руки за спиной, Юдин расслабленно подошел к окну и снова выглянул во двор управления. На сером сукне асфальта мерцала весенняя влага, а над крыльцом неподвижно нависал флаг России. Торопливо шагал к своей машине ранее судимый Евгений Фишер. Он был своеобразным человеком, возможно, таким же своеобразным, как Юдин. Это предположение можно было проверить, расспросив Фишера о детстве и взаимоотношениях с живностью, однако Юдину лень было этим заниматься, да и вряд ли бы он получил честные ответы. Но еще сильнее Юдин был убежден в том, что к ускоряющемуся хороводу смертей Фишер непричастен, пусть даже он и выглядел, как маньяк из американского фильма ужасов. Юдин по собственному опыту знал, что не все социопаты переступают черту.
По мертвенной синеве неба ползли сизые комья туч. Коричнево-серый ландшафт ранней городской весны давил на Фишера дорожной слякотью, влажным воздухом и пунктирным сорочьим стрекотом, который доносился со стороны Парка Афганцев. Не изменяя своей привычке, Фишер курил за рулем, но сегодня он делал это в напряженной манере: сдавливал зубами фильтр, торопливо втягивал дым и ронял на колени пепел.
- …And through the dark your eyes shine bright, - играла в машине песня группы «The Cure», записанная почти сорок лет назад, - burn like fire, burn like fire in Cairo…
Следователь Юдин застал Фишера врасплох, начав задавать вопросы о колонии. Особенно настораживало упоминание колонийского кума, под которым вполне мог подразумеваться майор Сухарев, однако уточнять Фишер не рискнул - именно майор Сухарев был осведомлен о конфликте, в котором Фишер когда-то увяз сильнее, чем планировал. И Юдин об этом конфликте не должен был узнать ни в коем случае. Тему пришлось срочно менять, и Фишер, выбрав меньшее из зол, решил прямым текстом заговорить об убитой племяннице Нели, руку которой обнаружили недалеко от морга, где он работал. К счастью, мертвая девочка и впрямь оказалась подлинным интересом Юдина. Парадоксальным образом сочетая в себе морального садиста и законопослушного стража порядка, он по инерции потрепал Фишеру нервы и благополучно его отпустил.
День, впрочем, не задался с самого утра. Череда неприятностей началась с лакированного гроба из темной сосны, который погрузили в черную газель «Ленритуала» рабочие похоронной бригады. На белом атласе покоился одутловатый мужчина за пятьдесят, звали его Дмитрий Николаевич Блотнер, и это насторожило Фишера, который в школьные годы был знаком с еще одним Блотнером. Именно его Фишер и увидел, когда из морга вышли ритуальный агент Альбина Максимовна и две женщины в черных платках, несущие по паре живых гвоздик. Сухощавый и чуть смуглый Гена Блотнер, одетый в непромокаемый плащ, покинул морг последним. В руках у него был пышный щитообразный венок, усыпанный искусственными бутонами роз, хризантем и лилий, а по краям венка вилась спираль траурной ленты. Мутным от скорби взглядом Гена скользнул по кудрявой Альбине Максимовне, внутреннему двору морга и наконец заметил Фишера, который сидел за рулем катафалка.
- Мы с другим водителем договаривались, Альбина Максимовна, - нехорошо прищурился Гена, остановившись на полпути к газели.
- Богдан Павлович вчера сломал руку, пришлось срочно искать ему замену, и нашелся только Евгений Петрович, - тоже остановилась Альбина Максимовна, повернувшись к Гене. Скорбь и учтивость смешивались в её тоне с легким раздражением, потому что процессия отставала от графика.
- А кого-нибудь другого можно найти? – настаивал Гена.
Добавив в голос металла, Альбина Максимовна, которая работала в ритуальной сфере уже девять лет, объяснила, что похороны назначены на десять часов утра, а поминки на одиннадцать, и менять водителя уже слишком поздно. Гена поддался её нотациям и немного успокоился. Однако садиться в катафалк отказался и к Жуковскому кладбищу, названному в честь советского маршала, поехал на своей машине, усадив на заднее сиденье обеих женщин. Труп Дмитрия Блотнера остался в компании похоронной бригады.
Похороны были самые обыкновенные. Лакированный гроб стоял на двух табуретках, не вписываясь своей свежестью в кладбищенский пейзаж из гранитных надгробий, ржавеющих оградок и облезлых берез. Скорбящие по очереди поцеловали труп в лоб, а когда гроб опустили в могилу, на его скользкую крышку упали три влажных кома земли. Осталась позади жизнь. Могильщики засыпали гроб черным грунтом и установили поверх деревянный крест. Гена прислонил к кресту траурный венок. Женщины, положив на горбик земли гвоздики, задержались возле свежей могилы и теперь глухо подвывали. Угрюмый Гена курил под ближайшей березой.
Фишер отдыхал за рулем катафалка, припаркованного на обочине аллеи, и тоже курил. Он искоса разглядывал Гену Блотнера, который находился всего в двух метрах от него, и ощущал, как ворочается в кишках застарелая злоба. Фишер помнил Гену долговязым школьником с припадками гнева, во время которых его вытянутое лицо становилось темно-красным от приливающей крови, а крылья длинного носа начинали заметно раздуваться – это выглядело и пугающе, и смешно одновременно. Фишер, которому не посчастливилось быть в свое время одноклассником Гены, прекрасно помнил, как тот, когда ему было десять лет, однажды впал в ярость особенно сильно и швырнул в учительницу математики стул с железными ножками. Швырнул слабо и был слишком юн, поэтому проблем с законом избежал. Став подростком, Гена начал гордиться фактом своего крещения и носить кольцо с надписью «Спаси и сохрани», однако вести себя, как одержимый, не перестал.
Иногда Фишер жалел, что Гена промахнулся, не покалечил учительницу и остался в школе №24. Нелюдимый и сутуловатый Фишер, имеющий склонность к точным наукам, оказался для Гены наиболее уязвимой мишенью. К счастью, здоровье у Фишера тоже было не лучшее, поэтому половину учебного года он проводил дома с бронхитом, а во время летних каникул гулял или в лесу, или во дворах ближайших хрущевок, общаясь с себе подобными. Чувство страха у Фишера было притуплено, поэтому товарищи по играм, осторожные домашние мальчики, считали его отмороженным и немного им восхищались.
Обычно Фишер собирал всех на детской площадке с песочницей, из которой торчал железный грибок, песочницей поменьше, которая когда-то изображала лодку, а теперь, лишившись жестяного паруса, напоминала гроб, и подзуживал приятелей на травмоопасные развлечения. Немного помявшись, ведомые дети делали солнышко на скрипучих качелях, сваренных из прутьев арматуры, прыгали с тех же качелей на расстояние и раскручивались на карусели-центрифуге. Фишер обычно спрыгивал с качелей в самой верхней точке и ни разу не получал железным сиденьем по затылку, а с карусели улетал в кусты последним. Другие ребята разбивали головы, а изредка даже ломали конечности, после чего родители запрещали им водиться с Фишером, который был чужим и среди ботаников, и среди уличной шпаны, занимая неопределенное срединное положение.
Детство до сих пор неразрывно ассоциировалось у Фишера с цветными дугами лестниц, вкопанными в землю деревянными идолами и крутящимся валиком барабана, который нестройно гремел осколками гравия и шуршал песком. Горячая от солнца горка, отполированная до такой степени, что в металле виднелись призрачные отражения детских лиц, окуналась загнутым краем в теплую лужу. Земляной пол деревянного домика, где по ночам развлекались старшаки, пестрел бычками, бутылками и шприцами. Косо наваливалась на пень решетчатая железная сфера с дырой в боку, острый прут которой в один из дней вспорол Фишеру голень, а тот, не отвлекаясь от игры в «казаки-разбойники», взял у одного из мальчиков носовой платок и перевязал им ногу. Платок насквозь промок от крови, и его пришлось выбросить, а на голени остался глубокий белый шрам размером с мизинец.
С началом подросткового возраста туловище Фишера несуразно вытянулось, а на лице проступили прыщи. Он замкнулся, стал больше времени проводить в одиночестве и начал интересоваться физической природой пространства и времени, а затем вернулась тяга к анатомии человека, обретенная еще в раннем детстве – она никуда не исчезала, а просто спала в темном закутке мозга, дожидаясь лучших времен. Гена тем временем терял берега. Он оскорблял Фишера за то, что тот носил очки, обладал крупными зубами и не походил на других, а низкорослый и белобрысый Сеня Скорлупкин тоже не упускал случая поиздеваться над Фишером, потому что приходился Гене лучшим другом. Незаметно для себя Фишер обзавелся фоновой настороженностью: зазевавшись, можно было получить неожиданный щелбан, тычок циркулем в спину или пахнущую мелом тряпку, брошенную в лицо.
Разомкнуть круг насилия не представлялось возможным. Гена и Сеня избивали Фишера, видя в нем жертву, лишенную поддержки извне, учителя замечали синяки, а Фишер честно объяснял их происхождение, после чего снова был бит – на этот раз уже за стукачество. В отместку Фишер стучал на обидчиков по-настоящему. Иногда даже привирал, и взрослые ему верили. Гена же, не скрывая злорадства, стал называть его Стукачом. Спустя четверть Фишер стал отзываться на это прозвище.
Сильным Фишер пока не выглядел, однако был проворным и обещал вырасти в выносливого юношу с цепкими руками. Он любил висеть на турнике, закрывая глаза и представляя, что подвешен в ожидании допроса и никуда не может уйти. Ощущение времени исчезало, а боль в руках переставала доставлять дискомфорт. Высокий болевой порог был одним из преимуществ Фишера наряду с холодностью и умением убедительно лгать. К пятнадцати годам он обзавелся мертвой хваткой. Кроме непривычной пока силы у него имелись знания о болезненных ударах, которые нужно было применить на практике. Весьма занятным выглядело удушение, приводящее к потере сознания, и его тоже нужно было на ком-то отрепетировать.
Как и многие ровесники, курить Фишер начал рано. Лора Генриховна поймала его с поличным, когда он поздней ночью курил на чердаке сарая, ошибочно считая, что она уже спит.
- Кури на крыльце, Енюша, а то спалишь сарай и угоришь в дыму, - строго произнесла Лора Генриховна, остановившись возле лестницы. В слуховом окне чердака мерцали оранжевая точка сигареты и лунные отражения в очках внука, - о том, что курильщики умирают от рака легких, я тебе уже говорила. Виноват в этом будешь только ты. Ясно тебе?
- Мне всё ясно, бабушка, - послушно ответил Фишер и затянулся. Свет полной луны белыми штрихами падал на бетонированную тропинку, ведущую к сараю, дерево калины, возле которого колыхались на ветру венчики укропа, и стареющую Лору Генриховну. Серебрились складки шали, завитки седеющих волос и большие очки в роговой оправе.
Любовь к птицам тоже претерпела трансформацию. Фишер стал чаще бывать в лесу, отлично изучил местность между частным сектором и болотом, а затем случайно набрел на укромное убежище, скрытое от живых глаз. Это были густые заросли шиповника, внутри которых находилась прогалина, усыпанная еловыми иглами. Выпрямившись, Фишер касался макушкой легкого сплетения ветвей, а если он лежал на земле и смотрел наверх, то видел за размытыми листьями шиповника далекий купол неба, к которому тянулись темные разлапистые ели, похожие на шипы земли. В убежище можно было спокойно проводить опыты – Фишера теперь интересовали не столько птицы, сколько их скелеты. Он разводил костерок, кипятил в мятом котелке мертвую птицу, и ощипанная тушка разваривалась до такой степени, что мясо слезало с костей от малейшего прикосновения, а сами кости приобретали пастельно-белый оттенок. Разобранные скелеты Фишер складывал в кульки из мешковины, которые прятал на чердаке сарая.
Иногда его переполняла злоба, и мертвых птиц он не варил, а просто вскрывал, погружая в хрупкую грудку острое лезвие складного ножа. Запуская пальцы в оголенные внутренности, Фишер щупал крохотные птичьи органы, покрытые скользкой пленкой, а затем сдавливал их, нарушая анатомическую целостность. Когда гнев сменялся умиротворением, Фишер укладывался на ковер из еловых игл, пахнущий почвенной влагой, и опускал веки. Медленно засыхала на пальцах вязкая птичья кровь, приятно стягивая кожу, а Фишер тем временем представлял, что это его кровь, что он ранен за невозвращенные бандитам долги и теперь ожидает смерти в лесополосе. Иногда он, сам того не понимая, засыпал и видел сумбурные сны, которые в искаженной форме достраивали внутренний мир его жестоких грез. Просыпаясь, Фишер обнаруживал себя в лесном полумраке, из-за которого мир вокруг казался мрачно-торжественным, словно вот-вот должно было что-то произойти.
Школьная жизнь менялась исключительно в худшую сторону. Оканчивая восьмой класс, Фишер всё чаще испытывал аморфное чувство давления, рождающееся в черепе, но не понимал, как его толковать. Гена стал сильнее и смелее. Первый конфликт, отмеченный близостью фатального, произошел в начале мая. Тяготясь красной повязкой дежурного, которая рдела на рукаве школьного пиджака, пятнадцатилетний Фишер со скучающим видом сидел за последней партой. Теплый ветер надувал пузырем белую штору, золотился за открытым окном школьный стадион, а сбоку от него шуршали листвой зеленовато-белые кроны яблоневого сада. Место Гены пустовало, хотя рюкзак валялся под партой. Сеня вел себя смирно, как это обычно и бывало в отсутствии Гены. Кто-то из хорошистов монотонно бубнил, читая вслух отрывок из поэмы «Василий Теркин».
- Куда подевался Блотнер? – спросила вдруг Ольга Ивановна, молодая учительница литературы, которая попала в школу прямиком из педвуза, а вести у 8 «Д» начала только в прошлой четверти. Она красила волосы в рыжий, плохо разбиралась в людях и никак не могла понять, как именно класс распределен по ступеням иерархии.
- Я его в саду видела, он курил, - произнесла одна из отличниц с неожиданным для неё злорадством.
- Женя, сходи за Блотнером и приведи его в класс, - безразлично сказала Ольга Ивановна, глядя сквозь Фишера. Тот уже давно догадался, что она, избегая прямого взгляда, смотрит ученикам не в глаза, а в центр лба. Дружелюбия ей это не придавало.
- А что сразу я? Почему не Сеня? – промямлил Фишер. В классе сдавленно захихикали, кто-то прыснул в кулак. Всем было ясно, что ничем хорошим просьба учительницы не закончится. Ольга Ивановна снова посмотрела Фишеру в лоб:
- Может быть потому, что ты сегодня дежурный?
Фишер закатил глаза, но возражать не стал. Сунув руки в карманы, он неохотно вышел в коридор с белеными стенами, охряного цвета полом и дырчатым тюлем. Леденцово-желто сверкали солнцем оконные стекла. Фишер задумался. Можно было для виду побродить по пустующим коридорам и пропустить таким образом половину урока, а можно было все-таки отыскать Гену и попытаться ему вломить. На это, конечно, и рассчитывали одноклассники, провожая Фишера заинтересованными смешками, но когда Фишеру хотелось что-то сделать, мнение окружающих волновало его меньше всего.
Яблоневый сад утопал в земле, которая размокла от утреннего ливня и теперь поблескивала зеркальностью луж. За тонкими деревцами виднелись ноги в брюках и ботинках, а верхняя половина туловища скрывалась под дрожащим покровом листьев, на котором пузырились бледные цветы ранета. Оттуда же тянуло сигаретным дымом. Фишер догадывался, что одноклассники наблюдают за ним через окно, но всё равно вошел в темно-зеленый лабиринт сада и, стараясь ступать как можно тише, направился к ногам Гены. Те увеличивались в размерах, брюки обретали темные штрихи складок, неразличимые издалека, на ботинках проступали влажные пятна, оставленные ливневой водой…
- Хули ты тут забыл, Стукач? – раздался вдруг смех с нехорошей хрипотцой. Фишер вздрогнул и рефлекторно замер, будто это могло сделать его невидимым. Окурок устремился к земле и потух, соприкоснувшись с мерцающей поверхностью темной лужи, которую окружала сочная поросль травы.
- Да выходи уже, не ссы, - повторился смешок за вздрагивающим пологом зелени. Фишер поправил квадратные очки, выскользнул из-за молодой яблони и оказался перед Геной, который неспешно закатывал рукава розовой рубашки. Фишер припомнил, что на прошлой неделе Гена шпынял ровесника из другого класса как раз-таки за розовую рубашку и вытекающие из неё, по мнению Гены, гомосексуальные наклонности. Последовательность не была его сильной стороной.
- Я тебе сейчас ебало набью, - процедил сквозь зубы Фишер. Он размашисто ударил, целясь Гене в печень. Тот ловко увернулся, и кулак по касательной задел бок. Проворонив увесистый тычок в живот, Фишер согнулся пополам. Второй тычок пришелся по челюсти, и Фишер рухнул на мокрую землю сада, на колючие стебли травы и стеклянные лужицы. Промокшая форма холодно прилипла к коже, потемнела от сырости красная повязка, лицо покрылось грязной испариной. В голове роились и гудели болезненные образы. Фишер чувствовал щекой водяной холод и видел, как дрыгается в луже отражение его лица. Даль превратилась в изумрудно-серые пятна.
- На зоне таких козлов, как ты, насмерть режут, - прозвучал наверху довольный голос Гены, и пальцы, шарящие по земле в поисках очков, тяжело придавило ботинком.
- Иди на хуй, Блотнер! – прошипел Фишер и услышал себя будто сквозь вату. На онемевшие пальцы больше ничего не давило. В позвоночник жестко уперлось колено, запястья прижало к земле. Над ухом послышался глухой голос Гены, обычно сопровождающий его багровое лицо:
- Попутал, что ли, Стукач? Пиздец тебе…
«Надо было бить со спины», - осознал Фишер свою ошибку. Он рывком высвободил правую руку, однако ладонь Гены тут же плюхнулась ему на затылок. Против своей воли Фишер уткнулся лицом в глубокую лужу, дернулся и машинально втянул носом мутную воду. В дыхательные пути набилась жидкая грязь, отдающая болотной гнилью. На луже выступили пузыри. Фишер кое-как задержал дыхание, перестал вырываться и обмяк. Он надеялся, что Гена потеряет бдительность. Однако возмездие пришло с неожиданной стороны. Зашуршали чьи-то быстрые шаги, ругнулся Гена и раздался хлопок затрещины.
- Ты чем тут занимаешься, потрох? – властно выкрикнула женщина. Фишер выдернул голову из лужи. Он с удивлением узнал резкий голос Алины Емельяновны, учительницы музыки, которую и ученики, и педагоги считали не совсем нормальной. Поговаривали, что она тяжело восприняла смерть первого ребенка и дальнейшее бесплодие, однако школьникам от этого легче не становилось. Фишер до сих пор не мог забыть, как Алина Емельяновна заставляла его встать спиной к классу, а затем в грубых формулировках перечисляла его негативные качества, не забывая при этом лупить указкой по доске прямо над его макушкой. Указка свистела в воздухе, а иногда с хрустом ломалась.
Осознав, что его уже никто не держит, Фишер откашлялся и перевалился на бок. Над ним, заслоняя майское солнце, возвышался черный силуэт Алины Емельяновны. На бледном овале лица выделялась кроваво-красная царапина рта.
- Где мои очки? – мрачно выдавил Фишер, пытаясь представить, насколько нелепо он сейчас выглядит. Черная фигура с красным ртом указала рукой куда-то в траву, обдав Фишера резким ароматом парфюма, и недовольно воскликнула:
- Прямо перед тобой! Ты что, ослеп?
«Сука…» - подумал он, ощупывая землю. Пальцы нырнули в лужу и наткнулись на холодную линзу. Фишер поднялся на ноги, вытер очки подолом рубашки и водрузил их на нос. Черная фигура превратилась в крепко сбитую женщину. Туфли, облепленные травинками, вязли в густой грязи. Подергивало ветром пестрый веер складок на боку длинной черной юбки. К плечу угольной блузки прилип хрупкий яблоневый лепесток, оторвавшийся от цветка. Еще несколько застряли в волнах темных волос. Серо-голубые глаза Алины Емельяновны были холодными, как у вивисектора.
- Вы как тут вообще оказались? – возмущенно спросил Гена, перейдя на приличный язык взрослых. Он стоял на месте и почему-то не решался на побег.
- Не твое дело, малолетняя ты плесень, - отчеканила Алина Емельяновна и отвесила Гене еще одну затрещину, от которой тот чуть не опрокинулся вперед. Фишер неуверенно переступал с ноги на ногу, теребил грязными пальцами край пиджака и впервые за восемь лет смотрел на Алину Емельяновну свежим, непривычным взглядом. Алина Емельяновна игнорировала Фишера, а с Геной разговаривала хладнокровно и ядовито, как мучители из его фантазий. Поймав себя на иррациональном желании поцеловать ей руку, Фишер испугался своего мучительного порыва и понял, что ему лучше уйти. Он крадучись направился к белому, как мел, зданию школы. Алина Емельяновна заметила его маневр, но препятствовать не стала.
Сочтя испачканную форму поводом для прогула, Фишер ушел с последних двух уроков, а заодно и с репетиции школьного концерта, посвященного Дню победы, где он должен был читать стихотворение Твардовского «Я убит подо Ржевом». Темно-оранжевый пазик, похожий на буханку хлеба, приближался к восточной окраине Павлозаводска, а Фишер думал о том, что бить в печень нужно быстро и метко, отвлекая противника ложным ударом.
Три месяца летних каникул, уже не кажущиеся вечностью, промелькнули смазанным кадром и принесли с собой разочарование. Ровесники уже вовсю обсуждали половую сферу и наверняка привирали, но что-то определенно испытывали. Про себя Фишер такого сказать не мог. В ноябре ему должно было стукнуть шестнадцать, после девятого класса он собирался поступить в финансово-экономический колледж, однако сексуальное влечение, которое было обязательным атрибутом взрослой жизни, просыпаться не желало. Фишер пробовал смотреть порнографию, но внутри ничего не ёкало, а потные шевелящиеся люди напоминали заводские механизмы. Он решил временно об этой проблеме забыть, надеясь, что когда-нибудь она решится без его участия.
Начинался последний учебный год, однако Фишер до сих пор оставался морально девственным. Погрузившись в неуклюжую рефлексию, он стал больше курить, и чтобы избегать общей курилки за углом школы, пришлось отыскать укромное место, известное пока только ему одному. Это оказались ветвистые кусты рябины, которые жались друг к другу в затененном углу школьного стадиона. Янтарно-малахитовая толща листьев переваливалась через бетонные плиты белого забора, струилась наружу сквозь его круглые отверстия, и когда солнце находилось в нужной точке неба, в темной пустоте кустов загорались желтые блики с рваными краями. Наливался золотистым мерцанием сухой песок, под которым скрывался суглинок, вспыхивали алмазно-алые гроздья рябиновых ягод, а Фишеру казалось, будто он вновь очутился в эфемерном времени раннего детства, которое неумолимо растворялось во мгле прошлого.
Чтобы его тайну никто не раскрыл, Фишер проникал в заросли рябины, перелезая через забор с внешней стороны. Каждый день он задерживался после уроков и проводил в тайном логове по часу, сидя на своей сумке, покуривая и представляя смутные картины будущего, в которые украдкой просачивались окровавленные ножи, распахнутые в ужасе глаза и сдавленные трахеи. Однако долго так продолжаться не могло. Когда наступило бабье лето, в зыбкий мирок Фишера вторглось жесткое настоящее, которое не собиралось его щадить.
Его посланниками стали Гена и Сеня, оказавшиеся более наблюдательными, чем полагал Фишер. Вязкое волшебство рябинового убежища растаяло в одну из осенних суббот, когда Фишер, мечтая о чем-то пока еще неопределенном, вдруг услышал приближающийся треск. Кто-то молчаливо ломился к нему сквозь хитросплетение кустов. В сумраке, усыпанном брызгами света, закачались тяжелые гроздья ягод. Фишер вскочил на ноги и машинально рванулся в противоположную сторону, совершенно забыв про складной нож, который лежал в кармане брюк.
- Стой, сука! – прокричал ему в спину недостаточно ловкий Сеня. Фишер метнулся через заросли, врезался в Гену, который стоял у него на пути, и растерялся. Сеня наконец настиг Фишера, заломил ему обе руки и поволок назад, в тенистое чрево убежища. Малейший рывок отдавался резкой болью, однако Фишер, шипя сквозь сжатые зубы, то беспомощно скреб ботинками по песку, оставляя в нем кривые борозды, то пытался обмякнуть, чтобы Сеня упал на землю, не выдержав веса его туловища.
- Тише будь, а то кости переломаю, - пообещал Сеня и заломил ему руки еще выше. Фишер потерял способность сопротивляться, он бессильно скалился и тяжело дышал. Его снова окружали темные каскады золотисто-зеленых листьев и раскиданные по ним кляксы полуденного света. Сеня крепко держал Фишера, не давая ему сбежать. Из дебрей рябины вынырнул Гена. Засучив рукава рубашки, он прошел по россыпи свежих окурков и остановился перед побледневшим Фишером.
- Че ты тут делаешь каждый день, Стукач? – дружелюбно спросил Гена, но это дружелюбие граничило с быковатой угрозой. – Птиц разглядываешь?
Фишер дернулся. Руки выкрутило так болезненно, что он простонал и даже сморгнул выступившие слезы. Сеня с невозмутимым видом вернул его на место.
- Куда ломанулся, козел? Че такой борзый? Зубов не жалко? – глумливо ухмыльнулся Гена, растянув длинный рот. Фишер остро сверкал глазами, но сохранял молчание. Вступать в диалог не хотелось, потому что Гена, что бы ему ни говорили, неизменно выводил разговор в нужное ему русло, ловко жонглируя уличными понятиями и своей переменчивой логикой. Ситуация складывалась патовая. Оставалось лишь вытерпеть избиение, а уже потом что-то предпринимать. Фишер не видел ничего постыдного в том, чтобы бить в спину.
- Ты че, страх потерял? – понизил тон Гена, шевельнув ноздрями. Его лицо приобрело вишневый оттенок. – Че припух? Отвечать мне западло?
Фишер брезгливо поморщился и отвернулся, будто перед ним стояло нечто отвратительное, не похожее на человека. Гена ожидаемо рассвирепел. Схватив Фишера за лацкан пиджака, он принялся бить его кулаком по лицу. Боль разливалась под кожей режущим теплом. Фишер стискивал зубы и глухо стонал – он не собирался радовать Гену воплями и, уж тем более, просьбами пожалеть его. Он прерывисто дышал и хлюпал кровью, которая текла из носа. Язык ворочался в окровавленном рту, царапаясь об сколы зубов и улавливая привкус железа. Перед правым глазом маячила размытая трещина, похожая на белесого червя. Голову распирало от непрерывного гула.
Заметив во взгляде Фишера тяжелую муть, Гена успокоился. Сеня разжал хватку и отошел в сторону. Фишер апатично потер затекшие кисти. Красные капли вязко срывались с подбородка и падали то на светлую рубашку, то в золотисто-желтый песок. Гена покривил рот, накапливая слюну, и харкнул Фишеру в испачканное кровью лицо. Плевок пополз по щеке, как пузырящийся слизень. Фишер безучастно молчал и пристально, не мигая, смотрел на Гену сквозь треснувшие очки.
- Если утрешься, я тебе еще раз всеку, - веско произнес Гена. Фишер перевел взгляд на песок, где темнели крапинки его крови, похожие на гнилые ягоды рябины. Мысли кишели монотонным гулом, складывались в неожиданное, новое для Фишера соображение.
Сеня стоял возле забора, опираясь спиной на шероховатую бетонную плиту. Перед собой Фишер видел утомившегося Гену с помидорно-красным лицом и чужой кровью на разжимающихся кулаках. Фишер понял, как надо действовать. Гену, конечно, не стоило побеждать в честной схватке. Его даже исподтишка бить не стоило. Складной нож, который Фишер за ширину клинка прозвал Свинорезом, вполне мог напугать Гену на год вперед.
Получив коленом в пах, Сеня скрючился, обмяк и с воем осел на землю, где свернулся калачиком. Гена заметил левый кулак, приближающийся к его виску, попытался защититься и – пропустил жестокий удар правым кулаком по печени. Он гортанно вскрикнул, согнулся, и Фишер стукнул его по голове. Гена навзничь упал в золотящийся темный песок, смешанный с окурками. Радостно осклабившись, Фишер начал наносить удары ногами. Он попадал то по голове, то по корпусу, а вздрагивающий Гена пытался отползти назад, прикрываясь руками и коленями. Его вытянутое лицо неизбежно расцветало красным.
- Да отъебись ты уже, ебаный псих! – нетвердо выкрикнул Гена. Фишер пнул его с особенной силой, ботинок с хрустом впечатался в лицо, и кровь бисерно брызнула на песок, смешавшись с рябиновыми ягодами. Гена гнусаво замычал, прикрывая ладонью нос.
Фишер вынул из кармана нож и щелчком выбросил наружу заточенное лезвие. Гена изогнулся, как сколопендра, и отполз назад, оставив на суглинке натекшую из носа лужицу крови. Пятно света рассекало её надвое, разделяло на темную и яркую половины. Зачарованный этим зрелищем, Фишер нагнулся и погрузил лезвие в кровь. Пальцы мелко задрожали. Лезвие вспыхнуло металлически-белым и сверкающе-алым. Фишер осоловело моргнул и, облизав лезвие кончиком языка, попробовал кровь Гены на вкус. Она оказалась солоновато-железистой – как и птичья.
Резкий удар по скуле накренил мир набок. Фишер накренился вслед за ним и повалился головой в рябиновые ветви. Окровавленный нож выпал из пальцев и зарылся острием в песок. Перекошенный горизонт размывался. Сеня, который так некстати пришел в себя, помогал Гене встать, однако тот пошатывался, а в перекошенном лице деревянной маской проступал страх.
- Вставай, бля, вставай! – повис в жарком воздухе тягучий возглас Сени. – Он больной, он тебя зарежет нахуй!
Сознание покинуло Фишера, оставив его один на один с тьмой. Сквозь янтарно-малахитовую толщу листьев пробивались палящие солнечные лучи. Наливался золотистым мерцанием горячий песок. Засыхала кровь на припухшем лице Фишера, на разбитой губе, припорошенной теплыми песчинками. Чуть поодаль валялся нож, который Фишер не успел пустить в дело. Пятнышки крови на земле были почти неотличимы от рубиново-красных ягод рябины.
Первым, что Фишер увидел, вернувшись в явь, стало строгое лицо Алины Емельяновны, покрытое тонким слоем пудры. Светлые глаза по-прежнему были холодными, будто избитых в кровь школьников Алина Емельяновна лицезрела каждый день. Фишер моргнул. Алина Емельяновна выпрямилась и резко шагнула назад. Фишер осознал, что его руки вытянуты вдоль туловища, а сам он почему-то лежит на спине, хотя падал на бок. Машинально прикоснувшись к лицу, он совсем не увидел на пальцах кровавых мазков.
- Не говорите никому, пожалуйста, мне срочно надо домой! – скороговоркой выпалил Фишер, вскакивая на ноги. Без утайки подобрав нож, он кое-как отряхнул измятую форму, подобрал сумку и перекинул её через плечо. Алина Емельяновна снисходительно улыбнулась. Застегнув пиджак, чтобы скрыть от чужих взглядов кровь на рубашке, Фишер настороженно покосился на Алину Емельяновну, а затем перелез через забор и покинул территорию школы.
Песчано-бурая тропа рассекала высокую поросль бурьяна, исчезала за углом панельного дома и заканчивалась во дворе с облупившимися турниками, на которых обычно выбивали ковры. Фишер решил выйти к автобусной остановке длинным, но безлюдным путем – сквозь микрорайон, состоящий из пятиэтажек. Панельки походили на спичечные коробки и были непривычно яркими, повторяя цветом выгоревшую на солнце зеленку. Шаркая и поднимая облачка пыли, Фишер побрел в нужном направлении. Голова чуть кружилась, к горлу нерешительно подкатывала тошнота, но в целом состояние было терпимым. Фишер облизнул языком потрескавшиеся губы. На языке осели сухие песчинки. Такие же песчинки скрипели на зубах. Фишер ощупал языком полость рта. Сколоты были всего лишь два моляра.
По Павлозаводску катился темно-оранжевый пазик. Продребезжали за окном голубые трамваи, пути которых сходились перед железнодорожным вокзалом, образуя рельсовый клубок. Панельные многоэтажки сменились грязно-розовыми барачными постройками, а за далеким поворотом показались пестрые, как лоскутное одеяло, крыши частного сектора. Фишер сидел в самом хвосте автобуса, прижимался щекой к поцарапанному оконному стеклу и вслушивался в мерный хруст коробки передач. Сперто пахло запылившейся черной резиной и дерматиновыми сиденьями. Гул в голове стал тихим, как комариный писк, однако всё равно заглушал палитру шумов, которые издавал окружающий мир. В разуме Фишера саднил незримый фурункул.
Фишер с досадой выдохнул и закрыл глаза. Потерял счет времени, а потом очень вовремя их открыл. Шли сплошной чередой разноцветные заборы беленых лачуг, тянулись в небо тополя приближающейся пожарной части, а к зигзагу переулка, который обступали покосившиеся деревянные дома, направлялся удрученный Сеня. Солнце жгло белобрысую макушку его опущенной головы. Сеня ковылял домой и даже не подозревал, что за ним наблюдают. Разжалась невидимая пружина. Фишер метнулся к задней двери. Он намеревался выйти возле пожарной части, на четыре остановки раньше, чем следовало. Он знал, где живет Сеня, и надеялся его нагнать.
- …And through the dark your eyes shine bright, - играла в машине песня группы «The Cure», записанная почти сорок лет назад, - burn like fire, burn like fire in Cairo…
Следователь Юдин застал Фишера врасплох, начав задавать вопросы о колонии. Особенно настораживало упоминание колонийского кума, под которым вполне мог подразумеваться майор Сухарев, однако уточнять Фишер не рискнул - именно майор Сухарев был осведомлен о конфликте, в котором Фишер когда-то увяз сильнее, чем планировал. И Юдин об этом конфликте не должен был узнать ни в коем случае. Тему пришлось срочно менять, и Фишер, выбрав меньшее из зол, решил прямым текстом заговорить об убитой племяннице Нели, руку которой обнаружили недалеко от морга, где он работал. К счастью, мертвая девочка и впрямь оказалась подлинным интересом Юдина. Парадоксальным образом сочетая в себе морального садиста и законопослушного стража порядка, он по инерции потрепал Фишеру нервы и благополучно его отпустил.
День, впрочем, не задался с самого утра. Череда неприятностей началась с лакированного гроба из темной сосны, который погрузили в черную газель «Ленритуала» рабочие похоронной бригады. На белом атласе покоился одутловатый мужчина за пятьдесят, звали его Дмитрий Николаевич Блотнер, и это насторожило Фишера, который в школьные годы был знаком с еще одним Блотнером. Именно его Фишер и увидел, когда из морга вышли ритуальный агент Альбина Максимовна и две женщины в черных платках, несущие по паре живых гвоздик. Сухощавый и чуть смуглый Гена Блотнер, одетый в непромокаемый плащ, покинул морг последним. В руках у него был пышный щитообразный венок, усыпанный искусственными бутонами роз, хризантем и лилий, а по краям венка вилась спираль траурной ленты. Мутным от скорби взглядом Гена скользнул по кудрявой Альбине Максимовне, внутреннему двору морга и наконец заметил Фишера, который сидел за рулем катафалка.
- Мы с другим водителем договаривались, Альбина Максимовна, - нехорошо прищурился Гена, остановившись на полпути к газели.
- Богдан Павлович вчера сломал руку, пришлось срочно искать ему замену, и нашелся только Евгений Петрович, - тоже остановилась Альбина Максимовна, повернувшись к Гене. Скорбь и учтивость смешивались в её тоне с легким раздражением, потому что процессия отставала от графика.
- А кого-нибудь другого можно найти? – настаивал Гена.
Добавив в голос металла, Альбина Максимовна, которая работала в ритуальной сфере уже девять лет, объяснила, что похороны назначены на десять часов утра, а поминки на одиннадцать, и менять водителя уже слишком поздно. Гена поддался её нотациям и немного успокоился. Однако садиться в катафалк отказался и к Жуковскому кладбищу, названному в честь советского маршала, поехал на своей машине, усадив на заднее сиденье обеих женщин. Труп Дмитрия Блотнера остался в компании похоронной бригады.
Похороны были самые обыкновенные. Лакированный гроб стоял на двух табуретках, не вписываясь своей свежестью в кладбищенский пейзаж из гранитных надгробий, ржавеющих оградок и облезлых берез. Скорбящие по очереди поцеловали труп в лоб, а когда гроб опустили в могилу, на его скользкую крышку упали три влажных кома земли. Осталась позади жизнь. Могильщики засыпали гроб черным грунтом и установили поверх деревянный крест. Гена прислонил к кресту траурный венок. Женщины, положив на горбик земли гвоздики, задержались возле свежей могилы и теперь глухо подвывали. Угрюмый Гена курил под ближайшей березой.
Фишер отдыхал за рулем катафалка, припаркованного на обочине аллеи, и тоже курил. Он искоса разглядывал Гену Блотнера, который находился всего в двух метрах от него, и ощущал, как ворочается в кишках застарелая злоба. Фишер помнил Гену долговязым школьником с припадками гнева, во время которых его вытянутое лицо становилось темно-красным от приливающей крови, а крылья длинного носа начинали заметно раздуваться – это выглядело и пугающе, и смешно одновременно. Фишер, которому не посчастливилось быть в свое время одноклассником Гены, прекрасно помнил, как тот, когда ему было десять лет, однажды впал в ярость особенно сильно и швырнул в учительницу математики стул с железными ножками. Швырнул слабо и был слишком юн, поэтому проблем с законом избежал. Став подростком, Гена начал гордиться фактом своего крещения и носить кольцо с надписью «Спаси и сохрани», однако вести себя, как одержимый, не перестал.
Иногда Фишер жалел, что Гена промахнулся, не покалечил учительницу и остался в школе №24. Нелюдимый и сутуловатый Фишер, имеющий склонность к точным наукам, оказался для Гены наиболее уязвимой мишенью. К счастью, здоровье у Фишера тоже было не лучшее, поэтому половину учебного года он проводил дома с бронхитом, а во время летних каникул гулял или в лесу, или во дворах ближайших хрущевок, общаясь с себе подобными. Чувство страха у Фишера было притуплено, поэтому товарищи по играм, осторожные домашние мальчики, считали его отмороженным и немного им восхищались.
Обычно Фишер собирал всех на детской площадке с песочницей, из которой торчал железный грибок, песочницей поменьше, которая когда-то изображала лодку, а теперь, лишившись жестяного паруса, напоминала гроб, и подзуживал приятелей на травмоопасные развлечения. Немного помявшись, ведомые дети делали солнышко на скрипучих качелях, сваренных из прутьев арматуры, прыгали с тех же качелей на расстояние и раскручивались на карусели-центрифуге. Фишер обычно спрыгивал с качелей в самой верхней точке и ни разу не получал железным сиденьем по затылку, а с карусели улетал в кусты последним. Другие ребята разбивали головы, а изредка даже ломали конечности, после чего родители запрещали им водиться с Фишером, который был чужим и среди ботаников, и среди уличной шпаны, занимая неопределенное срединное положение.
Детство до сих пор неразрывно ассоциировалось у Фишера с цветными дугами лестниц, вкопанными в землю деревянными идолами и крутящимся валиком барабана, который нестройно гремел осколками гравия и шуршал песком. Горячая от солнца горка, отполированная до такой степени, что в металле виднелись призрачные отражения детских лиц, окуналась загнутым краем в теплую лужу. Земляной пол деревянного домика, где по ночам развлекались старшаки, пестрел бычками, бутылками и шприцами. Косо наваливалась на пень решетчатая железная сфера с дырой в боку, острый прут которой в один из дней вспорол Фишеру голень, а тот, не отвлекаясь от игры в «казаки-разбойники», взял у одного из мальчиков носовой платок и перевязал им ногу. Платок насквозь промок от крови, и его пришлось выбросить, а на голени остался глубокий белый шрам размером с мизинец.
С началом подросткового возраста туловище Фишера несуразно вытянулось, а на лице проступили прыщи. Он замкнулся, стал больше времени проводить в одиночестве и начал интересоваться физической природой пространства и времени, а затем вернулась тяга к анатомии человека, обретенная еще в раннем детстве – она никуда не исчезала, а просто спала в темном закутке мозга, дожидаясь лучших времен. Гена тем временем терял берега. Он оскорблял Фишера за то, что тот носил очки, обладал крупными зубами и не походил на других, а низкорослый и белобрысый Сеня Скорлупкин тоже не упускал случая поиздеваться над Фишером, потому что приходился Гене лучшим другом. Незаметно для себя Фишер обзавелся фоновой настороженностью: зазевавшись, можно было получить неожиданный щелбан, тычок циркулем в спину или пахнущую мелом тряпку, брошенную в лицо.
Разомкнуть круг насилия не представлялось возможным. Гена и Сеня избивали Фишера, видя в нем жертву, лишенную поддержки извне, учителя замечали синяки, а Фишер честно объяснял их происхождение, после чего снова был бит – на этот раз уже за стукачество. В отместку Фишер стучал на обидчиков по-настоящему. Иногда даже привирал, и взрослые ему верили. Гена же, не скрывая злорадства, стал называть его Стукачом. Спустя четверть Фишер стал отзываться на это прозвище.
Сильным Фишер пока не выглядел, однако был проворным и обещал вырасти в выносливого юношу с цепкими руками. Он любил висеть на турнике, закрывая глаза и представляя, что подвешен в ожидании допроса и никуда не может уйти. Ощущение времени исчезало, а боль в руках переставала доставлять дискомфорт. Высокий болевой порог был одним из преимуществ Фишера наряду с холодностью и умением убедительно лгать. К пятнадцати годам он обзавелся мертвой хваткой. Кроме непривычной пока силы у него имелись знания о болезненных ударах, которые нужно было применить на практике. Весьма занятным выглядело удушение, приводящее к потере сознания, и его тоже нужно было на ком-то отрепетировать.
Как и многие ровесники, курить Фишер начал рано. Лора Генриховна поймала его с поличным, когда он поздней ночью курил на чердаке сарая, ошибочно считая, что она уже спит.
- Кури на крыльце, Енюша, а то спалишь сарай и угоришь в дыму, - строго произнесла Лора Генриховна, остановившись возле лестницы. В слуховом окне чердака мерцали оранжевая точка сигареты и лунные отражения в очках внука, - о том, что курильщики умирают от рака легких, я тебе уже говорила. Виноват в этом будешь только ты. Ясно тебе?
- Мне всё ясно, бабушка, - послушно ответил Фишер и затянулся. Свет полной луны белыми штрихами падал на бетонированную тропинку, ведущую к сараю, дерево калины, возле которого колыхались на ветру венчики укропа, и стареющую Лору Генриховну. Серебрились складки шали, завитки седеющих волос и большие очки в роговой оправе.
Любовь к птицам тоже претерпела трансформацию. Фишер стал чаще бывать в лесу, отлично изучил местность между частным сектором и болотом, а затем случайно набрел на укромное убежище, скрытое от живых глаз. Это были густые заросли шиповника, внутри которых находилась прогалина, усыпанная еловыми иглами. Выпрямившись, Фишер касался макушкой легкого сплетения ветвей, а если он лежал на земле и смотрел наверх, то видел за размытыми листьями шиповника далекий купол неба, к которому тянулись темные разлапистые ели, похожие на шипы земли. В убежище можно было спокойно проводить опыты – Фишера теперь интересовали не столько птицы, сколько их скелеты. Он разводил костерок, кипятил в мятом котелке мертвую птицу, и ощипанная тушка разваривалась до такой степени, что мясо слезало с костей от малейшего прикосновения, а сами кости приобретали пастельно-белый оттенок. Разобранные скелеты Фишер складывал в кульки из мешковины, которые прятал на чердаке сарая.
Иногда его переполняла злоба, и мертвых птиц он не варил, а просто вскрывал, погружая в хрупкую грудку острое лезвие складного ножа. Запуская пальцы в оголенные внутренности, Фишер щупал крохотные птичьи органы, покрытые скользкой пленкой, а затем сдавливал их, нарушая анатомическую целостность. Когда гнев сменялся умиротворением, Фишер укладывался на ковер из еловых игл, пахнущий почвенной влагой, и опускал веки. Медленно засыхала на пальцах вязкая птичья кровь, приятно стягивая кожу, а Фишер тем временем представлял, что это его кровь, что он ранен за невозвращенные бандитам долги и теперь ожидает смерти в лесополосе. Иногда он, сам того не понимая, засыпал и видел сумбурные сны, которые в искаженной форме достраивали внутренний мир его жестоких грез. Просыпаясь, Фишер обнаруживал себя в лесном полумраке, из-за которого мир вокруг казался мрачно-торжественным, словно вот-вот должно было что-то произойти.
Школьная жизнь менялась исключительно в худшую сторону. Оканчивая восьмой класс, Фишер всё чаще испытывал аморфное чувство давления, рождающееся в черепе, но не понимал, как его толковать. Гена стал сильнее и смелее. Первый конфликт, отмеченный близостью фатального, произошел в начале мая. Тяготясь красной повязкой дежурного, которая рдела на рукаве школьного пиджака, пятнадцатилетний Фишер со скучающим видом сидел за последней партой. Теплый ветер надувал пузырем белую штору, золотился за открытым окном школьный стадион, а сбоку от него шуршали листвой зеленовато-белые кроны яблоневого сада. Место Гены пустовало, хотя рюкзак валялся под партой. Сеня вел себя смирно, как это обычно и бывало в отсутствии Гены. Кто-то из хорошистов монотонно бубнил, читая вслух отрывок из поэмы «Василий Теркин».
- Куда подевался Блотнер? – спросила вдруг Ольга Ивановна, молодая учительница литературы, которая попала в школу прямиком из педвуза, а вести у 8 «Д» начала только в прошлой четверти. Она красила волосы в рыжий, плохо разбиралась в людях и никак не могла понять, как именно класс распределен по ступеням иерархии.
- Я его в саду видела, он курил, - произнесла одна из отличниц с неожиданным для неё злорадством.
- Женя, сходи за Блотнером и приведи его в класс, - безразлично сказала Ольга Ивановна, глядя сквозь Фишера. Тот уже давно догадался, что она, избегая прямого взгляда, смотрит ученикам не в глаза, а в центр лба. Дружелюбия ей это не придавало.
- А что сразу я? Почему не Сеня? – промямлил Фишер. В классе сдавленно захихикали, кто-то прыснул в кулак. Всем было ясно, что ничем хорошим просьба учительницы не закончится. Ольга Ивановна снова посмотрела Фишеру в лоб:
- Может быть потому, что ты сегодня дежурный?
Фишер закатил глаза, но возражать не стал. Сунув руки в карманы, он неохотно вышел в коридор с белеными стенами, охряного цвета полом и дырчатым тюлем. Леденцово-желто сверкали солнцем оконные стекла. Фишер задумался. Можно было для виду побродить по пустующим коридорам и пропустить таким образом половину урока, а можно было все-таки отыскать Гену и попытаться ему вломить. На это, конечно, и рассчитывали одноклассники, провожая Фишера заинтересованными смешками, но когда Фишеру хотелось что-то сделать, мнение окружающих волновало его меньше всего.
Яблоневый сад утопал в земле, которая размокла от утреннего ливня и теперь поблескивала зеркальностью луж. За тонкими деревцами виднелись ноги в брюках и ботинках, а верхняя половина туловища скрывалась под дрожащим покровом листьев, на котором пузырились бледные цветы ранета. Оттуда же тянуло сигаретным дымом. Фишер догадывался, что одноклассники наблюдают за ним через окно, но всё равно вошел в темно-зеленый лабиринт сада и, стараясь ступать как можно тише, направился к ногам Гены. Те увеличивались в размерах, брюки обретали темные штрихи складок, неразличимые издалека, на ботинках проступали влажные пятна, оставленные ливневой водой…
- Хули ты тут забыл, Стукач? – раздался вдруг смех с нехорошей хрипотцой. Фишер вздрогнул и рефлекторно замер, будто это могло сделать его невидимым. Окурок устремился к земле и потух, соприкоснувшись с мерцающей поверхностью темной лужи, которую окружала сочная поросль травы.
- Да выходи уже, не ссы, - повторился смешок за вздрагивающим пологом зелени. Фишер поправил квадратные очки, выскользнул из-за молодой яблони и оказался перед Геной, который неспешно закатывал рукава розовой рубашки. Фишер припомнил, что на прошлой неделе Гена шпынял ровесника из другого класса как раз-таки за розовую рубашку и вытекающие из неё, по мнению Гены, гомосексуальные наклонности. Последовательность не была его сильной стороной.
- Я тебе сейчас ебало набью, - процедил сквозь зубы Фишер. Он размашисто ударил, целясь Гене в печень. Тот ловко увернулся, и кулак по касательной задел бок. Проворонив увесистый тычок в живот, Фишер согнулся пополам. Второй тычок пришелся по челюсти, и Фишер рухнул на мокрую землю сада, на колючие стебли травы и стеклянные лужицы. Промокшая форма холодно прилипла к коже, потемнела от сырости красная повязка, лицо покрылось грязной испариной. В голове роились и гудели болезненные образы. Фишер чувствовал щекой водяной холод и видел, как дрыгается в луже отражение его лица. Даль превратилась в изумрудно-серые пятна.
- На зоне таких козлов, как ты, насмерть режут, - прозвучал наверху довольный голос Гены, и пальцы, шарящие по земле в поисках очков, тяжело придавило ботинком.
- Иди на хуй, Блотнер! – прошипел Фишер и услышал себя будто сквозь вату. На онемевшие пальцы больше ничего не давило. В позвоночник жестко уперлось колено, запястья прижало к земле. Над ухом послышался глухой голос Гены, обычно сопровождающий его багровое лицо:
- Попутал, что ли, Стукач? Пиздец тебе…
«Надо было бить со спины», - осознал Фишер свою ошибку. Он рывком высвободил правую руку, однако ладонь Гены тут же плюхнулась ему на затылок. Против своей воли Фишер уткнулся лицом в глубокую лужу, дернулся и машинально втянул носом мутную воду. В дыхательные пути набилась жидкая грязь, отдающая болотной гнилью. На луже выступили пузыри. Фишер кое-как задержал дыхание, перестал вырываться и обмяк. Он надеялся, что Гена потеряет бдительность. Однако возмездие пришло с неожиданной стороны. Зашуршали чьи-то быстрые шаги, ругнулся Гена и раздался хлопок затрещины.
- Ты чем тут занимаешься, потрох? – властно выкрикнула женщина. Фишер выдернул голову из лужи. Он с удивлением узнал резкий голос Алины Емельяновны, учительницы музыки, которую и ученики, и педагоги считали не совсем нормальной. Поговаривали, что она тяжело восприняла смерть первого ребенка и дальнейшее бесплодие, однако школьникам от этого легче не становилось. Фишер до сих пор не мог забыть, как Алина Емельяновна заставляла его встать спиной к классу, а затем в грубых формулировках перечисляла его негативные качества, не забывая при этом лупить указкой по доске прямо над его макушкой. Указка свистела в воздухе, а иногда с хрустом ломалась.
Осознав, что его уже никто не держит, Фишер откашлялся и перевалился на бок. Над ним, заслоняя майское солнце, возвышался черный силуэт Алины Емельяновны. На бледном овале лица выделялась кроваво-красная царапина рта.
- Где мои очки? – мрачно выдавил Фишер, пытаясь представить, насколько нелепо он сейчас выглядит. Черная фигура с красным ртом указала рукой куда-то в траву, обдав Фишера резким ароматом парфюма, и недовольно воскликнула:
- Прямо перед тобой! Ты что, ослеп?
«Сука…» - подумал он, ощупывая землю. Пальцы нырнули в лужу и наткнулись на холодную линзу. Фишер поднялся на ноги, вытер очки подолом рубашки и водрузил их на нос. Черная фигура превратилась в крепко сбитую женщину. Туфли, облепленные травинками, вязли в густой грязи. Подергивало ветром пестрый веер складок на боку длинной черной юбки. К плечу угольной блузки прилип хрупкий яблоневый лепесток, оторвавшийся от цветка. Еще несколько застряли в волнах темных волос. Серо-голубые глаза Алины Емельяновны были холодными, как у вивисектора.
- Вы как тут вообще оказались? – возмущенно спросил Гена, перейдя на приличный язык взрослых. Он стоял на месте и почему-то не решался на побег.
- Не твое дело, малолетняя ты плесень, - отчеканила Алина Емельяновна и отвесила Гене еще одну затрещину, от которой тот чуть не опрокинулся вперед. Фишер неуверенно переступал с ноги на ногу, теребил грязными пальцами край пиджака и впервые за восемь лет смотрел на Алину Емельяновну свежим, непривычным взглядом. Алина Емельяновна игнорировала Фишера, а с Геной разговаривала хладнокровно и ядовито, как мучители из его фантазий. Поймав себя на иррациональном желании поцеловать ей руку, Фишер испугался своего мучительного порыва и понял, что ему лучше уйти. Он крадучись направился к белому, как мел, зданию школы. Алина Емельяновна заметила его маневр, но препятствовать не стала.
Сочтя испачканную форму поводом для прогула, Фишер ушел с последних двух уроков, а заодно и с репетиции школьного концерта, посвященного Дню победы, где он должен был читать стихотворение Твардовского «Я убит подо Ржевом». Темно-оранжевый пазик, похожий на буханку хлеба, приближался к восточной окраине Павлозаводска, а Фишер думал о том, что бить в печень нужно быстро и метко, отвлекая противника ложным ударом.
Три месяца летних каникул, уже не кажущиеся вечностью, промелькнули смазанным кадром и принесли с собой разочарование. Ровесники уже вовсю обсуждали половую сферу и наверняка привирали, но что-то определенно испытывали. Про себя Фишер такого сказать не мог. В ноябре ему должно было стукнуть шестнадцать, после девятого класса он собирался поступить в финансово-экономический колледж, однако сексуальное влечение, которое было обязательным атрибутом взрослой жизни, просыпаться не желало. Фишер пробовал смотреть порнографию, но внутри ничего не ёкало, а потные шевелящиеся люди напоминали заводские механизмы. Он решил временно об этой проблеме забыть, надеясь, что когда-нибудь она решится без его участия.
Начинался последний учебный год, однако Фишер до сих пор оставался морально девственным. Погрузившись в неуклюжую рефлексию, он стал больше курить, и чтобы избегать общей курилки за углом школы, пришлось отыскать укромное место, известное пока только ему одному. Это оказались ветвистые кусты рябины, которые жались друг к другу в затененном углу школьного стадиона. Янтарно-малахитовая толща листьев переваливалась через бетонные плиты белого забора, струилась наружу сквозь его круглые отверстия, и когда солнце находилось в нужной точке неба, в темной пустоте кустов загорались желтые блики с рваными краями. Наливался золотистым мерцанием сухой песок, под которым скрывался суглинок, вспыхивали алмазно-алые гроздья рябиновых ягод, а Фишеру казалось, будто он вновь очутился в эфемерном времени раннего детства, которое неумолимо растворялось во мгле прошлого.
Чтобы его тайну никто не раскрыл, Фишер проникал в заросли рябины, перелезая через забор с внешней стороны. Каждый день он задерживался после уроков и проводил в тайном логове по часу, сидя на своей сумке, покуривая и представляя смутные картины будущего, в которые украдкой просачивались окровавленные ножи, распахнутые в ужасе глаза и сдавленные трахеи. Однако долго так продолжаться не могло. Когда наступило бабье лето, в зыбкий мирок Фишера вторглось жесткое настоящее, которое не собиралось его щадить.
Его посланниками стали Гена и Сеня, оказавшиеся более наблюдательными, чем полагал Фишер. Вязкое волшебство рябинового убежища растаяло в одну из осенних суббот, когда Фишер, мечтая о чем-то пока еще неопределенном, вдруг услышал приближающийся треск. Кто-то молчаливо ломился к нему сквозь хитросплетение кустов. В сумраке, усыпанном брызгами света, закачались тяжелые гроздья ягод. Фишер вскочил на ноги и машинально рванулся в противоположную сторону, совершенно забыв про складной нож, который лежал в кармане брюк.
- Стой, сука! – прокричал ему в спину недостаточно ловкий Сеня. Фишер метнулся через заросли, врезался в Гену, который стоял у него на пути, и растерялся. Сеня наконец настиг Фишера, заломил ему обе руки и поволок назад, в тенистое чрево убежища. Малейший рывок отдавался резкой болью, однако Фишер, шипя сквозь сжатые зубы, то беспомощно скреб ботинками по песку, оставляя в нем кривые борозды, то пытался обмякнуть, чтобы Сеня упал на землю, не выдержав веса его туловища.
- Тише будь, а то кости переломаю, - пообещал Сеня и заломил ему руки еще выше. Фишер потерял способность сопротивляться, он бессильно скалился и тяжело дышал. Его снова окружали темные каскады золотисто-зеленых листьев и раскиданные по ним кляксы полуденного света. Сеня крепко держал Фишера, не давая ему сбежать. Из дебрей рябины вынырнул Гена. Засучив рукава рубашки, он прошел по россыпи свежих окурков и остановился перед побледневшим Фишером.
- Че ты тут делаешь каждый день, Стукач? – дружелюбно спросил Гена, но это дружелюбие граничило с быковатой угрозой. – Птиц разглядываешь?
Фишер дернулся. Руки выкрутило так болезненно, что он простонал и даже сморгнул выступившие слезы. Сеня с невозмутимым видом вернул его на место.
- Куда ломанулся, козел? Че такой борзый? Зубов не жалко? – глумливо ухмыльнулся Гена, растянув длинный рот. Фишер остро сверкал глазами, но сохранял молчание. Вступать в диалог не хотелось, потому что Гена, что бы ему ни говорили, неизменно выводил разговор в нужное ему русло, ловко жонглируя уличными понятиями и своей переменчивой логикой. Ситуация складывалась патовая. Оставалось лишь вытерпеть избиение, а уже потом что-то предпринимать. Фишер не видел ничего постыдного в том, чтобы бить в спину.
- Ты че, страх потерял? – понизил тон Гена, шевельнув ноздрями. Его лицо приобрело вишневый оттенок. – Че припух? Отвечать мне западло?
Фишер брезгливо поморщился и отвернулся, будто перед ним стояло нечто отвратительное, не похожее на человека. Гена ожидаемо рассвирепел. Схватив Фишера за лацкан пиджака, он принялся бить его кулаком по лицу. Боль разливалась под кожей режущим теплом. Фишер стискивал зубы и глухо стонал – он не собирался радовать Гену воплями и, уж тем более, просьбами пожалеть его. Он прерывисто дышал и хлюпал кровью, которая текла из носа. Язык ворочался в окровавленном рту, царапаясь об сколы зубов и улавливая привкус железа. Перед правым глазом маячила размытая трещина, похожая на белесого червя. Голову распирало от непрерывного гула.
Заметив во взгляде Фишера тяжелую муть, Гена успокоился. Сеня разжал хватку и отошел в сторону. Фишер апатично потер затекшие кисти. Красные капли вязко срывались с подбородка и падали то на светлую рубашку, то в золотисто-желтый песок. Гена покривил рот, накапливая слюну, и харкнул Фишеру в испачканное кровью лицо. Плевок пополз по щеке, как пузырящийся слизень. Фишер безучастно молчал и пристально, не мигая, смотрел на Гену сквозь треснувшие очки.
- Если утрешься, я тебе еще раз всеку, - веско произнес Гена. Фишер перевел взгляд на песок, где темнели крапинки его крови, похожие на гнилые ягоды рябины. Мысли кишели монотонным гулом, складывались в неожиданное, новое для Фишера соображение.
Сеня стоял возле забора, опираясь спиной на шероховатую бетонную плиту. Перед собой Фишер видел утомившегося Гену с помидорно-красным лицом и чужой кровью на разжимающихся кулаках. Фишер понял, как надо действовать. Гену, конечно, не стоило побеждать в честной схватке. Его даже исподтишка бить не стоило. Складной нож, который Фишер за ширину клинка прозвал Свинорезом, вполне мог напугать Гену на год вперед.
Получив коленом в пах, Сеня скрючился, обмяк и с воем осел на землю, где свернулся калачиком. Гена заметил левый кулак, приближающийся к его виску, попытался защититься и – пропустил жестокий удар правым кулаком по печени. Он гортанно вскрикнул, согнулся, и Фишер стукнул его по голове. Гена навзничь упал в золотящийся темный песок, смешанный с окурками. Радостно осклабившись, Фишер начал наносить удары ногами. Он попадал то по голове, то по корпусу, а вздрагивающий Гена пытался отползти назад, прикрываясь руками и коленями. Его вытянутое лицо неизбежно расцветало красным.
- Да отъебись ты уже, ебаный псих! – нетвердо выкрикнул Гена. Фишер пнул его с особенной силой, ботинок с хрустом впечатался в лицо, и кровь бисерно брызнула на песок, смешавшись с рябиновыми ягодами. Гена гнусаво замычал, прикрывая ладонью нос.
Фишер вынул из кармана нож и щелчком выбросил наружу заточенное лезвие. Гена изогнулся, как сколопендра, и отполз назад, оставив на суглинке натекшую из носа лужицу крови. Пятно света рассекало её надвое, разделяло на темную и яркую половины. Зачарованный этим зрелищем, Фишер нагнулся и погрузил лезвие в кровь. Пальцы мелко задрожали. Лезвие вспыхнуло металлически-белым и сверкающе-алым. Фишер осоловело моргнул и, облизав лезвие кончиком языка, попробовал кровь Гены на вкус. Она оказалась солоновато-железистой – как и птичья.
Резкий удар по скуле накренил мир набок. Фишер накренился вслед за ним и повалился головой в рябиновые ветви. Окровавленный нож выпал из пальцев и зарылся острием в песок. Перекошенный горизонт размывался. Сеня, который так некстати пришел в себя, помогал Гене встать, однако тот пошатывался, а в перекошенном лице деревянной маской проступал страх.
- Вставай, бля, вставай! – повис в жарком воздухе тягучий возглас Сени. – Он больной, он тебя зарежет нахуй!
Сознание покинуло Фишера, оставив его один на один с тьмой. Сквозь янтарно-малахитовую толщу листьев пробивались палящие солнечные лучи. Наливался золотистым мерцанием горячий песок. Засыхала кровь на припухшем лице Фишера, на разбитой губе, припорошенной теплыми песчинками. Чуть поодаль валялся нож, который Фишер не успел пустить в дело. Пятнышки крови на земле были почти неотличимы от рубиново-красных ягод рябины.
Первым, что Фишер увидел, вернувшись в явь, стало строгое лицо Алины Емельяновны, покрытое тонким слоем пудры. Светлые глаза по-прежнему были холодными, будто избитых в кровь школьников Алина Емельяновна лицезрела каждый день. Фишер моргнул. Алина Емельяновна выпрямилась и резко шагнула назад. Фишер осознал, что его руки вытянуты вдоль туловища, а сам он почему-то лежит на спине, хотя падал на бок. Машинально прикоснувшись к лицу, он совсем не увидел на пальцах кровавых мазков.
- Не говорите никому, пожалуйста, мне срочно надо домой! – скороговоркой выпалил Фишер, вскакивая на ноги. Без утайки подобрав нож, он кое-как отряхнул измятую форму, подобрал сумку и перекинул её через плечо. Алина Емельяновна снисходительно улыбнулась. Застегнув пиджак, чтобы скрыть от чужих взглядов кровь на рубашке, Фишер настороженно покосился на Алину Емельяновну, а затем перелез через забор и покинул территорию школы.
Песчано-бурая тропа рассекала высокую поросль бурьяна, исчезала за углом панельного дома и заканчивалась во дворе с облупившимися турниками, на которых обычно выбивали ковры. Фишер решил выйти к автобусной остановке длинным, но безлюдным путем – сквозь микрорайон, состоящий из пятиэтажек. Панельки походили на спичечные коробки и были непривычно яркими, повторяя цветом выгоревшую на солнце зеленку. Шаркая и поднимая облачка пыли, Фишер побрел в нужном направлении. Голова чуть кружилась, к горлу нерешительно подкатывала тошнота, но в целом состояние было терпимым. Фишер облизнул языком потрескавшиеся губы. На языке осели сухие песчинки. Такие же песчинки скрипели на зубах. Фишер ощупал языком полость рта. Сколоты были всего лишь два моляра.
По Павлозаводску катился темно-оранжевый пазик. Продребезжали за окном голубые трамваи, пути которых сходились перед железнодорожным вокзалом, образуя рельсовый клубок. Панельные многоэтажки сменились грязно-розовыми барачными постройками, а за далеким поворотом показались пестрые, как лоскутное одеяло, крыши частного сектора. Фишер сидел в самом хвосте автобуса, прижимался щекой к поцарапанному оконному стеклу и вслушивался в мерный хруст коробки передач. Сперто пахло запылившейся черной резиной и дерматиновыми сиденьями. Гул в голове стал тихим, как комариный писк, однако всё равно заглушал палитру шумов, которые издавал окружающий мир. В разуме Фишера саднил незримый фурункул.
Фишер с досадой выдохнул и закрыл глаза. Потерял счет времени, а потом очень вовремя их открыл. Шли сплошной чередой разноцветные заборы беленых лачуг, тянулись в небо тополя приближающейся пожарной части, а к зигзагу переулка, который обступали покосившиеся деревянные дома, направлялся удрученный Сеня. Солнце жгло белобрысую макушку его опущенной головы. Сеня ковылял домой и даже не подозревал, что за ним наблюдают. Разжалась невидимая пружина. Фишер метнулся к задней двери. Он намеревался выйти возле пожарной части, на четыре остановки раньше, чем следовало. Он знал, где живет Сеня, и надеялся его нагнать.
Когда двери гармошкой разошлись в стороны, Фишер выскочил из пазика и оказался перед бетонной остановкой, за которой начинались бледно-рыжие двухэтажные бараки. Сеня уже скрылся за поворотом, однако Фишер хорошо знал местность и направился по кратчайшему пути: проворно миновал барачные дворики, где в беспорядке сушилось на веревках белье, и нырнул в тесный закоулок, который вывел его на нужную линию. Издалека было видно, что Сеня сидит на корточках возле тускло-голубой гаражной двери и мусолит сигарету. Фишер мимолетом вспомнил, что нечто подобное когда-то давно уже происходило, но не успел толком понять, что именно всплыло в его памяти. Внутренний зверь, опережая мысли, заставил его скрыться в полумраке душистых палисадников.
Сеня заметил подкравшегося Фишера слишком поздно. Он успел лишь вскочить и отбросить окурок в сторону фонарного столба, однако тяжелый удар по печени сразу же повалил Сеню набок. Уже знакомый с механикой садизма, Фишер скалил зубы и избивал Сеню ногами, марая кровью школьные ботинки, а тот вскрикивал и катался по жестким росткам молочая, выдавливая из них молочно-белый сок.
- Завязывай, тварь рогатая! – плаксиво выкрикнул Сеня, улучив момент между пинками. Оскорбление немного отрезвило Фишера. Поняв, что его больше не бьют, Сеня нетвердо встал на ноги. Школьная форма покрылась пылью, а на лице кровоточили ссадины. Сеня часто дышал и закусывал треснувшую губу, на которой мерцала рубиновая капля...
- И что ты сделаешь, если я не перестану? Мусорнешься[25]? – спросил Фишер, теряя голову. Он ударил Сеню в челюсть, и того отбросило назад. Сеня стукнулся затылком об гаражную дверь, вскрикнул и вновь повалился в заросли раздавленного молочая. На тускло-голубом фоне темнела багровая клякса, от которой тянулся вниз длинный след, похожий на мазок малярной кисти.
[25] обратиться в полицию
У Фишера помутилось в глазах. Сердце неистово заколотилось под ребрами, крупно затряслись пальцы, а солнечное сплетение набухло тягостным сплавом из страха, злобы и радости. Сеня неуклюже пытался подняться. Фишер резко развернулся на месте и устремился прочь. Он испугался наплыва чувств, не поддающихся толкованию.
Пробежав сквозь тенистые пещеры барачных дворов, Фишер сбавил скорость и перешел на шаг. Тянулась вперед широкая линия, ведущая к дому. Патока солнечных лучей омывала пыльную дорогу, вдоль которой взблескивали окнами беленые хибарки. Напротив продуктового магазина цвела в клумбе, сделанной из автомобильной шины, оранжевая охапка календулы. В кленовой тени пряталась облупившаяся чугунная колонка, окруженная хребтами мокрой почвы и неподвижными лужами. Двор грязно-зеленого приватизированного общежития кишел чумазыми детьми. Из зарешеченных окон наркологического диспансера выглядывали курящие пациенты. Сухой воздух подрагивал, придавая миру смутную ирреальность.
Оказавшись дома, Фишер плюхнулся на крыльцо, где стояла консервная банка из-под шпрот в масле, служившая ему пепельницей. На запах дыма пришла с огорода Лора Генриховна. Выгоревший спортивный костюм и старая плетеная шляпа с пластмассовым подсолнухом прибавляли ей десяток лет и подчеркивали морщины на бледном лице. Заметив умиротворенное лицо внука, покрытое красноватыми синяками, разбитую губу и поврежденные очки, Лора Генриховна побледнела еще сильнее, сжала рот в нитку и гневно сверкнула близорукими глазами.
- Эти шпанюки опять тебя побили? – спросила она. Фишер молча кивнул.
- Кажется, пора тебе забыть про мои советы и все-таки начать нормально драться.
- А я так и сделал, бабуль, - спокойно произнес он. Лора Генриховна нахмурилась. Она стала догадываться, что означает это сытое довольство, обычно несвойственное флегматичному Енюше. Подсев к внуку, Лора Генриховна заглянула ему в глаза и доверительно приказала:
- Изложи мне все подробности. Я должна знать правду, чтобы решить проблемы, если они вдруг возникнут.
Фишер не удивился формулировке. Он знал, что Лора Генриховна ценит его самого, а не его поступки, поэтому пересказал ситуацию как можно точнее, умолчав лишь о том, что он пробовал кровь Гены: об этом Лоре Генриховне не стоило знать, как и об экспериментах над мертвыми птицами. Упоминание ножа Лора Генриховна восприняла нейтрально, но оживилась, когда внук заговорил про странное ощущение, возникшее при виде крови на гаражной двери. Фишер надеялся, что Лора Генриховна сможет объяснить подоплеку этого чувства, но она приложила к вискам варикозные ладони и задумалась. Собравшись наконец с мыслями, она заговорила:
- Знаешь, Енюша, я даже не удивлена. Воспитание не всегда сглаживает врожденные… черты характера. Твоя мать была к тебе равнодушна, хотя какое-то время прикидывалась ответственной. Она заботилась о тебе, чтобы действовать на нервы твоему отцу. Он, кстати, тоже был не подарок и выходил из себя по любому поводу, а его дед при оккупации вообще был полицаем. За это его и расстреляли.
Фишер вскинул брови. Лора Генриховна никогда не говорила с ним о семейном древе, и своих предков Фишер представлял очень смутно, видя на их месте абстрактных рабочих и крестьян советской страны. Кого он среди них не видел, так это полицаев. Новость не пугала, но удивляла.
- Лет пятнадцать назад, когда всё только начиналось, я не совсем честно работала с недвижимостью. Пока государство не решило, что теперь это его прерогатива, - продолжила Лора Генриховна, вскинув подбородок, - и вот я вижу, что ты унаследовал от нас всё лучшее, и у тебя, кажется, большой потенциал. Из тебя получится успешный финансист, если постараешься.
- А от дедушки я что-нибудь унаследовал? – поинтересовался Фишер. Он даже забыл про сигарету, которая дымилась у него перед лицом. Лора Генриховна усмехнулась:
- Ничего. Эмик был абсолютно нормальным.
Ближе к вечеру позвонил отец Скорлупкина и пообещал отправить Фишера в колонию для малолеток. С долей угрозы Лора Генриховна рассказала ему о многолетней предыстории конфликта и своих юридических знакомствах. Скорлупкин-старший сбавил обороты. Лора Генриховна договорилась, что они не будут выносить сор из избы, съездила в травматологию, где Сене накладывали швы, и возместила ущерб финансово. Блотнеры так и не позвонили: видимо, их сын частенько попадал в передряги, и они уже не реагировали на это с должной остротой.
Придя на следующий день в школу, Фишер с удивлением понял, что взрослые о драке ничего не знают. Кажется, Алина Емельяновна и впрямь выполнила его просьбу. С её стороны это было крайне неожиданно, но в образ сумасшедшей, в общем-то, вписывалось. Вопросы возникли лишь у классной руководительницы, которая заметила побитые лица, однако Гена и Фишер, проявляя удивительную солидарность, настаивали на безопасной для всех версии: «Зашел не в тот район, хотели отжать сотовый. Имен не знаю, лиц не помню». Сеня вернулся в школу спустя неделю – с волосами, выстриженными на затылке небольшим кружком, и зашитой раной, которую родители густо мазали зеленкой. Фишеру поставили новые зубы, однако лишился он их не зря, приобретя взамен нездоровый внутренний стержень. Фишер то ли возмужал, то ли озлобился. Он понял, что может играючи причинять боль и даже получать от этого моральное удовлетворение.
В декабре, когда Фишеру было уже шестнадцать, дало о себе знать половое влечение. Эволюционный механизм, поколение за поколением принуждающий человеческих особей размножаться, запустился вхолостую, а источником возбуждения стал лишенный эротики хоррор, в котором до ужаса напуганному студенту колледжа склеили губы суперклеем и оторвали кусачками мизинец. Последнюю манипуляцию продемонстрировали крупным планом, сделав акцент на подергивающемся обрубке, из которого вязко текла темно-бурая кровь. Представив на месте жертвы себя, Фишер инстинктивно сделал то, чем уже давно хвастались ровесники. Фишер осознал, что однажды уже испытывал бледный отзвук возбуждения - в тот солнечный сентябрьский день, когда он разбил Сене затылок об гаражную дверь. Наконец-то нашелся подходящий паттерн: он включал в себя кровь и реалистичный ужас, а наличие секса было второстепенным. Однако Фишера всё же радовало, что он нормальный юноша с естественными для его возраста желаниями – какие бы триггеры для них ни требовались.
Финансово-экономический колледж, где Фишер три года учился на финансиста, размещался в здании бывшего горкома партии. Над крыльцом нависал серовато-зеленый барельеф, изображающий космонавта в открытом космосе, которого окружали стрельчатые звезды, и каждое утро под слепком ретрофутуризма проходил поток будущих банкиров, коммерсантов и специалистов по рекламе. С ровесниками Фишер на этот раз сошелся хорошо. Он окончательно окреп, стал недурно выглядеть и научился производить на людей приятное впечатление: нужно было всего лишь интересоваться делами знакомых, имитировать участие, а изредка помогать им по-настоящему. Укрепляя имидж очерствевшего, но всё же альтруиста, Фишер подавал милостыню попрошайкам – если рядом находились объекты, которых следовало к себе расположить. Особенно он сдружился с товарищами по специальности, которые научили его игре в покер. Они отмечали, что Фишер хорошо просчитывает ходы и уверенно блефует, не проявляя при этом никаких эмоций.
С женщинами Фишер был до крайности вежлив, чем и подкупал. Девственности лишился с девушкой по имени Ирма, которая училась в том же колледже на специалиста страхового дела. О расставании она объявила через полгода, а причины объяснять отказалась. Фишер не выказал злобы и даже проводил Ирму до трамвайной остановки, потому что близилась полночь. Однако уязвлен был до глубины души: Ирма не могла похвастать выдающимися качествами, но почему-то решила, что ей не нравится Фишер – умный, обаятельный и уверенный в себе Фишер. Выждав полгода, он немного потрепал ей нервы анонимными угрозами в ВК. Иногда он сталкивался с Ирмой в колледже, и она, считая его пай-мальчиком, жаловалась на загадочного сталкера, который хочет намотать её кишки на деревья, порубленные ноги скормить свиньям, а ребра запечь в духовке. Фишер понимающе кивал и советовал на всякий случай сменить квартиру. Через два месяца эта забава ему наскучила, и преследование прекратилось так же внезапно, как и началось.
Получив диплом и благополучно сдав на права, Фишер уехал на заработки в Петербург. Вернулся он спустя пять долгих лет, имея в кармане мятых брюк три тысячи рублей и справку об освобождении. Не без горечи он узнал, что оказался единственным из класса, кого осудили за убийство, в то время как бывшие хулиганы взялись за ум и стали приличными людьми: Сеня Скорлупкин эмигрировал в Германию, удачно женившись на этнической немке, а Гена Блотнер остался в Павлозаводске и неожиданно для всех перевоплотился в сержанта полиции.
Минуло четыре года. Гена курил под березой и мысленно прощался с отцом, провожая его в действительно последний путь. Голые ветви вздрагивали, как паучьи лапы, а ветер разбрасывал по близлежащим могилам химический запах сигаретного дыма. Заметив пристальный взгляд Фишера, Гена выкинул окурок и зашагал к катафалку. Чем ближе он подходил, тем понятнее становилось, что внешне он изменился не сильно, зато преобразился внутренне: перед открытым окном ритуальной "газели" стоял не уже не юный стремящийся гопник, а взрослый вымотанный мент. Здороваться Гена не стал и сразу перешел к делу:
- Меня удивляет даже не то, что ты какого-то хрена участвуешь в похоронах моего отца, а то, что ты до сих пор живой. Слышал, ты в активисты подался?
Фишер довольно улыбнулся. Упрек ничуть его не задел. В конце концов, это ведь Фишеру, который не тяготился этическими дилеммами, без труда давались поступки, на которые едва решались окружающие люди – было чем гордиться.
- Зря тебя на красную зону[26] отправили. Ты и в детстве гнидой был, а теперь совсем ссучился[27], - поморщился Гена, - я бы тебе рожу набил, но не хочу руки марать.
[26] исправительное учреждение, в котором все подчиняются указаниям администрации
[27] начать сотрудничать с правоохранительными органами, будучи преступником
- И откуда же тебе известны события моей жизни, Блотнер? Следишь за мной? – усмехнулся Фишер. Непривычно было слышать из уст Гены угрожающе-многозначительную полицейскую речь, полную тревожных намеков на будущие неприятности.
- Да нет, просто работаю хорошо. Участковым. Я у себя на районе всех знаю, а некоторые из моих подопечных знают тебя, потому что сидели в двойке, - сказал он, окинув Фишера оценивающим взглядом, - мне тут рассказали, что ты по приказу администрации человека прессовал[28]. Было такое?
[28] оказывать моральное и физическое давление на заключенного, который не подчиняется администрации исправительного учреждения
- Это всего лишь слухи. Я никого не прессовал, - спокойным тоном возразил Фишер и поправил очки. Мимикой он себя не выдал, однако левая ладонь, которая находилась вне поля зрения Гены и лежала на колене, с такой силой сжалась в кулак, что Фишер испытал боль, когда впились в кожу нестриженые ногти. Конечно, физически Вадим Щукин, политзэк-первоход[29], остался более-менее здоровым, а к психической нестабильности был склонен изначально, поэтому Фишер не считал себя виновным в его печальной судьбе… Но всё же не хотелось беседовать об этом с сержантом полиции.
[29] заключенный, отбывающий свой первый срок
- Совести у тебя нет. Не зря тебя завхозом поставили.
- Библиотекарем, - поправил его Фишер и немного успокоился. Завхозом он не был никогда, и это значило, что загадочный информатор попросту фантазировал, стараясь сделать свой рассказ правдоподобным. Такого безалаберного человека не следовало опасаться.
- Один хрен, - вынес вердикт Гена и сплюнул на асфальт кладбищенской аллеи. Уголовная романтика осталась в прошлом, однако он до сих пор относился к стукачам с брезгливостью, хотя таковые наверняка облегчали его работу. От двойных стандартов Гена так и не избавился.
- С каких пор тебя стали волновать вопросы морали? Лет пятнадцать назад ты был тем еще отморозком.
- Доиграешься ведь, Женя. Я еще по щегляне[30] в тебе суку[31] разглядел и оказался прав. Убивать тебя за это я, конечно, не собираюсь, профессия не та… Но кандидатов и без меня хватает.
[30] в юном возрасте
[31] преступник, сотрудничающий с правоохранительными органами
- Каких еще кандидатов? – холодно сверкнул глазами Фишер. Ему отчетливо вспомнились полковник Ремизов, мизантропически настроенный начальник колонии, который считал заключенных своими крепостными, и майор Сухарев, плутоватый кум из оперчасти. Вспомнился и политзэк Щукин, который все-таки осознал, что произнесенные слова легко конвертируются в физические страдания, но было уже слишком поздно.
- Страшно стало, завхоз? – усмехнулся Гена, заметив его нервозность. - Да шучу я, успокойся. Кому ты нужен вообще?
Фишер выбросил бычок в окно, и тот потонул в коричневой грязи. Затрещала вдалеке сорока. Порывы ветра гнали на север клочковатые, изъеденные дырами облака.
- Да уж… Раньше никто и подумать не мог, что ты сядешь, - подвел итог Гена, - ты тихушник был, никого не трогал. При свидетелях.
- Я и сейчас никого не трогаю, - сухо сказал Фишер.
- Надеюсь на это, Женя. Хотя кто тебя знает…
Пикировка подошла к концу. Гена развернулся и ушел к женщинам, которые аккуратно вытирали носовыми платками заплаканные лица. Впереди их ожидали скромные поминки, а Фишера - неизбежный допрос, инициированный следователем по особо важным делам. Нужно было поскорее вернуть катафалк на стоянку «Ленритуала» и пересесть на свой автомобиль, чтобы прибыть в Следственный комитет вовремя. Опоздание могло испортить образ приличного члена общества.
Всю дорогу от Жуковского кладбища до набережной Фишер прокручивал в голове муторные сомнения. Гена хоть и знал обрывки истории, однако ни на что повлиять не мог. Исправительная колония, в которой отбывал срок Фишер, была красной, образцово-показательной и пыточной. За семь лет карцерный молох полковника Ремизова поглотил немало людей, а деградация Щукина была всего лишь каплей в море. Ремизову нравилось властвовать над беспомощными людьми, и свои секреты он охранял хорошо. О недоразумении с Щукиным можно было не беспокоиться. А люди, которым Фишер не нравился, хоть и существовали, однако были слишком совестливыми для того, чтобы кого-то убить. Их можно было не опасаться. Напрягал только важняк[32] Юдин, который шел по следу маньяка со Смородины и, как выяснилось, тоже недолюбливал активистов. Под конец допроса он даже неприкрыто это продемонстрировал, а перед этим плавно перевел тему на пребывание Фишера в колонии. Само по себе это странным не казалось, но в сочетании с претензиями Гены, который, к тому же, служил в полиции…
[32] следователь по особо важным делам
- …you take me in your arms and start to burn! – воскликнул юный Роберт Смит и вырвал Фишера из параноидальных размышлений.
- Чушь какая… - буркнул он себе под нос, выдергивая из открытой пачки следующую сигарету. – Этот мудак злился, он не ожидал меня встретить…
Шерхан на возвращение хозяина не отреагировал. Он сидел возле будки и таращился в пустоту, будто перед ним висел кто-то невидимый, но Фишер не удивился этой собачьей привычке, потому что нередко заставал Шерхана в таком положении. Зайдя в дом, Фишер задержался в полупустом темном коридоре и посмотрелся в большое зеркало, висящее на стене. В отраженном сумраке проступали вешалка для одежды, приколоченная еще дедушкой Эммануилом, и современный холодильник. Возле вешалки мерцала тусклой медью чеканка, которая изображала морское дно, колышущиеся водоросли и двух рыб с темно-желтыми чешуйчатыми боками. Рыбы пускали пузыри и тащили за собой прозрачные вуали хвостов. Под чеканкой бледнело мужское лицо, испорченное бессонницей, а тени коварно заостряли его черты, придавая отражению порочный вид. При скудном освещении Фишер действительно смахивал на маньяка. Однако кабинет Юдина был буквально залит солнцем, а в естественном свете Фишер выглядел вполне пристойно.
Пообедал Фишер ближе к вечеру. Он разогрел себе тарелку свекольно-красного борща с волокнистыми стружками говядины, а затем оторвал от магнитной планки хлебный нож – с длинным клинком, закруглением на конце и зубчатым лезвием. Черная ручка ножа удобно лежала в ладони, а по стали медленно бегал желтоватый блик лампы. Фишер поймал себя на том, что мерно качает ножом и любуется его блеском. Опомнившись, он отрезал несколько кусков белого хлеба и вернул нож на место.
Сон, как это обычно бывало, не шел. Фишер то хрупко дремал, приходя в себя от любого шороха, то просто лежал с закрытыми глазами, и второе было хуже всего, потому что в голову наползали мысли, от которых сложно было избавиться. Словно в черепе Фишера торчал гвоздь, который невозможно было извлечь, который досаждал ему с самого рождения и был неотъемлемой частью организма.
«Невыносимо», - привычно резюмировал Фишер, нащупал на прикроватной тумбочке телефон и приблизил его к лицу. Было почти восемь вечера. Несколько часов он все-таки поспал.
Надев очки, он перебрался в зал. Плотно задернутые шторы наполняли комнату зеленоватой чернотой, которую рассеивало лишь свечение телеэкрана. Его мертвенно-васильковые мазки пятнали корзинку с искусственными пионами, висящую на стене возле окна, мертвую голову глухаря, которая некогда побывала в мастерской таксидермиста, а теперь красовалась над дверью спальни, и пыльный хрусталь, окоченело мерцающий в чешской стенке. Фишер сидел на диване с ковровой накидкой, где-то на периферии тьмы. Синеватые отсветы придавали ему сходство с мертвецом, однако этот мертвец курил, пуская в потолок узорчатый дым, пил крепкий чай и жевал гематоген.
- Древнеримский поэт Гораций однажды с грустью заметил, что не бывает счастья без… - огласил вопрос Леонид Якубович и оглядел взволнованную тройку игроков. – Без чего?
Игроки угадывали буквы и крутили барабан, уставленный праздничными салатами и румяной выпечкой. Выступали с народными песнями дети. Якубовичу подарили пышный каравай, льняной рушник с орнаментом Смоленщины и чесалку для спины. Наконец отгадал слово седой работяга с длинным носом. Услышав его ответ, Фишер усмехнулся и вонзил зубы в третий по счету батончик гематогена. Под его обманчивой сладостью скрывалась бычья кровь.
- Всё верно, - подтвердил Якубович, - не бывает счастья без червоточины.
Сеня заметил подкравшегося Фишера слишком поздно. Он успел лишь вскочить и отбросить окурок в сторону фонарного столба, однако тяжелый удар по печени сразу же повалил Сеню набок. Уже знакомый с механикой садизма, Фишер скалил зубы и избивал Сеню ногами, марая кровью школьные ботинки, а тот вскрикивал и катался по жестким росткам молочая, выдавливая из них молочно-белый сок.
- Завязывай, тварь рогатая! – плаксиво выкрикнул Сеня, улучив момент между пинками. Оскорбление немного отрезвило Фишера. Поняв, что его больше не бьют, Сеня нетвердо встал на ноги. Школьная форма покрылась пылью, а на лице кровоточили ссадины. Сеня часто дышал и закусывал треснувшую губу, на которой мерцала рубиновая капля...
- И что ты сделаешь, если я не перестану? Мусорнешься[25]? – спросил Фишер, теряя голову. Он ударил Сеню в челюсть, и того отбросило назад. Сеня стукнулся затылком об гаражную дверь, вскрикнул и вновь повалился в заросли раздавленного молочая. На тускло-голубом фоне темнела багровая клякса, от которой тянулся вниз длинный след, похожий на мазок малярной кисти.
[25] обратиться в полицию
У Фишера помутилось в глазах. Сердце неистово заколотилось под ребрами, крупно затряслись пальцы, а солнечное сплетение набухло тягостным сплавом из страха, злобы и радости. Сеня неуклюже пытался подняться. Фишер резко развернулся на месте и устремился прочь. Он испугался наплыва чувств, не поддающихся толкованию.
Пробежав сквозь тенистые пещеры барачных дворов, Фишер сбавил скорость и перешел на шаг. Тянулась вперед широкая линия, ведущая к дому. Патока солнечных лучей омывала пыльную дорогу, вдоль которой взблескивали окнами беленые хибарки. Напротив продуктового магазина цвела в клумбе, сделанной из автомобильной шины, оранжевая охапка календулы. В кленовой тени пряталась облупившаяся чугунная колонка, окруженная хребтами мокрой почвы и неподвижными лужами. Двор грязно-зеленого приватизированного общежития кишел чумазыми детьми. Из зарешеченных окон наркологического диспансера выглядывали курящие пациенты. Сухой воздух подрагивал, придавая миру смутную ирреальность.
Оказавшись дома, Фишер плюхнулся на крыльцо, где стояла консервная банка из-под шпрот в масле, служившая ему пепельницей. На запах дыма пришла с огорода Лора Генриховна. Выгоревший спортивный костюм и старая плетеная шляпа с пластмассовым подсолнухом прибавляли ей десяток лет и подчеркивали морщины на бледном лице. Заметив умиротворенное лицо внука, покрытое красноватыми синяками, разбитую губу и поврежденные очки, Лора Генриховна побледнела еще сильнее, сжала рот в нитку и гневно сверкнула близорукими глазами.
- Эти шпанюки опять тебя побили? – спросила она. Фишер молча кивнул.
- Кажется, пора тебе забыть про мои советы и все-таки начать нормально драться.
- А я так и сделал, бабуль, - спокойно произнес он. Лора Генриховна нахмурилась. Она стала догадываться, что означает это сытое довольство, обычно несвойственное флегматичному Енюше. Подсев к внуку, Лора Генриховна заглянула ему в глаза и доверительно приказала:
- Изложи мне все подробности. Я должна знать правду, чтобы решить проблемы, если они вдруг возникнут.
Фишер не удивился формулировке. Он знал, что Лора Генриховна ценит его самого, а не его поступки, поэтому пересказал ситуацию как можно точнее, умолчав лишь о том, что он пробовал кровь Гены: об этом Лоре Генриховне не стоило знать, как и об экспериментах над мертвыми птицами. Упоминание ножа Лора Генриховна восприняла нейтрально, но оживилась, когда внук заговорил про странное ощущение, возникшее при виде крови на гаражной двери. Фишер надеялся, что Лора Генриховна сможет объяснить подоплеку этого чувства, но она приложила к вискам варикозные ладони и задумалась. Собравшись наконец с мыслями, она заговорила:
- Знаешь, Енюша, я даже не удивлена. Воспитание не всегда сглаживает врожденные… черты характера. Твоя мать была к тебе равнодушна, хотя какое-то время прикидывалась ответственной. Она заботилась о тебе, чтобы действовать на нервы твоему отцу. Он, кстати, тоже был не подарок и выходил из себя по любому поводу, а его дед при оккупации вообще был полицаем. За это его и расстреляли.
Фишер вскинул брови. Лора Генриховна никогда не говорила с ним о семейном древе, и своих предков Фишер представлял очень смутно, видя на их месте абстрактных рабочих и крестьян советской страны. Кого он среди них не видел, так это полицаев. Новость не пугала, но удивляла.
- Лет пятнадцать назад, когда всё только начиналось, я не совсем честно работала с недвижимостью. Пока государство не решило, что теперь это его прерогатива, - продолжила Лора Генриховна, вскинув подбородок, - и вот я вижу, что ты унаследовал от нас всё лучшее, и у тебя, кажется, большой потенциал. Из тебя получится успешный финансист, если постараешься.
- А от дедушки я что-нибудь унаследовал? – поинтересовался Фишер. Он даже забыл про сигарету, которая дымилась у него перед лицом. Лора Генриховна усмехнулась:
- Ничего. Эмик был абсолютно нормальным.
Ближе к вечеру позвонил отец Скорлупкина и пообещал отправить Фишера в колонию для малолеток. С долей угрозы Лора Генриховна рассказала ему о многолетней предыстории конфликта и своих юридических знакомствах. Скорлупкин-старший сбавил обороты. Лора Генриховна договорилась, что они не будут выносить сор из избы, съездила в травматологию, где Сене накладывали швы, и возместила ущерб финансово. Блотнеры так и не позвонили: видимо, их сын частенько попадал в передряги, и они уже не реагировали на это с должной остротой.
Придя на следующий день в школу, Фишер с удивлением понял, что взрослые о драке ничего не знают. Кажется, Алина Емельяновна и впрямь выполнила его просьбу. С её стороны это было крайне неожиданно, но в образ сумасшедшей, в общем-то, вписывалось. Вопросы возникли лишь у классной руководительницы, которая заметила побитые лица, однако Гена и Фишер, проявляя удивительную солидарность, настаивали на безопасной для всех версии: «Зашел не в тот район, хотели отжать сотовый. Имен не знаю, лиц не помню». Сеня вернулся в школу спустя неделю – с волосами, выстриженными на затылке небольшим кружком, и зашитой раной, которую родители густо мазали зеленкой. Фишеру поставили новые зубы, однако лишился он их не зря, приобретя взамен нездоровый внутренний стержень. Фишер то ли возмужал, то ли озлобился. Он понял, что может играючи причинять боль и даже получать от этого моральное удовлетворение.
В декабре, когда Фишеру было уже шестнадцать, дало о себе знать половое влечение. Эволюционный механизм, поколение за поколением принуждающий человеческих особей размножаться, запустился вхолостую, а источником возбуждения стал лишенный эротики хоррор, в котором до ужаса напуганному студенту колледжа склеили губы суперклеем и оторвали кусачками мизинец. Последнюю манипуляцию продемонстрировали крупным планом, сделав акцент на подергивающемся обрубке, из которого вязко текла темно-бурая кровь. Представив на месте жертвы себя, Фишер инстинктивно сделал то, чем уже давно хвастались ровесники. Фишер осознал, что однажды уже испытывал бледный отзвук возбуждения - в тот солнечный сентябрьский день, когда он разбил Сене затылок об гаражную дверь. Наконец-то нашелся подходящий паттерн: он включал в себя кровь и реалистичный ужас, а наличие секса было второстепенным. Однако Фишера всё же радовало, что он нормальный юноша с естественными для его возраста желаниями – какие бы триггеры для них ни требовались.
Финансово-экономический колледж, где Фишер три года учился на финансиста, размещался в здании бывшего горкома партии. Над крыльцом нависал серовато-зеленый барельеф, изображающий космонавта в открытом космосе, которого окружали стрельчатые звезды, и каждое утро под слепком ретрофутуризма проходил поток будущих банкиров, коммерсантов и специалистов по рекламе. С ровесниками Фишер на этот раз сошелся хорошо. Он окончательно окреп, стал недурно выглядеть и научился производить на людей приятное впечатление: нужно было всего лишь интересоваться делами знакомых, имитировать участие, а изредка помогать им по-настоящему. Укрепляя имидж очерствевшего, но всё же альтруиста, Фишер подавал милостыню попрошайкам – если рядом находились объекты, которых следовало к себе расположить. Особенно он сдружился с товарищами по специальности, которые научили его игре в покер. Они отмечали, что Фишер хорошо просчитывает ходы и уверенно блефует, не проявляя при этом никаких эмоций.
С женщинами Фишер был до крайности вежлив, чем и подкупал. Девственности лишился с девушкой по имени Ирма, которая училась в том же колледже на специалиста страхового дела. О расставании она объявила через полгода, а причины объяснять отказалась. Фишер не выказал злобы и даже проводил Ирму до трамвайной остановки, потому что близилась полночь. Однако уязвлен был до глубины души: Ирма не могла похвастать выдающимися качествами, но почему-то решила, что ей не нравится Фишер – умный, обаятельный и уверенный в себе Фишер. Выждав полгода, он немного потрепал ей нервы анонимными угрозами в ВК. Иногда он сталкивался с Ирмой в колледже, и она, считая его пай-мальчиком, жаловалась на загадочного сталкера, который хочет намотать её кишки на деревья, порубленные ноги скормить свиньям, а ребра запечь в духовке. Фишер понимающе кивал и советовал на всякий случай сменить квартиру. Через два месяца эта забава ему наскучила, и преследование прекратилось так же внезапно, как и началось.
Получив диплом и благополучно сдав на права, Фишер уехал на заработки в Петербург. Вернулся он спустя пять долгих лет, имея в кармане мятых брюк три тысячи рублей и справку об освобождении. Не без горечи он узнал, что оказался единственным из класса, кого осудили за убийство, в то время как бывшие хулиганы взялись за ум и стали приличными людьми: Сеня Скорлупкин эмигрировал в Германию, удачно женившись на этнической немке, а Гена Блотнер остался в Павлозаводске и неожиданно для всех перевоплотился в сержанта полиции.
Минуло четыре года. Гена курил под березой и мысленно прощался с отцом, провожая его в действительно последний путь. Голые ветви вздрагивали, как паучьи лапы, а ветер разбрасывал по близлежащим могилам химический запах сигаретного дыма. Заметив пристальный взгляд Фишера, Гена выкинул окурок и зашагал к катафалку. Чем ближе он подходил, тем понятнее становилось, что внешне он изменился не сильно, зато преобразился внутренне: перед открытым окном ритуальной "газели" стоял не уже не юный стремящийся гопник, а взрослый вымотанный мент. Здороваться Гена не стал и сразу перешел к делу:
- Меня удивляет даже не то, что ты какого-то хрена участвуешь в похоронах моего отца, а то, что ты до сих пор живой. Слышал, ты в активисты подался?
Фишер довольно улыбнулся. Упрек ничуть его не задел. В конце концов, это ведь Фишеру, который не тяготился этическими дилеммами, без труда давались поступки, на которые едва решались окружающие люди – было чем гордиться.
- Зря тебя на красную зону[26] отправили. Ты и в детстве гнидой был, а теперь совсем ссучился[27], - поморщился Гена, - я бы тебе рожу набил, но не хочу руки марать.
[26] исправительное учреждение, в котором все подчиняются указаниям администрации
[27] начать сотрудничать с правоохранительными органами, будучи преступником
- И откуда же тебе известны события моей жизни, Блотнер? Следишь за мной? – усмехнулся Фишер. Непривычно было слышать из уст Гены угрожающе-многозначительную полицейскую речь, полную тревожных намеков на будущие неприятности.
- Да нет, просто работаю хорошо. Участковым. Я у себя на районе всех знаю, а некоторые из моих подопечных знают тебя, потому что сидели в двойке, - сказал он, окинув Фишера оценивающим взглядом, - мне тут рассказали, что ты по приказу администрации человека прессовал[28]. Было такое?
[28] оказывать моральное и физическое давление на заключенного, который не подчиняется администрации исправительного учреждения
- Это всего лишь слухи. Я никого не прессовал, - спокойным тоном возразил Фишер и поправил очки. Мимикой он себя не выдал, однако левая ладонь, которая находилась вне поля зрения Гены и лежала на колене, с такой силой сжалась в кулак, что Фишер испытал боль, когда впились в кожу нестриженые ногти. Конечно, физически Вадим Щукин, политзэк-первоход[29], остался более-менее здоровым, а к психической нестабильности был склонен изначально, поэтому Фишер не считал себя виновным в его печальной судьбе… Но всё же не хотелось беседовать об этом с сержантом полиции.
[29] заключенный, отбывающий свой первый срок
- Совести у тебя нет. Не зря тебя завхозом поставили.
- Библиотекарем, - поправил его Фишер и немного успокоился. Завхозом он не был никогда, и это значило, что загадочный информатор попросту фантазировал, стараясь сделать свой рассказ правдоподобным. Такого безалаберного человека не следовало опасаться.
- Один хрен, - вынес вердикт Гена и сплюнул на асфальт кладбищенской аллеи. Уголовная романтика осталась в прошлом, однако он до сих пор относился к стукачам с брезгливостью, хотя таковые наверняка облегчали его работу. От двойных стандартов Гена так и не избавился.
- С каких пор тебя стали волновать вопросы морали? Лет пятнадцать назад ты был тем еще отморозком.
- Доиграешься ведь, Женя. Я еще по щегляне[30] в тебе суку[31] разглядел и оказался прав. Убивать тебя за это я, конечно, не собираюсь, профессия не та… Но кандидатов и без меня хватает.
[30] в юном возрасте
[31] преступник, сотрудничающий с правоохранительными органами
- Каких еще кандидатов? – холодно сверкнул глазами Фишер. Ему отчетливо вспомнились полковник Ремизов, мизантропически настроенный начальник колонии, который считал заключенных своими крепостными, и майор Сухарев, плутоватый кум из оперчасти. Вспомнился и политзэк Щукин, который все-таки осознал, что произнесенные слова легко конвертируются в физические страдания, но было уже слишком поздно.
- Страшно стало, завхоз? – усмехнулся Гена, заметив его нервозность. - Да шучу я, успокойся. Кому ты нужен вообще?
Фишер выбросил бычок в окно, и тот потонул в коричневой грязи. Затрещала вдалеке сорока. Порывы ветра гнали на север клочковатые, изъеденные дырами облака.
- Да уж… Раньше никто и подумать не мог, что ты сядешь, - подвел итог Гена, - ты тихушник был, никого не трогал. При свидетелях.
- Я и сейчас никого не трогаю, - сухо сказал Фишер.
- Надеюсь на это, Женя. Хотя кто тебя знает…
Пикировка подошла к концу. Гена развернулся и ушел к женщинам, которые аккуратно вытирали носовыми платками заплаканные лица. Впереди их ожидали скромные поминки, а Фишера - неизбежный допрос, инициированный следователем по особо важным делам. Нужно было поскорее вернуть катафалк на стоянку «Ленритуала» и пересесть на свой автомобиль, чтобы прибыть в Следственный комитет вовремя. Опоздание могло испортить образ приличного члена общества.
Всю дорогу от Жуковского кладбища до набережной Фишер прокручивал в голове муторные сомнения. Гена хоть и знал обрывки истории, однако ни на что повлиять не мог. Исправительная колония, в которой отбывал срок Фишер, была красной, образцово-показательной и пыточной. За семь лет карцерный молох полковника Ремизова поглотил немало людей, а деградация Щукина была всего лишь каплей в море. Ремизову нравилось властвовать над беспомощными людьми, и свои секреты он охранял хорошо. О недоразумении с Щукиным можно было не беспокоиться. А люди, которым Фишер не нравился, хоть и существовали, однако были слишком совестливыми для того, чтобы кого-то убить. Их можно было не опасаться. Напрягал только важняк[32] Юдин, который шел по следу маньяка со Смородины и, как выяснилось, тоже недолюбливал активистов. Под конец допроса он даже неприкрыто это продемонстрировал, а перед этим плавно перевел тему на пребывание Фишера в колонии. Само по себе это странным не казалось, но в сочетании с претензиями Гены, который, к тому же, служил в полиции…
[32] следователь по особо важным делам
- …you take me in your arms and start to burn! – воскликнул юный Роберт Смит и вырвал Фишера из параноидальных размышлений.
- Чушь какая… - буркнул он себе под нос, выдергивая из открытой пачки следующую сигарету. – Этот мудак злился, он не ожидал меня встретить…
Шерхан на возвращение хозяина не отреагировал. Он сидел возле будки и таращился в пустоту, будто перед ним висел кто-то невидимый, но Фишер не удивился этой собачьей привычке, потому что нередко заставал Шерхана в таком положении. Зайдя в дом, Фишер задержался в полупустом темном коридоре и посмотрелся в большое зеркало, висящее на стене. В отраженном сумраке проступали вешалка для одежды, приколоченная еще дедушкой Эммануилом, и современный холодильник. Возле вешалки мерцала тусклой медью чеканка, которая изображала морское дно, колышущиеся водоросли и двух рыб с темно-желтыми чешуйчатыми боками. Рыбы пускали пузыри и тащили за собой прозрачные вуали хвостов. Под чеканкой бледнело мужское лицо, испорченное бессонницей, а тени коварно заостряли его черты, придавая отражению порочный вид. При скудном освещении Фишер действительно смахивал на маньяка. Однако кабинет Юдина был буквально залит солнцем, а в естественном свете Фишер выглядел вполне пристойно.
Пообедал Фишер ближе к вечеру. Он разогрел себе тарелку свекольно-красного борща с волокнистыми стружками говядины, а затем оторвал от магнитной планки хлебный нож – с длинным клинком, закруглением на конце и зубчатым лезвием. Черная ручка ножа удобно лежала в ладони, а по стали медленно бегал желтоватый блик лампы. Фишер поймал себя на том, что мерно качает ножом и любуется его блеском. Опомнившись, он отрезал несколько кусков белого хлеба и вернул нож на место.
Сон, как это обычно бывало, не шел. Фишер то хрупко дремал, приходя в себя от любого шороха, то просто лежал с закрытыми глазами, и второе было хуже всего, потому что в голову наползали мысли, от которых сложно было избавиться. Словно в черепе Фишера торчал гвоздь, который невозможно было извлечь, который досаждал ему с самого рождения и был неотъемлемой частью организма.
«Невыносимо», - привычно резюмировал Фишер, нащупал на прикроватной тумбочке телефон и приблизил его к лицу. Было почти восемь вечера. Несколько часов он все-таки поспал.
Надев очки, он перебрался в зал. Плотно задернутые шторы наполняли комнату зеленоватой чернотой, которую рассеивало лишь свечение телеэкрана. Его мертвенно-васильковые мазки пятнали корзинку с искусственными пионами, висящую на стене возле окна, мертвую голову глухаря, которая некогда побывала в мастерской таксидермиста, а теперь красовалась над дверью спальни, и пыльный хрусталь, окоченело мерцающий в чешской стенке. Фишер сидел на диване с ковровой накидкой, где-то на периферии тьмы. Синеватые отсветы придавали ему сходство с мертвецом, однако этот мертвец курил, пуская в потолок узорчатый дым, пил крепкий чай и жевал гематоген.
- Древнеримский поэт Гораций однажды с грустью заметил, что не бывает счастья без… - огласил вопрос Леонид Якубович и оглядел взволнованную тройку игроков. – Без чего?
Игроки угадывали буквы и крутили барабан, уставленный праздничными салатами и румяной выпечкой. Выступали с народными песнями дети. Якубовичу подарили пышный каравай, льняной рушник с орнаментом Смоленщины и чесалку для спины. Наконец отгадал слово седой работяга с длинным носом. Услышав его ответ, Фишер усмехнулся и вонзил зубы в третий по счету батончик гематогена. Под его обманчивой сладостью скрывалась бычья кровь.
- Всё верно, - подтвердил Якубович, - не бывает счастья без червоточины.
Черная «лада» сливалась с сумеречным киселем ночи, мутной слякотью оттепели и зыбким пейзажем Смородинского микрорайона. Лишь восковой свет фар тонул в рытвинах земляной колеи. Под бескровно-серыми панельными домами вяло журчали в грязи первые весенние ручьи, на высоких осинах набухали почки, а воздух подрагивал, оседая на дикий пляж смутной бесцветной массой. Однако сегодня Алина Емельяновна собиралась охотиться не на пляже. Её интересовало более глухое место – лесополоса.
Сквозь жухлую пелену мертвого мира проступал другой берег Смородины. Алина Емельяновна ехала по асфальту пешеходного моста, а в салоне играла музыка, прорывая толщу времени бесполым детским голосом, наполненным пионерским идеализмом. В открытое окно машины проникал сырой ветер, который колыхал лацканы болоньевого плаща и короткие темные волосы. Учтя ошибки мартовского убийства, Алина Емельяновна оставила берет дома, а вместо кухонных перчаток надела медицинские.
- Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко… - стройно пел детский хор распавшейся страны. Весна, пришедшая в Сибирь аномально рано, тащила по мерклым водам Смородины грязные глыбы льда. Сталкиваясь, те издавали непрерывный треск и медленно ползли в сторону Алтая.
Алина Емельяновна миновала мост и очутилась в расплывчатом осиннике, который пересекала наезженная рыбаками грунтовка. Она ломаной линией уходила в дебри мглистой лесополосы, а на одном из её резких поворотов находился некто, не боящийся загородной ночи. В этом Алина Емельяновна не сомневалась: человеческую жизнь она чуяла за километр.
Второе убийство она намеревалась приурочить к Первомаю, однако планы поменял ночной кошмар, в котором неразборчиво шептал водоворот из темных маков, липла к пальцам мертвой девочки паучья пряжа и надрывались лаем собаки. Кошмар умело маскировал свою повторяющуюся природу, всякий раз меняя детали, однако чувственное наполнение, - паника, униженность и злоба, - оставалось неизменным. Весь день после этого Алина Емельяновна ходила сама не своя и даже прикрикнула в аптеке на шумного ребенка, которого не могли успокоить родители – представив при этом, как она сворачивает его хрупкую цыплячью шею. Пришлось выбирать ближайший апрельский праздник, и таковым оказалась Пасха, которая в этом году выпадала на девятнадцатое число. Приметы утверждали, что душа человека, умершего в Пасху, попадает прямиком на небо, минуя божий суд.
Стрелочные часы на приборной панели показывали 22:40. Игрушечный далматинец тряс головой в такт качающейся «елочке», пока черный гроб автомобиля, преодолевая бугры, переваливался из лужи в лужу. Алина Емельяновна напевала себе под нос, вторя детскому хору, и предвкушала вторую по счету предсмертную агонию. Она не боялась разоблачения, потому что город пока не проявил особого интереса к её мрачному ремеслу: отрубленная рука не впечатлила ни заеденных бытом горожан, ни журналистов-чернушников, которых, в силу их профессионального опыта, сложно было удивить единичным преступлением. Полиция тоже никуда не торопилась. Спустя две недели после убийства Алину Емельяновну навестил участковый, но и он опросил её лишь как вероятного свидетеля. Она догадалась, что следствие запоздало установило, где именно пропала рыжая девочка, и спокойно объяснила, что ничего подозрительного в тот день не замечала.
Черная «лада» неумолимо приближалась к нужному повороту дороги. В темно-синей пелене проступали полосатые стволы березняка. Светились, как новогодние гирлянды, неоново-синие глаза, слегка рассеивая мрак салона. Когда фары выхватили из темноты неподвижную девическую фигуру, Алина Емельяновна напряглась, словно зверь перед прыжком. По тонким губам скользнул язык. Она плавно остановила машину, достала из кармана кусок бельевой веревки и вышла наружу. Дверь осталась открытой. Играла музыка, заглушая смутный вой ветра.
Жертва находилась всего в нескольких шагах от Алины Емельяновны и пока не видела ни её саму, ни светящиеся синие глаза. Мембрана между мирами истончилась, жертва наконец зашевелилась в нормальном темпе, и сквозь пыльное стекло времени Алина Емельяновна разглядела тощую девочку, которая сидела на корточках, повернувшись к ней спиной, и рылась руками в земле, словно собака. Нечеловеческое зрение улавливало все детали разом: голубые, как у Мальвины, пышные локоны, спичечный каркас туловища, обтянутый джинсами и короткой курткой, засохшая грязь на замшевых сапогах…
Алина Емельяновна подошла к девочке вплотную, накинула ей на шею веревку и стала душить, отступая к машине и перетягивая жертву в мертвый мир. Девочка оказалась неожиданно легкой, однако обладала недюжинным желанием жить. Она отчаянно пыталась запустить пальцы под веревку и сучила ногами, поднимая фонтанчики грязи. Алина Емельяновна затянула веревку еще туже. Она волокла девочку по земле, стараясь запомнить всё: и бледное костистое лицо, искаженное страхом смерти, и серебристый блеск крестов, которые при каждом движении покачивались на мочках, как стрелка метронома, и истошный хрип, плавно переходящий в утробное бульканье.
- От чистого истока в прекрасное далеко, - доносилось из машины, - в прекрасное далеко я начинаю путь…
На потемневшее лицо выпал изо рта язык, покрытый белым налетом. Худые ноги встряхивало остаточной судорогой. Алина Емельяновна заметила, что агонизирующая девочка обмочилась. Замер труп минут через пять: витальности в девочке было хоть отбавляй.
Оборвалась на полузвуке песня о несбывшемся будущем страны и её отдельных жителей, которых неуправляемой лавиной накрыл суверенитет. Алина Емельяновна выбросила смартфон девочки в рытвину с гниющей прошлогодней листвой, замотала труп в плотную полиэтиленовую пленку и уложила его на заднее сиденье. Ноги трупа пришлось слегка подогнуть. Возвращаясь домой, Алина Емельяновна то и дело косилась в зеркало заднего вида, где отражались полупрозрачные складки полиэтилена, под которыми угадывались острые колени жертвы.
Уже через десять минут Алина Емельяновна находилась в подполе. Надевая серый резиновый фартук, она поглядывала на исхудалый труп, который вопросительным знаком валялся на бетонном полу. Эту жертву ожидали праздничные декорации советского детства. Пару недель назад Алина Емельяновна разбирала хлам, скопившийся на чердаке, и случайно наткнулась на картонную коробку из-под косметики «Орифлейм». В коробке лежали старые елочные игрушки, покрытые пушистой пылью и отдающие мышиным пометом, а некоторые из них были даже старше Алины Емельяновны. Недолго думая, она украсила ими бечеву, где уже висели сухие полевые цветы, обвязанные желтыми лентами. Натертые до блеска елочные игрушки радовали глаз. По витым сосулькам из цветного стекла, серебристым еловым шишкам и хрупким зеркальным шарам ползали жирные падальные мухи.
Алина Емельяновна неспешно переодевала задушенную девочку в пионерскую форму. В распахнутом платяном шкафу висела на пантографе мумия, сделанная из первой жертвы - костяная кукла, обтянутая сухой, как пергамент, грязно-коричневой кожей. Глазницы мерцали хрустальными гранями крупных бусин со старой люстры, суховатая копна рыжих волос падала на плечи мешковатой рубашки, подчеркивая алый цвет пионерского галстука. Из-под синей юбки торчали иссохшие, тонкие, будто спицы, ноги, на которых собирались гармошкой белые гольфы и поблескивали лаком черные ботинки. Раздев задушенную девочку, Алина Емельяновна заметила на холодеющих руках следы уколов, пунктиром проходящие по локтевым венам, и злорадно улыбнулась. Она поняла, что задушила малолетнюю наркоманку.
Результатом Алина Емельяновна осталась довольна. Пионерская форма сидела на тщедушной покойнице бесформенным мешком, навевая ассоциации с «Молодой гвардией» Фадеева, а сама покойница лежала на светлой клеенке с ромашками и была почти готова к съемке. Алина Емельяновна включила камеру, взяла ножовку и уселась в ногах трупа, расправив резиновый фартук. Зазубренное лезвие, тронутое сыпью ржавчины, с хрустом погрузилось в лакированный мысок черного ботинка. Пропилив искусственную кожу и белый хлопок гольфа, сталь вгрызлась в прохладную стопу и сразу же наткнулась на кость. Алина Емельяновна сосредоточенно пилила. Ножовка прерывисто чавкала. Разрез набухал кровью, которая не успела загустеть и теперь тяжелыми струями стекала по лаковому ботинку. Фартук Алины Емельяновны покрылся багровыми мазками.
Когда мысок ботинка с фрагментом стопы плюхнулся в лужу натекшей крови, на левой ноге трупа образовался ровный срез: черный овал искусственной кожи, покрасневшая прослойка гольфа и кровоточащие мышцы с белыми точками костей. Алина Емельяновна перекинула субтильный труп через плечо и просунула голову с голубыми волосами в петлю. Труп повис над испачканной клеенкой. Вытерев руки об штанины брюк, Алина Емельяновна подошла к буфету и взяла с полки заряженный «полароид».
От вооруженного оптикой глаза не ускользнуло ничто. В темно-красной луже тусклым пятном отпечатывалась голая лампочка. На клеенку косо падала тень подвешенного трупа. Правый ботинок маслянисто блестел, из среза левого ботинка тягуче капала кровь, а на заднем плане мерцали пестрые пятна бокэ, в которых угадывались елочные игрушки. Посиневшее лицо мертвой девочки, обрамленное голубыми волосами, контрастировало с фоном: сухими пучками луговых цветов и серебристыми еловыми шишками, с которых струпьями облезала краска. Мертвая девочка причудливой дугой отражалась в большом сиреневом шаре, а в следующем кадре рассыпалась на части по стеклянным завиткам бледно-розовой сосульки.
Спрятав конверт с фотографиями в тайник, Алина Емельяновна вытащила труп из петли, по самый пах отрубила изуродованную ногу и пронумеровала её желтой краской через линейку-трафарет. Эпизод подошел к концу. Алина Емельяновна выключила камеру и занялась рутинными процедурами. Искромсанные внутренности свежей жертвы плюхнулись в ведро. Тело покрылось нейлоновыми мешочками и исчезло под слоями тонкого целлофана.
«Хорошо, что Ленина не похоронили. Хотя за сто лет он наверняка превратился в квашню», - отстраненно подумала Алина Емельяновна и с жалостью вздохнула. Даже если бы она могла незаметно проникнуть в мавзолей, на хорошее состояние тела можно было уже не рассчитывать. Годы никому не идут на пользу, а особенно мертвецам.
Возможность приблизиться к миру мертвых появилась у Алины Емельяновны в августе прошлого года. Почти весь июль ей снился один и тот же сон, в котором ей являлся мертвый и до жути красивый Максим Пряников. Он поправлял квадратные очки, сползающие с крючковатого носа, приглаживал иссиня-черные пряди, которые выбивались из косого пробора, и понимающе расспрашивал Алину Емельяновну об её потаенных желаниях. Полностью черные глаза Пряникова, чадящие спиралями дыма, Алину Емельяновну не смущали, ведь потаенные желания у неё имелись. И воплощать их в одиночку было бы слишком рискованно. Но пробуждение рассеивало сновидческую реальность, а сон бесследно забывался в первые же минуты нового дня.
Однако нечто, скрывающееся под личиной Пряникова, прекрасно обо всём помнило. Оно нагрянуло в гости, когда стала осыпаться дряблая сентябрьская листва. Огород рыжел, теряя летнюю сочность, а к низкому серому небу тянулись дымные столбы соседских костров. За окном кухни качали головами подсолнухи, от их черных сердцевин отрывались пожухлые листья, а в отдалении цвели тигровые лилии и фиолетовые астры. Алина Емельяновна нависала над кухонным столом и разделывала сырую свиную голову. Отрезанные уши лежали в кастрюле, а узкое лезвие филейного ножа погружалось в плоть, сдирая с лобной кости толстый шмат мяса. Алина Емельяновна собиралась приготовить холодец. На срезах выступали крохотные капельки крови, которые будоражили воображение, и потеющие ладони приходилось то и дело вытирать об синее домашнее платье.
- Добрый день, Алина, - раздался вдруг у неё за спиной низкий булькающий рык. Алина Емельяновна с воплем обернулась и рефлекторно ткнула ножом в источник звука. Однако лезвие вонзилось не в плоть, а в невесомую черную массу, которая напоминала старый, превратившийся в лохмотья брезент.
Воздух потемнел, наполнившись леденящим холодом и зловонием гниющей крови. Алина Емельяновна медленно задрала голову. Светлые глаза панически распахнулись, а губы обнажили злобный, как у дикого животного, оскал. Существо, пробравшееся в дом Алины Емельяновны, вызывало гадостную тошноту. Желтовато-грязный коровий череп, увенчанный серпом острых рогов, был обезображен гротескной нижней челюстью, выдающейся вперед, а в бездонной тьме пустых глазниц тлели ядовито-желтые искры. Где-то под лохмотьями туловища начинались тонкие, влажно блестящие, слизисто-красные щупальца, похожие на дождевых червей. Щупальца ползали по воздуху, скручиваясь в спирали, их безобразные извивы устилали пол кухни и наползали на стены. От существа разило смертью. Алине Емельяновне казалось, что в сердце вот-вот лопнет, не выдержав давления, натянутая струна. Впервые в жизни она испытывала ужас, унаследованный от неразумных приматов.
Пронзительно вскрикнув, Алина Емельяновна сжала нож еще крепче и шарахнулась назад, но споткнулась об узел щупалец и рухнула на оказавшийся рядом стул. В спину резким ударом впилась деревянная спинка, однако боль в позвоночнике проскользнула мимо ошарашенного сознания.
- Не бойся, Алина. Это я, Мать Душегубов, - прорычало существо, извлекая голос даже не из горла, а из противоестественной утробы. - Ты помнишь, как я являлась тебе во снах? Ты помнишь, что я предлагала тебе стать моей человеческой дочерью и проливать для меня кровь? И ты даже почти согласилась.
- Согласилась?.. – с трудом выдавила Алина Емельяновна. Слабость тянула к земле, и рука с ножом ходила ходуном. Она поверить не могла, что имеет дело с существом, которое навещало её во снах, коварно принимая облик симпатичного ей юноши. Возможно, ей и сейчас снился сон: слишком уж запредельным казался крадущийся холод, слишком уж сумрачным был воздух, пахнущий несвежей кровью.
- У меня было много человеческих детей. К сожалению, они уже не могут убивать, потому что стали слишком наглыми. Один, например, кусал свои жертвы и оставлял на них следы зубов, хотя знал, что его могли вычислить по стоматологической карте. Второй писал от руки стихотворные записки и оставлял их возле трупов. Его, естественно, тоже в итоге посадили. Но ты, Алина, кажешься мне достаточно разумной. Не думаю, что ты будешь тратить мой подарок на такую ерунду.
Алина Емельяновна задрожала. Происходящее всё отчетливее напоминало ночной кошмар, затягивающийся вокруг горла смертельной петлей, вот только проснуться почему-то не удавалось. Алина Емельяновна ущипнула себя за руку и ощутила вполне реальную боль. Настоящей была эта боль, настоящей была Мать Душегубов, пришедшая из гибельных долин. И сны, полные задушевных бесед с кадавром Пряниковым, и его заманчивые предложения, которые стали вспоминаться лишь теперь, будто с них сняли печать забвения… У Алины Емельяновны пересохло в горле.
- То есть, ты собираешься помогать мне с убийствами? С убийствами девочек? – осторожно поинтересовалась она. – И хочешь получить что-то взамен?
- Именно так, Алина. Я сделаю тебя практически неуловимой и впущу в Хмарь, где ты сможешь беспрепятственно искать красивых мертвецов по кладбищам и моргам. А взамен мне нужны всего лишь мертвые девочки и хорошее шоу.
- Хмарь? – переспросила Алина Емельяновна.
Мать Душегубов сгорбленно скользнула вперед и заглянула ей в глаза:
- Мертвый, затерянный во времени мир. Он будет принадлежать только тебе. Можешь считать, что это пыточная камера для детей, которых ты так ненавидишь.
- И что же именно требуется с моей стороны?
- Кровь! Кости! Плоть! – забулькала уродливым смехом Мать Душегубов, и по её щупальцам прокатилась волна радостного тремора. - Богатая фантазия, способная утолить мою жажду смерти!
Алина Емельяновна немного успокоилась и воткнула нож в свиную голову. Обрели кинематографическую яркость подспудные видения: синюшное девичье лицо с распухшим языком, мумифицированный труп, одетый в пионерскую форму, болезненно красочные фотографии, на которых истекали кровью отрубленные конечности…
- С воображением у меня всё отлично, - буркнула Алина Емельяновна, - но почему я?
- Потому что тебя возбуждают мертвые мужчины, однако убивать ты хочешь девочек - убивать посредством удушения, хотя женщины такого рода обычно предпочитают яд, - прорычала Мать Душегубов, и на этот раз в её монструозном голосе даже послышалось нечто, напоминающее теплоту. - К тому же, ты мечтаешь о коллекции мумий. Мне по душе твой необычный интерес.
Алина Емельяновна самодовольно хмыкнула. Мать Душегубов кувыркнулась, и слизисто-красные щупальца вязко повисли в воздухе, полностью скрыв её устрашающий облик. За красноватым облаком, которое шевелилось, словно дождевые черви в консервной банке, раздался булькающий рык:
- Через семь дней я вернусь и удочерю тебя. Подготовься как следует.
После этих слов Мать Душегубов исчезла, забрав с собой могильный холод иных миров, сумрак мира мертвых и тяжелую вонь кровавых бань. Минут десять Алина Емельяновна сидела без единого движения, осмысливала произошедшее и улыбалась в пустоту. За приоткрытой дверью зала шипела кошка, настороженно сверкая зелеными огнями глаз.
Всю следующую неделю Алина Емельяновна пыталась поймать себя на признаках невменяемости, но терпела фиаско. Галлюцинаций она не имела, соседей шпионами не считала, а от провалов в памяти не страдала. Одолевали лишь фантазии, в которых фигурировали задушенные, распотрошенные, повешенные перед камерой девочки, но об этом Алина Емельяновна думала уже пятый год, так что вряд ли это можно было считать признаком безумия.
Через неделю вернулась, подтвердив свою реальность, Мать Душегубов. Она удочерила Алину Емельяновну, напоив её дегтярно-черной кровью из надкушенного щупальца, и вложила во влажную ладонь ключ к Хмари – старый детский калейдоскоп. Начало серии Мать Душегубов приказала отложить на весну: нужно было сначала овладеть специфическими знаниями, а уже потом достойно дебютировать.
Однако Алине Емельяновне и без убийств было чем заняться. Впервые посетив Хмарь, поделенную мембранами на слои времени, Алина Емельяновна испытала сосущий дискомфорт и светлую ностальгию одновременно, потому что перед ней предстал безжизненный слепок Смородинского микрорайона, где не было ни людей, ни птиц, ни животных. Алине Емельяновне не повезло оказаться в Хмари днем, когда мертвое безмолвие, смазанные очертания поблекших предметов и вздрагивающий, словно от жары, прохладный воздух, производили наиболее отталкивающее впечатление, напоминая замыленную атмосферу vhs-кассет. Мутно-желтая полоса пляжа, сероватая лента Смородины с расплывчатым гребнем лесополосы и призрачно-голубое небо складывались в мозаику опустошенности. Внимательно приглядевшись, можно было заметить зыбкие дымчато-серые силуэты людей, которые купались в реке живого, нагретого солнцем Павлозаводска. Тени, напоминающие сгустки тумана, практически не двигались: время в Хмари текло медленнее, и одни сутки здесь равнялись минуте в мире живых людей. Впрочем, после наступления темноты изъяны Хмари уже не бросались в глаза, потому что слабо отличались от паршивой погоды, характерной для ночного российского ненастья.
К концу августа Алина Емельяновна объездила практически всю Ленинскую область, напрочь лишенную человеческого присутствия и дублирующую мир живых, но никак не наоборот. В практическом плане это значило, что в дубликате автомобиля можно было перевозить трупы, не боясь оставить в багажнике оригинала обличающие улики: кровавые пятна, волосы жертв и образцы почвы с их обуви. Калейдоскоп был идеальным инструментом для совершения преступлений.
Штудируя учебники, по которым изучали криминалистику будущие сотрудники органов, Алина Емельяновна не забывала и о плотской страсти, помнящей многочисленные фотографии похорон из фотоальбомов прабабушки. Первым мертвым любовником стал, конечно же, Максим Пряников – то ли самоубийца, то ли наркоман, похороненный на Коряковском кладбище. На свидание с ним Алина Емельяновна отправилась, закинув в багажник штыковую лопату, гвоздодер и большую шляпную коробку розового цвета.
Раскапывать могилы оказалось непросто, и с непривычки Алина Емельяновна провозилась почти шесть часов: руки гудели от усталости, волосы промокли от пота, а резиновые сапоги комьями облепила грязь. Но усилия были вознаграждены. Под гниловатой крышкой гроба покоился скелетированный Пряников. Он утопал в темно-красном атласе, покрытом темными разводами давнего гниения, и источал затхлый аромат ветхости пополам с влажным деревом. На удивление хорошо сохранилась густота черных волос, отделившихся от желтовато-белого черепа, а квадратные очки с минусовыми диоптриями уменьшали темные глазницы, придавая им дополнительную глубину. Белая рубашка за годы посмертия превратилась в землистого цвета тряпку, однако черный костюм и обувь остались практически нетронутыми. И волосы, и складки одежды были испещрены куколками погибших насекомых. Алина Емельяновна кокетливо подмигнула Пряникову, захрустела хитиновыми покровами и поцеловала его в лоб. На шершавой кости вспыхнул огненно-красный отпечаток губной помады.
Шляпная коробка вместила в себя и одежду Пряникова, и его кости. После смерти юный суицидник определенно стал компактнее.
Больничные морги Алине Емельяновне не нравились, потому что все свежие трупы в них принадлежали глубоким старикам, которые если и были когда-то красивыми, то на пути к смерти всю свою миловидность растеряли. Зато приятно радовали судебные морги. В их холодильных камерах дожидались вскрытия молодые мужчины - жертвы бытовых убийств, совершенных в пьяном состоянии. Обнимая красивые трупы молодых маргиналов, которые цвели багрово-черными язвами ножевых ранений и пахли формалином, Алина Емельяновна даже сквозь одежду ощущала леденящий холод смерти, исходящий от их обнаженной кожи. Потенция умершего, которая и при жизни не могла похвастать стабильностью, никакой роли не играла: главным для любого трупа преимуществом оказывались достаточно длинные и окоченевшие пальцы.
Серия началась весной. Первое убийство прошло как по маслу: рыжая девочка задохнулась, не дожив до конца Международного женского дня. Вторая девочка задохнулась еще быстрее, и смерть снизошла на неё в святую Пасху. А третья пока даже не подозревала, что предстоящий Первомай окажется последним в её жизни – несуразной, зародившейся во время пьяного зачатия, не имеющей никакой ценности.
Съездив в Матросовский микрорайон и выбросив отрубленную ногу на промзоне, Алина Емельяновна вернулась домой в 00:45. Нужно было выспаться перед рабочим днем, однако впечатление от убийства оказалось слишком волнующим. Алина Емельяновна рассматривала мрак спальни, а привыкшие к темноте глаза поминутно запинались об тяжелую фоторамку, в которой бледнел квадрат носового платка. Темное кровавое пятно на нем напоминало раздавленного осьминога. Кровь принадлежала единственному живому мужчине, которого Алина Емельяновна посчитала красивым – потому что тот был избит, находился без сознания и выглядел, как жертва убийства.
Началось это знакомство в девяносто девятом году, когда Алина Емельяновна только начинала работать в школе и приучала к порядку семилеток из класса «Д». Парочка забияк среди них имелась, однако самым невыносимым был отстраненный, погруженный в себя невротичный недотепа, которого эти забияки поддразнивали. Он был классическим ботаником в роговых очках, воспитывался бабушкой и носил солидно звучащее имя Евгений Фишер. Помимо уродливых очков он обладал еще и крупными, плотно теснящимися во рту зубами, которые, когда Фишер улыбался, обнажались вместе с верхней десной. Про себя Алина Емельяновна называла эту гримасу «улыбкой людоеда».
По сучонку Фишеру плакала то ли спецшкола, то ли смородинский психдиспансер: своенравный мальчишка без спроса выходил из кабинета, всегда считал, что виноваты другие – даже если виноват был он, и искренне не понимал, за что его ругают. Когда над ним начинали подшучивать ребята, сидящие сзади, он перескакивал, как козленок, через парту и набрасывался на обидчиков с кулаками. Однако драки в школе были запрещены.
- Паршивец! Гнида! – презрительно выпаливала Алина Емельяновна, пока Фишер, стоящий спиной к классу, вздрагивал всякий раз, когда указка впечатывалась в школьную доску прямо над его головой. – Нравится действовать мне на нервы, сволочь близорукая? Любишь, когда на тебя орут?
Со временем Фишер все-таки научился соблюдать правила человеческого общежития. Драться, впрочем, не перестал, хотя первым больше не бил: теперь он провоцировал противника на удар, чтобы тот стал зачинщиком драки и, следовательно, виновным в большей степени. Фишер стал хитрее и действительно превратился в гниду.
Экзекуции прекратились вместе с уроками музыки, когда Фишер перешел в средние классы. Время от времени Алина Емельяновна замечала его в беленых школьных коридорах, но теперь она видела перед собой недоверчивого, уязвленного, подловатого мальчика, которого одноклассники глумливо называли Стукачом. Унизительное прозвище, вероятнее всего, было заслуженным. При каждой встрече Алина Емельяновна наслаждалась жалким видом Фишера, который передвигался деревянной походкой, слегка сутулился и затравленно сверкал темными глазами, а при резких шумах рефлекторно втягивал голову в плечи, словно фронтовик, измученный ПТСР. Ничто не радовало Алину Емельяновну сильнее, чем страдающие, презираемые дети.
Став восьмиклассником, Фишер поменял уродливые роговые очки на вполне приемлемые квадратные, и в лице сучонка явственно проступили черты, роднящие его с Максимом Пряниковым. Особенно усиливал сходство крючковатый нос с горбинкой, напоминающий клюв стервятника. В черством сердце Алины Емельяновны вновь разгорелся садистский интерес.
Два раза ей даже удалось его утолить. В мае девятого года Алина Емельяновна, перекусывая в столовой, заметила через широкое окно, что Фишер с красной повязкой дежурного направляется своей несуразной походкой к цветущему яблоневому саду. Оставив на столе недоеденный обед, Алина Емельяновна устремилась к выходу. Она надеялась поймать сучонка с сигаретой, как следует на него накричать, а затем оттащить за ухо к директору. Желательно, дождавшись перемены, чтобы унижение стало публичным.
Однако произошло всё совсем иначе. Подкравшись к яблоневому саду, Алина Емельяновна стала свидетельницей любопытного зрелища: долговязый старшеклассник в розовой рубашке топил туповатого Фишера в луже, а тот подергивался под его коленом и, видимо, захлебывался. Алина Емельяновна задумалась. Агрессия была более серьезным проступком, чем курение. Унизить следовало того, кто махал кулаками. Приняв решение, Алина Емельяновна вмешалась и надавала малолетнему гопнику затрещин. Фишер при её виде почему-то оробел и с места происшествия скрылся.
Второй эпизод случился в сентябре того же года. Проходя мимо школьного забора, с бетонной кромки которого свешивались рыжевато-зеленые ветви рябины, Алина Емельяновна уловила краем уха странный шум. Она остановилась и прислушалась. Судя по глухим ударам и тихим стенаниям, кого-то избивали, называя при этом стукачом. Алина Емельяновна мечтательно улыбнулась: ей хотелось бы собственными глазами увидеть, как беспомощному Фишеру в кровь разбивают лицо. Голоса тем временем утихли. Возобновились удары – на этот раз уже без комментариев.
В нужном углу школьного стадиона Алина Емельяновна оказалась через несколько минут, однако в кустах обнаружила лишь Фишера, который без сознания валялся на земле, приминая виском рябиновые листья. Побитое лицо было испачкано свежей кровью, на щеке засыхал плевок, а по правой линзе очков змеилась трещина. В песке, среди окурков, мятых ягод и засыхающих темных капель, лежал небольшой нож с обагренным лезвием. Алина Емельяновна хмыкнула. Загадочность ситуации лишь распаляла любопытство.
Убедившись, что поблизости никого нет, Алина Емельяновна перекатила Фишера на спину и вытянула его руки вдоль туловища, чтобы он напоминал мертвеца, лежащего в гробу. К счастью, школьная форма, состоящая из брючного костюма и рубашки, это сходство подчеркивала. Не хватало только галстука, да и лицо было слишком грязным. Достав из кармана длинной юбки носовой платок, Алина Емельяновна стала приводить Фишера в порядок. Она легкими движениями прикладывала платок к коже, и по белой ткани алыми пятнами расползалась кровь. Всего этого побитый стукач не видел. Несомненно, если бы видел, у него возникло бы множество вопросов.
Фишер пришел в себя, когда Алина Емельяновна стояла над ним и любовалась хрупкой игрой света на припухшем лице. Он кажется, не совсем понял, что произошло, но очень удивился. Однако сразу же вскочил, попросил никому об увиденном не рассказывать и стал, как маленький преступник, деловито приводить себя в порядок. Фишер так торопился, что даже не пошел к главным воротам школы, а ловко перелез через забор. Забрав перед этим нож, который, по всей видимости, принадлежал именно ему.
Просьбу стукача Алина Емельяновна выполнила, а носовой платок спрятала в ящике швейного стола, чтобы уберечь глаза мужа от неприятной находки. Фишер по-прежнему оставался отстраненным, однако теперь его переполняла холодная самоуверенность. Затравленности, которая так нравилась Алине Емельяновне, больше не было, и даже сильное сходство с Пряниковым не имело теперь такой ценности, как прежде.
Овдовев, Алина Емельяновна вставила носовой платок в рамку, как памятную фотографию, и повесила в спальне над кроватью. Кровь Фишера, который годами был для одноклассников козлом отпущения, за минувшую декаду стала коричнево-бурой, однако до сих пор навевала сладостные воспоминания: маслянистый жар сентябрьского дня, тихий шелест увядающей рябины и смертельно прекрасное, замаранное кровью юношеское лицо.
Сквозь жухлую пелену мертвого мира проступал другой берег Смородины. Алина Емельяновна ехала по асфальту пешеходного моста, а в салоне играла музыка, прорывая толщу времени бесполым детским голосом, наполненным пионерским идеализмом. В открытое окно машины проникал сырой ветер, который колыхал лацканы болоньевого плаща и короткие темные волосы. Учтя ошибки мартовского убийства, Алина Емельяновна оставила берет дома, а вместо кухонных перчаток надела медицинские.
- Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко… - стройно пел детский хор распавшейся страны. Весна, пришедшая в Сибирь аномально рано, тащила по мерклым водам Смородины грязные глыбы льда. Сталкиваясь, те издавали непрерывный треск и медленно ползли в сторону Алтая.
Алина Емельяновна миновала мост и очутилась в расплывчатом осиннике, который пересекала наезженная рыбаками грунтовка. Она ломаной линией уходила в дебри мглистой лесополосы, а на одном из её резких поворотов находился некто, не боящийся загородной ночи. В этом Алина Емельяновна не сомневалась: человеческую жизнь она чуяла за километр.
Второе убийство она намеревалась приурочить к Первомаю, однако планы поменял ночной кошмар, в котором неразборчиво шептал водоворот из темных маков, липла к пальцам мертвой девочки паучья пряжа и надрывались лаем собаки. Кошмар умело маскировал свою повторяющуюся природу, всякий раз меняя детали, однако чувственное наполнение, - паника, униженность и злоба, - оставалось неизменным. Весь день после этого Алина Емельяновна ходила сама не своя и даже прикрикнула в аптеке на шумного ребенка, которого не могли успокоить родители – представив при этом, как она сворачивает его хрупкую цыплячью шею. Пришлось выбирать ближайший апрельский праздник, и таковым оказалась Пасха, которая в этом году выпадала на девятнадцатое число. Приметы утверждали, что душа человека, умершего в Пасху, попадает прямиком на небо, минуя божий суд.
Стрелочные часы на приборной панели показывали 22:40. Игрушечный далматинец тряс головой в такт качающейся «елочке», пока черный гроб автомобиля, преодолевая бугры, переваливался из лужи в лужу. Алина Емельяновна напевала себе под нос, вторя детскому хору, и предвкушала вторую по счету предсмертную агонию. Она не боялась разоблачения, потому что город пока не проявил особого интереса к её мрачному ремеслу: отрубленная рука не впечатлила ни заеденных бытом горожан, ни журналистов-чернушников, которых, в силу их профессионального опыта, сложно было удивить единичным преступлением. Полиция тоже никуда не торопилась. Спустя две недели после убийства Алину Емельяновну навестил участковый, но и он опросил её лишь как вероятного свидетеля. Она догадалась, что следствие запоздало установило, где именно пропала рыжая девочка, и спокойно объяснила, что ничего подозрительного в тот день не замечала.
Черная «лада» неумолимо приближалась к нужному повороту дороги. В темно-синей пелене проступали полосатые стволы березняка. Светились, как новогодние гирлянды, неоново-синие глаза, слегка рассеивая мрак салона. Когда фары выхватили из темноты неподвижную девическую фигуру, Алина Емельяновна напряглась, словно зверь перед прыжком. По тонким губам скользнул язык. Она плавно остановила машину, достала из кармана кусок бельевой веревки и вышла наружу. Дверь осталась открытой. Играла музыка, заглушая смутный вой ветра.
Жертва находилась всего в нескольких шагах от Алины Емельяновны и пока не видела ни её саму, ни светящиеся синие глаза. Мембрана между мирами истончилась, жертва наконец зашевелилась в нормальном темпе, и сквозь пыльное стекло времени Алина Емельяновна разглядела тощую девочку, которая сидела на корточках, повернувшись к ней спиной, и рылась руками в земле, словно собака. Нечеловеческое зрение улавливало все детали разом: голубые, как у Мальвины, пышные локоны, спичечный каркас туловища, обтянутый джинсами и короткой курткой, засохшая грязь на замшевых сапогах…
Алина Емельяновна подошла к девочке вплотную, накинула ей на шею веревку и стала душить, отступая к машине и перетягивая жертву в мертвый мир. Девочка оказалась неожиданно легкой, однако обладала недюжинным желанием жить. Она отчаянно пыталась запустить пальцы под веревку и сучила ногами, поднимая фонтанчики грязи. Алина Емельяновна затянула веревку еще туже. Она волокла девочку по земле, стараясь запомнить всё: и бледное костистое лицо, искаженное страхом смерти, и серебристый блеск крестов, которые при каждом движении покачивались на мочках, как стрелка метронома, и истошный хрип, плавно переходящий в утробное бульканье.
- От чистого истока в прекрасное далеко, - доносилось из машины, - в прекрасное далеко я начинаю путь…
На потемневшее лицо выпал изо рта язык, покрытый белым налетом. Худые ноги встряхивало остаточной судорогой. Алина Емельяновна заметила, что агонизирующая девочка обмочилась. Замер труп минут через пять: витальности в девочке было хоть отбавляй.
Оборвалась на полузвуке песня о несбывшемся будущем страны и её отдельных жителей, которых неуправляемой лавиной накрыл суверенитет. Алина Емельяновна выбросила смартфон девочки в рытвину с гниющей прошлогодней листвой, замотала труп в плотную полиэтиленовую пленку и уложила его на заднее сиденье. Ноги трупа пришлось слегка подогнуть. Возвращаясь домой, Алина Емельяновна то и дело косилась в зеркало заднего вида, где отражались полупрозрачные складки полиэтилена, под которыми угадывались острые колени жертвы.
Уже через десять минут Алина Емельяновна находилась в подполе. Надевая серый резиновый фартук, она поглядывала на исхудалый труп, который вопросительным знаком валялся на бетонном полу. Эту жертву ожидали праздничные декорации советского детства. Пару недель назад Алина Емельяновна разбирала хлам, скопившийся на чердаке, и случайно наткнулась на картонную коробку из-под косметики «Орифлейм». В коробке лежали старые елочные игрушки, покрытые пушистой пылью и отдающие мышиным пометом, а некоторые из них были даже старше Алины Емельяновны. Недолго думая, она украсила ими бечеву, где уже висели сухие полевые цветы, обвязанные желтыми лентами. Натертые до блеска елочные игрушки радовали глаз. По витым сосулькам из цветного стекла, серебристым еловым шишкам и хрупким зеркальным шарам ползали жирные падальные мухи.
Алина Емельяновна неспешно переодевала задушенную девочку в пионерскую форму. В распахнутом платяном шкафу висела на пантографе мумия, сделанная из первой жертвы - костяная кукла, обтянутая сухой, как пергамент, грязно-коричневой кожей. Глазницы мерцали хрустальными гранями крупных бусин со старой люстры, суховатая копна рыжих волос падала на плечи мешковатой рубашки, подчеркивая алый цвет пионерского галстука. Из-под синей юбки торчали иссохшие, тонкие, будто спицы, ноги, на которых собирались гармошкой белые гольфы и поблескивали лаком черные ботинки. Раздев задушенную девочку, Алина Емельяновна заметила на холодеющих руках следы уколов, пунктиром проходящие по локтевым венам, и злорадно улыбнулась. Она поняла, что задушила малолетнюю наркоманку.
Результатом Алина Емельяновна осталась довольна. Пионерская форма сидела на тщедушной покойнице бесформенным мешком, навевая ассоциации с «Молодой гвардией» Фадеева, а сама покойница лежала на светлой клеенке с ромашками и была почти готова к съемке. Алина Емельяновна включила камеру, взяла ножовку и уселась в ногах трупа, расправив резиновый фартук. Зазубренное лезвие, тронутое сыпью ржавчины, с хрустом погрузилось в лакированный мысок черного ботинка. Пропилив искусственную кожу и белый хлопок гольфа, сталь вгрызлась в прохладную стопу и сразу же наткнулась на кость. Алина Емельяновна сосредоточенно пилила. Ножовка прерывисто чавкала. Разрез набухал кровью, которая не успела загустеть и теперь тяжелыми струями стекала по лаковому ботинку. Фартук Алины Емельяновны покрылся багровыми мазками.
Когда мысок ботинка с фрагментом стопы плюхнулся в лужу натекшей крови, на левой ноге трупа образовался ровный срез: черный овал искусственной кожи, покрасневшая прослойка гольфа и кровоточащие мышцы с белыми точками костей. Алина Емельяновна перекинула субтильный труп через плечо и просунула голову с голубыми волосами в петлю. Труп повис над испачканной клеенкой. Вытерев руки об штанины брюк, Алина Емельяновна подошла к буфету и взяла с полки заряженный «полароид».
От вооруженного оптикой глаза не ускользнуло ничто. В темно-красной луже тусклым пятном отпечатывалась голая лампочка. На клеенку косо падала тень подвешенного трупа. Правый ботинок маслянисто блестел, из среза левого ботинка тягуче капала кровь, а на заднем плане мерцали пестрые пятна бокэ, в которых угадывались елочные игрушки. Посиневшее лицо мертвой девочки, обрамленное голубыми волосами, контрастировало с фоном: сухими пучками луговых цветов и серебристыми еловыми шишками, с которых струпьями облезала краска. Мертвая девочка причудливой дугой отражалась в большом сиреневом шаре, а в следующем кадре рассыпалась на части по стеклянным завиткам бледно-розовой сосульки.
Спрятав конверт с фотографиями в тайник, Алина Емельяновна вытащила труп из петли, по самый пах отрубила изуродованную ногу и пронумеровала её желтой краской через линейку-трафарет. Эпизод подошел к концу. Алина Емельяновна выключила камеру и занялась рутинными процедурами. Искромсанные внутренности свежей жертвы плюхнулись в ведро. Тело покрылось нейлоновыми мешочками и исчезло под слоями тонкого целлофана.
«Хорошо, что Ленина не похоронили. Хотя за сто лет он наверняка превратился в квашню», - отстраненно подумала Алина Емельяновна и с жалостью вздохнула. Даже если бы она могла незаметно проникнуть в мавзолей, на хорошее состояние тела можно было уже не рассчитывать. Годы никому не идут на пользу, а особенно мертвецам.
Возможность приблизиться к миру мертвых появилась у Алины Емельяновны в августе прошлого года. Почти весь июль ей снился один и тот же сон, в котором ей являлся мертвый и до жути красивый Максим Пряников. Он поправлял квадратные очки, сползающие с крючковатого носа, приглаживал иссиня-черные пряди, которые выбивались из косого пробора, и понимающе расспрашивал Алину Емельяновну об её потаенных желаниях. Полностью черные глаза Пряникова, чадящие спиралями дыма, Алину Емельяновну не смущали, ведь потаенные желания у неё имелись. И воплощать их в одиночку было бы слишком рискованно. Но пробуждение рассеивало сновидческую реальность, а сон бесследно забывался в первые же минуты нового дня.
Однако нечто, скрывающееся под личиной Пряникова, прекрасно обо всём помнило. Оно нагрянуло в гости, когда стала осыпаться дряблая сентябрьская листва. Огород рыжел, теряя летнюю сочность, а к низкому серому небу тянулись дымные столбы соседских костров. За окном кухни качали головами подсолнухи, от их черных сердцевин отрывались пожухлые листья, а в отдалении цвели тигровые лилии и фиолетовые астры. Алина Емельяновна нависала над кухонным столом и разделывала сырую свиную голову. Отрезанные уши лежали в кастрюле, а узкое лезвие филейного ножа погружалось в плоть, сдирая с лобной кости толстый шмат мяса. Алина Емельяновна собиралась приготовить холодец. На срезах выступали крохотные капельки крови, которые будоражили воображение, и потеющие ладони приходилось то и дело вытирать об синее домашнее платье.
- Добрый день, Алина, - раздался вдруг у неё за спиной низкий булькающий рык. Алина Емельяновна с воплем обернулась и рефлекторно ткнула ножом в источник звука. Однако лезвие вонзилось не в плоть, а в невесомую черную массу, которая напоминала старый, превратившийся в лохмотья брезент.
Воздух потемнел, наполнившись леденящим холодом и зловонием гниющей крови. Алина Емельяновна медленно задрала голову. Светлые глаза панически распахнулись, а губы обнажили злобный, как у дикого животного, оскал. Существо, пробравшееся в дом Алины Емельяновны, вызывало гадостную тошноту. Желтовато-грязный коровий череп, увенчанный серпом острых рогов, был обезображен гротескной нижней челюстью, выдающейся вперед, а в бездонной тьме пустых глазниц тлели ядовито-желтые искры. Где-то под лохмотьями туловища начинались тонкие, влажно блестящие, слизисто-красные щупальца, похожие на дождевых червей. Щупальца ползали по воздуху, скручиваясь в спирали, их безобразные извивы устилали пол кухни и наползали на стены. От существа разило смертью. Алине Емельяновне казалось, что в сердце вот-вот лопнет, не выдержав давления, натянутая струна. Впервые в жизни она испытывала ужас, унаследованный от неразумных приматов.
Пронзительно вскрикнув, Алина Емельяновна сжала нож еще крепче и шарахнулась назад, но споткнулась об узел щупалец и рухнула на оказавшийся рядом стул. В спину резким ударом впилась деревянная спинка, однако боль в позвоночнике проскользнула мимо ошарашенного сознания.
- Не бойся, Алина. Это я, Мать Душегубов, - прорычало существо, извлекая голос даже не из горла, а из противоестественной утробы. - Ты помнишь, как я являлась тебе во снах? Ты помнишь, что я предлагала тебе стать моей человеческой дочерью и проливать для меня кровь? И ты даже почти согласилась.
- Согласилась?.. – с трудом выдавила Алина Емельяновна. Слабость тянула к земле, и рука с ножом ходила ходуном. Она поверить не могла, что имеет дело с существом, которое навещало её во снах, коварно принимая облик симпатичного ей юноши. Возможно, ей и сейчас снился сон: слишком уж запредельным казался крадущийся холод, слишком уж сумрачным был воздух, пахнущий несвежей кровью.
- У меня было много человеческих детей. К сожалению, они уже не могут убивать, потому что стали слишком наглыми. Один, например, кусал свои жертвы и оставлял на них следы зубов, хотя знал, что его могли вычислить по стоматологической карте. Второй писал от руки стихотворные записки и оставлял их возле трупов. Его, естественно, тоже в итоге посадили. Но ты, Алина, кажешься мне достаточно разумной. Не думаю, что ты будешь тратить мой подарок на такую ерунду.
Алина Емельяновна задрожала. Происходящее всё отчетливее напоминало ночной кошмар, затягивающийся вокруг горла смертельной петлей, вот только проснуться почему-то не удавалось. Алина Емельяновна ущипнула себя за руку и ощутила вполне реальную боль. Настоящей была эта боль, настоящей была Мать Душегубов, пришедшая из гибельных долин. И сны, полные задушевных бесед с кадавром Пряниковым, и его заманчивые предложения, которые стали вспоминаться лишь теперь, будто с них сняли печать забвения… У Алины Емельяновны пересохло в горле.
- То есть, ты собираешься помогать мне с убийствами? С убийствами девочек? – осторожно поинтересовалась она. – И хочешь получить что-то взамен?
- Именно так, Алина. Я сделаю тебя практически неуловимой и впущу в Хмарь, где ты сможешь беспрепятственно искать красивых мертвецов по кладбищам и моргам. А взамен мне нужны всего лишь мертвые девочки и хорошее шоу.
- Хмарь? – переспросила Алина Емельяновна.
Мать Душегубов сгорбленно скользнула вперед и заглянула ей в глаза:
- Мертвый, затерянный во времени мир. Он будет принадлежать только тебе. Можешь считать, что это пыточная камера для детей, которых ты так ненавидишь.
- И что же именно требуется с моей стороны?
- Кровь! Кости! Плоть! – забулькала уродливым смехом Мать Душегубов, и по её щупальцам прокатилась волна радостного тремора. - Богатая фантазия, способная утолить мою жажду смерти!
Алина Емельяновна немного успокоилась и воткнула нож в свиную голову. Обрели кинематографическую яркость подспудные видения: синюшное девичье лицо с распухшим языком, мумифицированный труп, одетый в пионерскую форму, болезненно красочные фотографии, на которых истекали кровью отрубленные конечности…
- С воображением у меня всё отлично, - буркнула Алина Емельяновна, - но почему я?
- Потому что тебя возбуждают мертвые мужчины, однако убивать ты хочешь девочек - убивать посредством удушения, хотя женщины такого рода обычно предпочитают яд, - прорычала Мать Душегубов, и на этот раз в её монструозном голосе даже послышалось нечто, напоминающее теплоту. - К тому же, ты мечтаешь о коллекции мумий. Мне по душе твой необычный интерес.
Алина Емельяновна самодовольно хмыкнула. Мать Душегубов кувыркнулась, и слизисто-красные щупальца вязко повисли в воздухе, полностью скрыв её устрашающий облик. За красноватым облаком, которое шевелилось, словно дождевые черви в консервной банке, раздался булькающий рык:
- Через семь дней я вернусь и удочерю тебя. Подготовься как следует.
После этих слов Мать Душегубов исчезла, забрав с собой могильный холод иных миров, сумрак мира мертвых и тяжелую вонь кровавых бань. Минут десять Алина Емельяновна сидела без единого движения, осмысливала произошедшее и улыбалась в пустоту. За приоткрытой дверью зала шипела кошка, настороженно сверкая зелеными огнями глаз.
Всю следующую неделю Алина Емельяновна пыталась поймать себя на признаках невменяемости, но терпела фиаско. Галлюцинаций она не имела, соседей шпионами не считала, а от провалов в памяти не страдала. Одолевали лишь фантазии, в которых фигурировали задушенные, распотрошенные, повешенные перед камерой девочки, но об этом Алина Емельяновна думала уже пятый год, так что вряд ли это можно было считать признаком безумия.
Через неделю вернулась, подтвердив свою реальность, Мать Душегубов. Она удочерила Алину Емельяновну, напоив её дегтярно-черной кровью из надкушенного щупальца, и вложила во влажную ладонь ключ к Хмари – старый детский калейдоскоп. Начало серии Мать Душегубов приказала отложить на весну: нужно было сначала овладеть специфическими знаниями, а уже потом достойно дебютировать.
Однако Алине Емельяновне и без убийств было чем заняться. Впервые посетив Хмарь, поделенную мембранами на слои времени, Алина Емельяновна испытала сосущий дискомфорт и светлую ностальгию одновременно, потому что перед ней предстал безжизненный слепок Смородинского микрорайона, где не было ни людей, ни птиц, ни животных. Алине Емельяновне не повезло оказаться в Хмари днем, когда мертвое безмолвие, смазанные очертания поблекших предметов и вздрагивающий, словно от жары, прохладный воздух, производили наиболее отталкивающее впечатление, напоминая замыленную атмосферу vhs-кассет. Мутно-желтая полоса пляжа, сероватая лента Смородины с расплывчатым гребнем лесополосы и призрачно-голубое небо складывались в мозаику опустошенности. Внимательно приглядевшись, можно было заметить зыбкие дымчато-серые силуэты людей, которые купались в реке живого, нагретого солнцем Павлозаводска. Тени, напоминающие сгустки тумана, практически не двигались: время в Хмари текло медленнее, и одни сутки здесь равнялись минуте в мире живых людей. Впрочем, после наступления темноты изъяны Хмари уже не бросались в глаза, потому что слабо отличались от паршивой погоды, характерной для ночного российского ненастья.
К концу августа Алина Емельяновна объездила практически всю Ленинскую область, напрочь лишенную человеческого присутствия и дублирующую мир живых, но никак не наоборот. В практическом плане это значило, что в дубликате автомобиля можно было перевозить трупы, не боясь оставить в багажнике оригинала обличающие улики: кровавые пятна, волосы жертв и образцы почвы с их обуви. Калейдоскоп был идеальным инструментом для совершения преступлений.
Штудируя учебники, по которым изучали криминалистику будущие сотрудники органов, Алина Емельяновна не забывала и о плотской страсти, помнящей многочисленные фотографии похорон из фотоальбомов прабабушки. Первым мертвым любовником стал, конечно же, Максим Пряников – то ли самоубийца, то ли наркоман, похороненный на Коряковском кладбище. На свидание с ним Алина Емельяновна отправилась, закинув в багажник штыковую лопату, гвоздодер и большую шляпную коробку розового цвета.
Раскапывать могилы оказалось непросто, и с непривычки Алина Емельяновна провозилась почти шесть часов: руки гудели от усталости, волосы промокли от пота, а резиновые сапоги комьями облепила грязь. Но усилия были вознаграждены. Под гниловатой крышкой гроба покоился скелетированный Пряников. Он утопал в темно-красном атласе, покрытом темными разводами давнего гниения, и источал затхлый аромат ветхости пополам с влажным деревом. На удивление хорошо сохранилась густота черных волос, отделившихся от желтовато-белого черепа, а квадратные очки с минусовыми диоптриями уменьшали темные глазницы, придавая им дополнительную глубину. Белая рубашка за годы посмертия превратилась в землистого цвета тряпку, однако черный костюм и обувь остались практически нетронутыми. И волосы, и складки одежды были испещрены куколками погибших насекомых. Алина Емельяновна кокетливо подмигнула Пряникову, захрустела хитиновыми покровами и поцеловала его в лоб. На шершавой кости вспыхнул огненно-красный отпечаток губной помады.
Шляпная коробка вместила в себя и одежду Пряникова, и его кости. После смерти юный суицидник определенно стал компактнее.
Больничные морги Алине Емельяновне не нравились, потому что все свежие трупы в них принадлежали глубоким старикам, которые если и были когда-то красивыми, то на пути к смерти всю свою миловидность растеряли. Зато приятно радовали судебные морги. В их холодильных камерах дожидались вскрытия молодые мужчины - жертвы бытовых убийств, совершенных в пьяном состоянии. Обнимая красивые трупы молодых маргиналов, которые цвели багрово-черными язвами ножевых ранений и пахли формалином, Алина Емельяновна даже сквозь одежду ощущала леденящий холод смерти, исходящий от их обнаженной кожи. Потенция умершего, которая и при жизни не могла похвастать стабильностью, никакой роли не играла: главным для любого трупа преимуществом оказывались достаточно длинные и окоченевшие пальцы.
Серия началась весной. Первое убийство прошло как по маслу: рыжая девочка задохнулась, не дожив до конца Международного женского дня. Вторая девочка задохнулась еще быстрее, и смерть снизошла на неё в святую Пасху. А третья пока даже не подозревала, что предстоящий Первомай окажется последним в её жизни – несуразной, зародившейся во время пьяного зачатия, не имеющей никакой ценности.
Съездив в Матросовский микрорайон и выбросив отрубленную ногу на промзоне, Алина Емельяновна вернулась домой в 00:45. Нужно было выспаться перед рабочим днем, однако впечатление от убийства оказалось слишком волнующим. Алина Емельяновна рассматривала мрак спальни, а привыкшие к темноте глаза поминутно запинались об тяжелую фоторамку, в которой бледнел квадрат носового платка. Темное кровавое пятно на нем напоминало раздавленного осьминога. Кровь принадлежала единственному живому мужчине, которого Алина Емельяновна посчитала красивым – потому что тот был избит, находился без сознания и выглядел, как жертва убийства.
Началось это знакомство в девяносто девятом году, когда Алина Емельяновна только начинала работать в школе и приучала к порядку семилеток из класса «Д». Парочка забияк среди них имелась, однако самым невыносимым был отстраненный, погруженный в себя невротичный недотепа, которого эти забияки поддразнивали. Он был классическим ботаником в роговых очках, воспитывался бабушкой и носил солидно звучащее имя Евгений Фишер. Помимо уродливых очков он обладал еще и крупными, плотно теснящимися во рту зубами, которые, когда Фишер улыбался, обнажались вместе с верхней десной. Про себя Алина Емельяновна называла эту гримасу «улыбкой людоеда».
По сучонку Фишеру плакала то ли спецшкола, то ли смородинский психдиспансер: своенравный мальчишка без спроса выходил из кабинета, всегда считал, что виноваты другие – даже если виноват был он, и искренне не понимал, за что его ругают. Когда над ним начинали подшучивать ребята, сидящие сзади, он перескакивал, как козленок, через парту и набрасывался на обидчиков с кулаками. Однако драки в школе были запрещены.
- Паршивец! Гнида! – презрительно выпаливала Алина Емельяновна, пока Фишер, стоящий спиной к классу, вздрагивал всякий раз, когда указка впечатывалась в школьную доску прямо над его головой. – Нравится действовать мне на нервы, сволочь близорукая? Любишь, когда на тебя орут?
Со временем Фишер все-таки научился соблюдать правила человеческого общежития. Драться, впрочем, не перестал, хотя первым больше не бил: теперь он провоцировал противника на удар, чтобы тот стал зачинщиком драки и, следовательно, виновным в большей степени. Фишер стал хитрее и действительно превратился в гниду.
Экзекуции прекратились вместе с уроками музыки, когда Фишер перешел в средние классы. Время от времени Алина Емельяновна замечала его в беленых школьных коридорах, но теперь она видела перед собой недоверчивого, уязвленного, подловатого мальчика, которого одноклассники глумливо называли Стукачом. Унизительное прозвище, вероятнее всего, было заслуженным. При каждой встрече Алина Емельяновна наслаждалась жалким видом Фишера, который передвигался деревянной походкой, слегка сутулился и затравленно сверкал темными глазами, а при резких шумах рефлекторно втягивал голову в плечи, словно фронтовик, измученный ПТСР. Ничто не радовало Алину Емельяновну сильнее, чем страдающие, презираемые дети.
Став восьмиклассником, Фишер поменял уродливые роговые очки на вполне приемлемые квадратные, и в лице сучонка явственно проступили черты, роднящие его с Максимом Пряниковым. Особенно усиливал сходство крючковатый нос с горбинкой, напоминающий клюв стервятника. В черством сердце Алины Емельяновны вновь разгорелся садистский интерес.
Два раза ей даже удалось его утолить. В мае девятого года Алина Емельяновна, перекусывая в столовой, заметила через широкое окно, что Фишер с красной повязкой дежурного направляется своей несуразной походкой к цветущему яблоневому саду. Оставив на столе недоеденный обед, Алина Емельяновна устремилась к выходу. Она надеялась поймать сучонка с сигаретой, как следует на него накричать, а затем оттащить за ухо к директору. Желательно, дождавшись перемены, чтобы унижение стало публичным.
Однако произошло всё совсем иначе. Подкравшись к яблоневому саду, Алина Емельяновна стала свидетельницей любопытного зрелища: долговязый старшеклассник в розовой рубашке топил туповатого Фишера в луже, а тот подергивался под его коленом и, видимо, захлебывался. Алина Емельяновна задумалась. Агрессия была более серьезным проступком, чем курение. Унизить следовало того, кто махал кулаками. Приняв решение, Алина Емельяновна вмешалась и надавала малолетнему гопнику затрещин. Фишер при её виде почему-то оробел и с места происшествия скрылся.
Второй эпизод случился в сентябре того же года. Проходя мимо школьного забора, с бетонной кромки которого свешивались рыжевато-зеленые ветви рябины, Алина Емельяновна уловила краем уха странный шум. Она остановилась и прислушалась. Судя по глухим ударам и тихим стенаниям, кого-то избивали, называя при этом стукачом. Алина Емельяновна мечтательно улыбнулась: ей хотелось бы собственными глазами увидеть, как беспомощному Фишеру в кровь разбивают лицо. Голоса тем временем утихли. Возобновились удары – на этот раз уже без комментариев.
В нужном углу школьного стадиона Алина Емельяновна оказалась через несколько минут, однако в кустах обнаружила лишь Фишера, который без сознания валялся на земле, приминая виском рябиновые листья. Побитое лицо было испачкано свежей кровью, на щеке засыхал плевок, а по правой линзе очков змеилась трещина. В песке, среди окурков, мятых ягод и засыхающих темных капель, лежал небольшой нож с обагренным лезвием. Алина Емельяновна хмыкнула. Загадочность ситуации лишь распаляла любопытство.
Убедившись, что поблизости никого нет, Алина Емельяновна перекатила Фишера на спину и вытянула его руки вдоль туловища, чтобы он напоминал мертвеца, лежащего в гробу. К счастью, школьная форма, состоящая из брючного костюма и рубашки, это сходство подчеркивала. Не хватало только галстука, да и лицо было слишком грязным. Достав из кармана длинной юбки носовой платок, Алина Емельяновна стала приводить Фишера в порядок. Она легкими движениями прикладывала платок к коже, и по белой ткани алыми пятнами расползалась кровь. Всего этого побитый стукач не видел. Несомненно, если бы видел, у него возникло бы множество вопросов.
Фишер пришел в себя, когда Алина Емельяновна стояла над ним и любовалась хрупкой игрой света на припухшем лице. Он кажется, не совсем понял, что произошло, но очень удивился. Однако сразу же вскочил, попросил никому об увиденном не рассказывать и стал, как маленький преступник, деловито приводить себя в порядок. Фишер так торопился, что даже не пошел к главным воротам школы, а ловко перелез через забор. Забрав перед этим нож, который, по всей видимости, принадлежал именно ему.
Просьбу стукача Алина Емельяновна выполнила, а носовой платок спрятала в ящике швейного стола, чтобы уберечь глаза мужа от неприятной находки. Фишер по-прежнему оставался отстраненным, однако теперь его переполняла холодная самоуверенность. Затравленности, которая так нравилась Алине Емельяновне, больше не было, и даже сильное сходство с Пряниковым не имело теперь такой ценности, как прежде.
Овдовев, Алина Емельяновна вставила носовой платок в рамку, как памятную фотографию, и повесила в спальне над кроватью. Кровь Фишера, который годами был для одноклассников козлом отпущения, за минувшую декаду стала коричнево-бурой, однако до сих пор навевала сладостные воспоминания: маслянистый жар сентябрьского дня, тихий шелест увядающей рябины и смертельно прекрасное, замаранное кровью юношеское лицо.
Глава 4
Раскрашенная птица
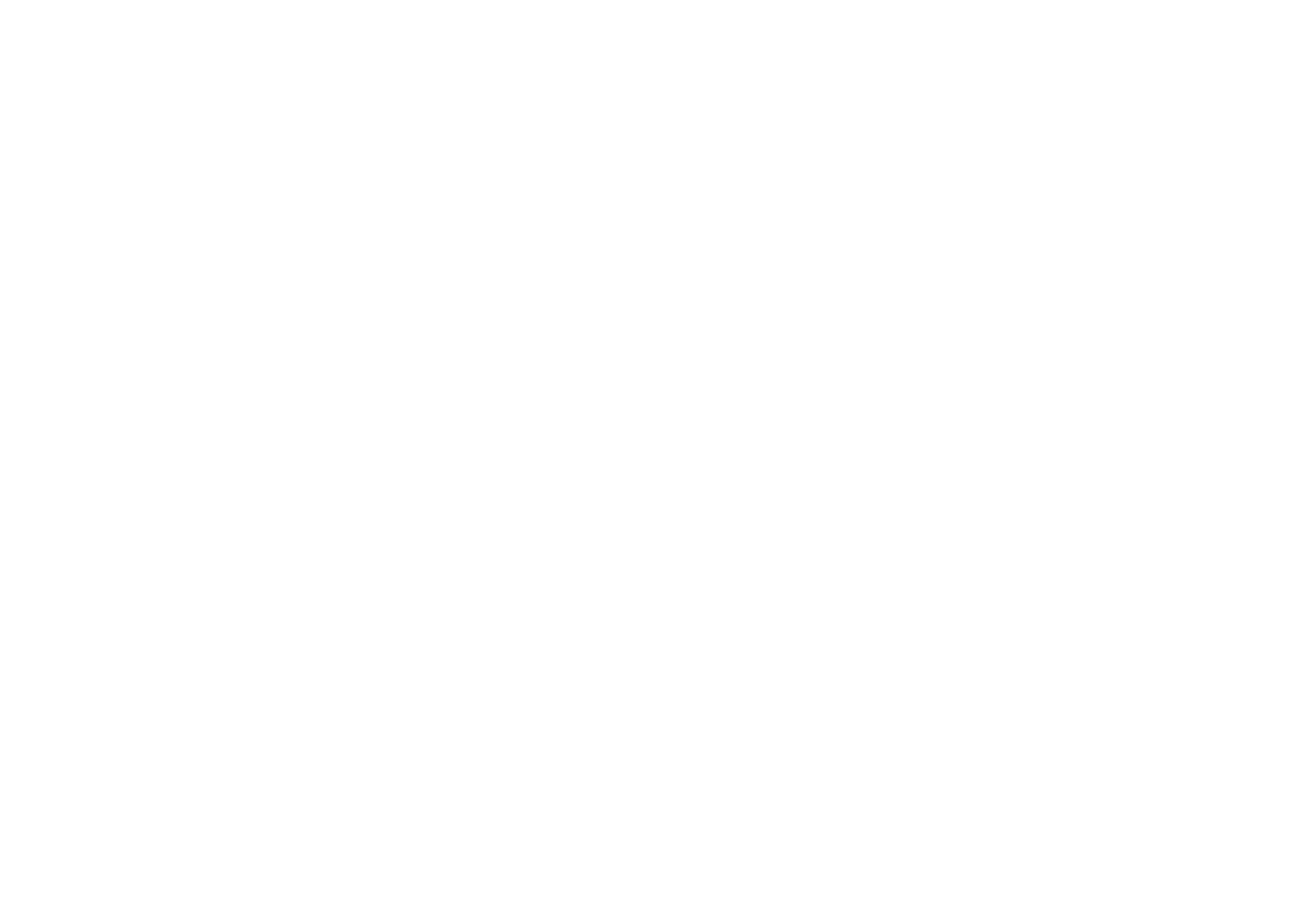
1969 год, 19 января
Молодой мишлинг Октав Леопольд Гаже, сын французской еврейки Софи Гаже и австрийца Эрвина Гундлаха, брак которых не состоялся по расовым причинам, просыпался обычно поздно, однако это не мешало ему быть состоятельным. Заключался его достаток в подержанном автомобиле и двухкомнатной квартире, где Октав проживал совсем один, пока его соседи по панельным окраинам обитали в подобном метраже плодовитыми семьями.
Обставлена квартира была по-современному, а квадратное окно спальни выходило на восток. По утрам в комнате медленно таял густой полумрак, опускалась к полу, как нож гильотины, полоса дневного света, а темный колер стен наливался болотной зеленью. Не стал исключением и этот день. Бледное лезвие света скользнуло по алому торшеру и упало на полосатое одеяло, под которым скрывался спящий Октав. Зазвонил на прикроватном столике дисковый телефон, разорвав вязкую тишину. Одеяло зашевелилось, гладкую трубку обхватили искривленные пальцы, и над клетчатым линолеумом повисла черная спираль провода.
- Алло, - сонно произнес Октав. Взлохмаченные черные волосы, карие глаза с тяжелыми веками и чрезмерно выраженная горбинка семитского носа придавали ему сходство с подстреленным стервятником, который слишком долго полз по камням, волоча за собой раненое крыло.
- Просто напоминаю, что ты собирался сегодня со мной встретиться. Не опаздывай, - раздался по ту сторону линии мужской голос, искаженный шипением мембраны. Этот обманчиво мягкий баритон мог бы принадлежать эстрадному певцу-крунеру, но принадлежал, к сожалению, хладнокровному садисту из крипо.
- Конечно, само собой. Я не опоздаю, - вымученно улыбнулся Октав и положил трубку. Вместе с очередным пробуждением вернулось неизбежное осознание того, что у него есть тягостная и нервная обязанность: не только торговать наркотиками, находясь под опекой семьи Кляйн, но и держать ухо востро, грубо нарушая моральный кодекс семьи Кляйн.
Октав потер ладонями отекшее лицо и надел очки. Водянистый мир обрел острые контуры, а в широком зеркале, стоящем напротив кровати, Октав увидел собственное отражение, над которым висел абстрактный пейзаж в черно-синих тонах. Справа от зеркала располагался письменный стол: круглые часы с прозрачным ободком показывали полдень, а под аптекарскими весами поблескивали гири. Октав повернул голову к окну. Сквозь серую муть облаков проглядывало слепое бельмо солнца.
Одевшись прилично по меркам своего асоциального слоя, Октав спрятал макушку под шляпой из черного фетра, положил в карман пальто заряженный «вальтер» и вышел из квартиры. Лифт не работал. Октав спустился пешком, припадая по обыкновению на левую ногу. В руке он держал ключи от машины, а зубами сжимал сигарету, которая оставляла в воздухе зыбкую струйку дыма.
Геббельсовские кварталы, построенные после войны, Октава не раздражали. Шершавые железобетонные коробки, - типовые единицы архитектурного проекта, - заслоняли вид на центральные громады Берлина, пропитанные кровью, смертью и отравляющим газом. С восточной окраины невозможно было разглядеть, как багровеет под солнечными лучами медный купол Дома народа, напоминающий абсцесс, готовый вот-вот лопнуть. Взгляд падал лишь на мокрый от снега асфальт, серые панели многоэтажек и металлические крыши автогаражей. В одном из таких гаражей хранилась машина, которой Октав гордился - темно-синий «ситроен», плавными очертаниями напоминающий скорее ракету, стремящуюся вперед, нежели автомобиль. К тому же, недешевая «богиня», как называли эту модель французы, спасала Октава от нежелательного внимания полиции. На дорогах его останавливали крайне редко.
До встречи с Хайни оставалось чуть больше двух часов, и Октав решил провести их в кинотеатре «Штерн». Фильмы, которые шли в официальном прокате, были Октаву не по душе, однако его манило ощущение уединения, неизбежно сопровождающее будничные сеансы. Помимо Октава в мягкой черноте кинозала сидели безликие силуэты, подсвеченные экраном, на котором показывали патриотический триллер «Сын отечества». В холодной гуще цвета британский шпион пытался выкрасть чертежи боевых ракет, а завербованный им молодой предатель вел себя, как карикатурный гомосексуалист. Умирала от пулевого ранения работница военного завода, истекая кровью и показывая зрителям черную резинку чулка на бледном бедре. Властный эсэсовец, белокурая бестия, награжденная Железным крестом, успешно раскрывал заговор и передавал шпиона властям. Октав не заметил, как закончился фильм. Он представлял свой затылок, развороченный пулей, и уже в который раз ловил себя на том, что мысль о смерти больше не вызывает у него панического содрогания.
Когда Октав подъехал к оси Запад-Восток, ему нестерпимо обожгло глаза медными всполохами, которые скакали по куполу Дома народа. Октав дернул уголком рта, но машинально сдержал гримасу отвращения. За белоснежным мерцанием берлинского гранита таилась пляшущая смерть, которая в сороковых пожинала урожай концлагерных заключенных, изнуренных голодом и трудом. Ослабшие руки роняли кирку в пыль каменоломни, следом падал тощий человек в полосатой робе, и тело, помертвевшее еще при жизни, переставало функционировать окончательно, как поврежденный часовой механизм. Центр Берлина был построен на крови, унавожен мором. Октав смотрел на ржавое зарево, но видел лишь бледные тени прошлого, тусклые отсветы крематорского огня, который пожирал обнаженные трупы, превращая их в прах, обезличенную массу, черный песок времени. В центре Берлина должен был стоять сладковатый смрад сжигаемой плоти, однако пахло всего лишь выхлопными газами.
К Музею дегенеративного искусства Октав подъехал без пяти минут три. Вид у здания был нарочито неприглядный: рыжий кирпич, жестяная вывеска с готическим шрифтом и влажные бетонные ступени, ведущие к узкой двери. Живопись безумцев не заслуживала мрамора и гранита. Октав убедился, что за ним никто не следит, и поднялся по крыльцу, слегка подволакивая ногу. Внутри музей выглядел не лучше. Картины были развешаны по залу вплотную друг к другу, создавая подчеркнутую дисгармонию, а беленые стены и серый кафель из-за слабого освещения казались грязными.
Посетителей не было. Лишь Хайни, высокий и слегка меланхоличный мужчина нордической наружности, одетый в светлый плащ, стоял перед рисунком Отто Дикса и делал вид, что рассматривает гротескных солдат, противогазы которых напоминали слоновьи морды. «Насмешка над немецкими героями», - сообщала крупная подпись, которой цензурный комитет подменил настоящее название картины. Заслышав медленный стук шагов, Хайни обернулся и расплылся в вежливой улыбке. Октав подошел к нему и с некоторым запозданием пожал протянутую руку.
- Что сразу не поздоровался? Хотел подойти ко мне незаметно? – спросил Хайни, улыбнувшись еще шире.
- Кровь обязывает трусливо подкрадываться со спины, - мрачно отшутился Октав, подчеркивая выбором слов врожденную картавость.
- Ближе к делу, Октав. Самоуничижительные шутки твое положение не исправят. Надеюсь, ты вытащил меня в эту выгребную яму ради действительно важных новостей.
- Десятого февраля должен прийти груз из Нидерландов, - понизил голос Октав, - три тонны кустарного первитина, в таблетках. Конкретный маршрут мне пока неизвестен, но точно могу сказать, что повезут морем, через порт в Бремене.
Хайни вскинул брови и даже присвистнул, мысленно подсчитывая поощрения, положенные ему за участие в таком серьезном расследовании. И хотя руководил расследованием инспектор Нейдорф, физически развитый брюнет с усами а-ля Гитлер, которые выдавали в нем консерватора, Хайни тоже мог кое на что рассчитывать.
С инспектором Нейдорфом и его любимым помощником Октав познакомился три недели назад и до сих пор не мог вспоминать об этом без дрожи отвращения, направленного не только на них, но и на самого себя. Нейдорф в тот день расколол Октава за полтора часа, поместив его в максимально угнетающую обстановку. Серые стены комнаты для допросов неуловимо сливались с темнотой, которая клубилась в углах, а за яркой настольной лампой виднелся черный силуэт с едва различимыми, как на карандашном наброске, чертами лица. В полумраке Нейдорф немного напоминал Гитлера, а довершал тошнотворное впечатление тяжелый циркуль для замера черепа, который Нейдорф держал в руке. Повинуясь движениям обветренной кисти, циркуль шевелился под светом лампы, и его стальные изгибы загорались бледными искрами.
- Что еще мы найдем, если как следует обыщем твой лапсердак? А, Гаже? – заговорила темнота угрюмым голосом инспектора Нейдорфа. Циркуль вкрадчиво переместился в центр желтушного пятна и коснулся ножками двух предметов, которые изъяли у Октава: свертка из вощеной бумаги, где было пятьдесят граммов кокаина, и вороненого «вальтера» со спиленным номером.
Октав пытался собраться с мыслями и успокоиться, однако давящая телесная боль рассеивала внимание, а руки, скованные наручниками за спинкой стула, нехорошо немели. Въедливо пульсировал затылок, по которому Нейдорф в приступе гнева ударил тяжелым циркулем. Чужое присутствие за спиной и резиновый шланг кричаще-синего цвета, то и дело мелькающий на периферии зрения, изрядно нервировали Октава. Он не сомневался, что сейчас его снова изобьют.
- Впрочем, какой из тебя Гаже? В твоем свидетельстве о происхождении указано, что девичья фамилия твоей матери – Либерман, - произнес Нейдорф с нескрываемой брезгливостью, - это многое говорит о твоей личности, свинья. Как и все евреи, ты безнадежно ленивый, поэтому по профессии почти не работал, а только людей дурил.
- За это я уже отсидел, - вяло возразил Октав. Скрипнула лампа, и желтоватый свет ударил прямо в глаза, заставив его поморщиться.
- Снова будешь отрицать, что курируешь продавцов в Нойкёльне?
- Буду, - пробормотал Октав.
- И на семью Кляйн ты тоже не работаешь?
- У меня нет знакомых с фамилией Кляйн.
Октав лгал, не имея надежды на то, что ему поверят, ведь его причастность к преступлениям семьи Кляйн, которая состояла из неблагополучных мишлингов и контролировала восток Берлина, была слишком очевидной. Очевиден был и высокий статус Октава, потому что Нойкёльн был опасным районом, где проживали расовые аутсайдеры и богемная молодежь, и безалаберному наркоторговцу его бы попросту не доверили.
- Ты чего добиваешься, унтерменш? – хрипло спросил Нейдорф, сидящий за лампой. – Хочешь, чтобы мы тебя убили прямо здесь?
- Нет, – возразил Октав. Боль в затылке поминутно распускалась, как хищный цветок, питающийся мушиными трупами. Свет слепил глаза, вынуждая Октава отворачиваться, однако чужая рука неизменно возвращала его голову в прежнее положение.
- Знаешь, чего я не понимаю, дегенерат? Того, что наш новый фюрер считает Европу свободной от евреев, хотя вы до сих пор живете среди нас, - встал Нейдорф и окончательно растворился в серой темноте, - надо было устранить вас всех еще тогда, не делая никаких исключений. Лично я считаю, что стерилизация – это слишком гуманная мера для мишлингов.
Октав нервно сглотнул и замер. Речь Нейдорфа, явно придуманная загодя, звучала, как прелюдия к чему-то неизвестному, но крайне мучительному, и лишь нелюбовь к нацистам мешала Октаву открыто выразить страх. Из сибирского опыта он вынес тяжелый, но полезный урок: страх лишь раззадоривает нацистов, и они входят в раж, как служебные собаки, которые, ощущая сопротивление пойманного беглеца, сжимают челюсти еще крепче.
- Хайни, разберись с этим жидом, - лаконично приказал Нейдорф.
- С удовольствием, - раздался за спиной у Октава приятный мужской баритон.
Шею тут же перехлестнул и сдавил резиновый шланг. Вдох уперся в сжатое горло, не находя пути внутрь, а периферию зрения заволокла серая пелена. Октав надсадно хрипел и вхолостую хватал ртом воздух, превозмогая резкую боль в гортани, а скованные руки дергались, цепляясь пальцами за пустоту. Перед распахнутыми глазами сгустилось марево воспоминаний, тошнотворно пахнущее дешевым табаком и одеколоном «Альпы». Октав задергался в судорогах. Крупно дрожали ноги, отрывисто стуча ботинками по полу. Ощущение принадлежности собственному туловищу пропало, оставив взамен лишь сокрушительную тяжесть наступающей смерти, которая смешала годы, лица и города, освежила застарелую память. Мыслями Октав находился не здесь и не сейчас, он не помнил, как Хайни время от времени давал ему подышать, а затем вновь душил, не помнил свой осипший голос, слезно обещающий заслужить жизнь любым способом, не помнил вопросов, которые задавал довольный Нейдорф и быстро получал на них ответы.
Однако когда Октав пришел в себя, диктофон инспектора Нейдорфа обо всем ему напомнил. Прослушав сначала свои несвязные рыдания и сбивчивые признания, а затем и обещание доносить на семью Кляйн, Октав осознал, что не откупился от смерти, а всего лишь отложил её на неопределенный, но однозначно небольшой срок. Предателей семья Кляйн не прощала.
- Можешь отказаться, конечно, - произнес Нейдорф, разглядывая его перекошенное лицо, - но в таком случае, когда начнется утечка информации, они получат веское доказательство, что стукач – именно ты, а не кто-то еще. Сам знаешь, что за этим последует.
«Oy gevalt[34]…» - подумал Октав, неосознанно перейдя в мыслях на идиш, как это обычно случалось в худшие моменты его жизни. Изнуренное туловище норовило упасть на пол вместе со стулом, и Октав с трудом держался ровно, цепляясь за ничтожные остатки сил.
[34] «О, господи…»
- Ты не только преступник, Либерман, ты еще и припадочный. Дефективный по всем параметрам. Лучше бы тебя не стерилизовали, а ликвидировали. Вы все такие, с плохой генетикой. Полуслепые, сутулые и сумасшедшие.
Октав затравленно выдохнул и спрятал взгляд, скорее уронив гудящую голову, чем опустив её. Нервные состояния, страдать которыми Октав начал после концлагеря, проявились сегодня слишком уж ярко, впервые став его слабым местом. Теперь жизнь Октава была в руках Нейдорфа, который мог в любой момент её оборвать, по собственной прихоти раздавив Октава в кулаке, как опарыша.
Покинув полицейский участок, Октав вернулся домой, задернул все шторы и достал из кухонного шкафа три бутылки вина. Остаток вечера он провел в спальне, опустошая одну бутылку за другой, и сам не заметил, как заснул. Проснулся Октав с тяжким ощущением похмелья, которое, впрочем, на время затмило жгучее чувство вины, прорастающее в Октаве горьким стеблем полыни. Утренняя тошнота оказалась настолько мучительной, что ему в какой-то момент померещилось, будто он вот-вот вывернется наизнанку, превратившись в бездыханную слизисто-красную тушу с черным нутром, но этого, к сожалению, не произошло.
Приготовив себе кофе, Октав нехотя вернулся к обыденному существованию. Лежа на красном диване, что располагался в зале, он безучастно слушал пластинки и курил. Пепельница наполнялась окурками, одна монотонная мелодия сменяла другую, а синие стены казались черными в полумраке задернутых штор. Когда время, потерявшее счет, перевалило за полдень, Октав неожиданно для себя осознал, что даже такую безвыходную ситуацию можно обратить себе на пользу. Нужно было лишь как следует подготовиться.
- Три тонны… Взять на поличном, конечно, можно. Вот только за такой вес и убить могут. Тебя, например, если случайно выяснится, кто именно на них стучит, - произнес Хайни вежливым тоном, в котором, однако, слышались садистские нотки.
- Меня убьют в любом случае. Или они, или вы, - беспомощно огрызнулся Октав. У него возникло иррациональное желание выстрелить в Хайни, однако от этой мысли он отказался, хоть и с трудом.
- Ты слишком плохо о нас думаешь, мы не склонны к предательству. В отличие от тебя, - строго сказал Хайни. – Помни свое место, сукин ты сын. Иначе твои коллеги узнают о тебе много нового.
Не найдя нужных слов, Октав потупился. Не стоило раньше времени привлекать к себе внимание. Чтобы потешить расовое самолюбие Хайни и притупить его бдительность, Октав кинул на него быстрый взгляд, придав распахнутым глазам скорбное выражение, а затем снова уставился в пол.
- Свяжись со мной, когда узнаешь подробности, - усмехнулся Хайни. Он похлопал Октава по плечу и бодро зашагал к выходу, насвистывая себе под нос. Когда искаженный мотив «Горного эдельвейса», исчез за хлопнувшей дверью, Октав выпрямился, и его взгляд вновь стал сонным и апатичным.
Завуалированные оскорбления, на которые Хайни был так щедр, злили его куда сильнее, чем неминуемая казнь, ведь со смертью Октав встречался уже не раз и теперь попросту её не боялся. Неважно было, кто именно за ним придет: костлявый der Tod[35], сжимающий в руке крестьянскую косу, зловещий la mort[36] на бледном коне или покрытый множеством глаз der toyt[37], готовый отнять жизнь Октава каплей яда с зазубренного ножа. Визит смерти был неизбежен, а её черный силуэт уже маячил за ближайшим углом.
[35] смерть (нем.)
[36] смерть (франц.)
[37] смерть (идиш)
Подглядывала ли смерть из-за куста сирени, когда Октав рос в еврейском гетто на окраине Парижа, когда сожитель матери обучал Октава карточным фокусам, обратив внимание на ловкость его пальцев, когда его мать добровольно шла ко дну Сены? Лезла ли смерть в окно, когда тринадцатилетнего Октава переселили в Лемберг[38], где жил его отец-нацист, когда медкомиссия обманом отправила Октава на стерилизацию, солгав об угрозе аппендицита? Кралась ли смерть по мощеному тротуару, когда Октав прогуливал уроки в компании ровесников, которые, как и он, оказались недостаточно сознательными для гитлерюгенда, но слишком примерными для исправительного лагеря? Сложно было сказать. Но смерть определенно подобралась слишком близко, когда из ребенка, обойденного вниманием взрослых, вырос аполитичный молодой человек, предпочитающий богемно одеваться, без меры пить и изредка танцевать под джаз, сдобренный парой таблеток первитина.
[38] Львов
Кое-как окончив медучилище, Октав выучился на фармацевта, потому что не мог стать полноценным врачом из-за происхождения, и два года проработал в частной аптеке, принадлежащей коренному львовчанину. Выходные Октав проводил на квартирах у знакомых, которым охотно показывал фокусы: невесомые карты веером перетекали из одной руки в другую, перемешивались в нужном Октаву порядке и на радость зрителям меняли масти. В те годы у Октава были здоровые, чувствительные пальцы, в те годы он еще не хромал.
Работа в аптеке вызывала моральные терзания, напоминающие рвотный рефлекс. Раз в месяц приходила с рецептом на барбитураты фройляйн Хельга Тишлер, высокая девушка с бледным лицом, медовым голосом и пластмассовыми эдельвейсами на шляпе. Голубые глаза, светлые букли волос и серый паспорт выдавали в Тишлер чистокровную немку, на которой Октав не мог жениться, даже будучи стерильным. Рейх запрещал смешанные браки такого характера, видя в Октаве осквернителя расы. Ему оставалось лишь разговаривать с Тишлер о лекарствах, незаметно сминая дрожащими пальцами белый халат.
В конце шестьдесят второго года Тишлер пришла с рецептом, выписанным уже на имя фрау Хельги Зоммерфельд. Уходя, она забыла на прилавке перчатку из черной замши, чуть пахнущую духами. Когда Октав припадал к мягкой перчатке и вдыхал лилейный аромат, у него перехватывало горло, будто замша была сбрызнута синильной кислотой.
Дожидаться следующего визита фрау Зоммерфельд Октав не стал. Он уволился, собрал чемодан и сел на поезд, следующий до Винницы. Соседом по купе оказался простоватый студент-фольксдойче[6], и Октав, поддавшись шальной мысли, которая определила его дальнейшую судьбу, предложил студенту сыграть в карты. Навыки, переданные отчимом-шулером, уже через полчаса обогатили Октава на три тысячи марок – месячный заработок фармацевта.
[39] этнические немцы, которые жили за пределами Третьего Рейха
Вопрос о профессии больше не стоял. Местом работы Октава стал рейхскомиссариат Украина. Отыскав в поезде или джаз-кафе подходящего кандидата, Октав непринужденно завязывал знакомство и представлялся Йозефом. Разложенные по карманам колоды, карты, спрятанные в рукавах бесформенного пиджака, и нестриженые ногти, которыми так удобно было наносить крап, обдирали жертву до последней рейхсмарки. Под конец Октав обычно позволял жертве отыграть часть кона, изображал нескрываемую печаль и уходил, забирая с собой солидный остаток. Октав катал вполовину, чтобы в нем не заподозрили шулера, а жертвы Октава обычно радовались тому, что смогли обыграть несуразного мишлинга.
На исходе первого года удача стала от него отворачиваться. В Бердичеве Октав сел играть с тщедушным мужчиной, похожим на школьного учителя, и с неприятным удивлением осознал, что играет тот слишком хорошо для любителя, которым назвался.
- Учись, друг мой, - дружелюбно сказал мужчина напоследок, выиграв у Октава все деньги и наручные часы, - а в целом неплохо, потенциал у тебя есть.
Чем дальше Октав углублялся на Восток, тем сильнее становилось понятно, что бояться стоило не полиции, а местных преступников, у которых с чужаками разговор был короткий, но красноречивый. В Житомире Октавом заинтересовались неприветливые молодчики, сильно отличающиеся от привычного контингента джаз-кафе - в тридцатых они бы с радостью записались в штурмовики. Хватило одного удара в челюсть, чтобы Октав собрал карты и поспешно ретировался.
В шестьдесят пятом началась полоса тотального невезения. Переломный момент произошел в Одессе, когда сосед по купе, онемеченный славянин, заподозрил неладное. Реакция последовала бурная: он назвал Октава каталой и жидом, присовокупив к этому угрожающий русский акцент. К счастью, поезд стоял на станции. Октав сорвался с места, сбежал в тамбур и через открытые двери выпрыгнул на перрон, оставив в купе и деньги, которые стремился выиграть, и новую шляпу.
Финал у трехлетней карьеры шулера оказался жалким, но предсказуемым. Три жителя Ялты, которые опознали Октава по фотороботу, догнали его на набережной, без церемоний скрутили и уткнули лицом в брусчатку. Въедливо шептало Черное море, пробивались сквозь толщу паники голоса неравнодушных прохожих, а кровь из разбитого носа размазывалась по холодным, мокрым из-за осеннего дождя камням. Октав пытался вырваться, но всякий раз его успокаивали пинком. Когда прибыл наряд крипо, Октав уже не сопротивлялся. Он обессилел и едва держался на ногах. К машине его пришлось волочь.
В следственной тюрьме с Октавом церемониться не стали и по приказу следователя определили в камеру, где уже сидели восемь татуированных националистов, которые зарабатывали на жизнь криминалом.
- Я наполовину немец. У меня в свидетельстве о происхождении так и написано, - опасливо предупредил их Октав, когда охранник запер за ним дверь камеры.
- А при чем тут свидетельство, если бить тебя мы будем по твоей жидовской морде? - с радостной ухмылкой произнес заключенный, который, видимо, был в камере смотрящим.
Октава в итоге действительно избили до потери сознания, однако перед этим он, сам удивившись своей ярости, выбил смотрящему несколько зубов. За драку Октава отправили в холодный карцер, где он провел две недели, после чего сознался во всех эпизодах, которые ему вменяли, благоразумно умолчав о жертвах, которые до полиции не дошли. Суд счел Октава асоциальным элементом и отправил отбывать наказание в рейхскомиссариат Сибирь. Освободился Октав два года спустя, выйдя из концлагеря калекой, и в ту же ночь совершил убийство, на которое, к счастью, никто не обратил внимания. Хоть Восток и представлял собой холодную пустошь, кое-какие преимущества у него всё же были.
Грязно-белые стены, пестрые квадраты картин и потертый кафель давили на Октава, сбивая дыхание, наполняя тело слабостью, проходя по внутренностям гадостной дрожью. Октав замер и усилием воли стряхнул фантомное ощущение локтя, сдавливающего горло. Он ощупью пересчитал пуговицы на обшлаге пальто, которых, как и всегда, было четыре. Повторив процедуру еще несколько раз, пока не пришло успокоение, Октав с облегчением покинул музей.
Воспоминания нервического юноши, которым Октав когда-то был, в последнее время навещали его всё чаще, и хотя принадлежали они совсем другому человеку, туловище по инерции реагировало на них излишне болезненно, будто повод для тревоги существовал на самом деле. Хотя он, конечно, существовал. Однако проживал в Сибири и вряд ли собирался её покидать.
Ближайшие несколько часов, которых обычно хватало, чтобы не спеша опорожнить бутылку вина, Октав решил провести в «Бабилоне». Пробравшись сквозь цветастый полумрак, шуршащий яркими платьями и неказистыми костюмами, он занял столик в дальнем углу, чтобы находиться как можно дальше от веселящейся толпы. Официант, отреагировав на один лишь взмах руки, принес Октаву бутылку красного сухого.
Желто-красные огни потолочных ламп пробегали по Октаву, как клопы, высвечивая то сигарету, зажатую в травмированных пальцах, то бокал с вином, которое походило в темноте на загустевшую кровь, то горбоносый профиль, тускло поблескивающий стеклами очков. Со стороны ярко освещенной эстрады доносился тягучий, хриплый клекот джазовых синкоп.
Октав не думал о том, что информация, которую он сообщил Хайни, была полностью правдивой, потому что это уже не имело значения. Его мысли были заняты совсем другим: Днем космонавтики, до которого оставалась неделя, мглистыми лесами Ораниенбурга, одного из берлинских пригородов, и уединенным домом, который Октав арендовал до марта, предъявив владельцу фальшивый паспорт на имя Йозефа Рихтера.
Подходящее место Октав искал долго, но в итоге остановил выбор на пригороде, возле которого располагался Заксенхаузен - главный концентрационный лагерь Третьего Рейха. Дом, из окон которого смутно виднелись его пулеметные вышки, отраженные застывшей гладью озера, подходил к намерениям Октава как нельзя лучше. Акт ресентимента должен был состояться именно там.
Ночью Октав спал как убитый и видел сумбурный пьяный сон. Его изуродованные руки раскапывали мокрую землю, комья почвы прилипали к пальцам. Безымянная могила медленно обнажала свое чрево, показывая Октаву впалый тифозный живот, испещренный грязно-розовой сыпью, тощую кисть, торчащую из ветхого рукава полосатой пижамы... Октав убрал горсть земли с того места, где должна была находиться голова мертвеца. В черноземе проступило сероватое лицо с неестественно очерченным контуром черепа, как в пособиях по краниометрии. Из-за крайней степени истощения глаза казались больше, чем были на самом деле, они мерцали в глубине глазниц, испуская неживое, стылое, дымно-желтое свечение. Из отрытого покойника выглядывал диббук[40], готовый покинуть умерщвлённую телесную оболочку и поменяться с Октавом местами.
[40] злой дух в фольклоре евреев-ашкенази, душа умершего человека
Молодой мишлинг Октав Леопольд Гаже, сын французской еврейки Софи Гаже и австрийца Эрвина Гундлаха, брак которых не состоялся по расовым причинам, просыпался обычно поздно, однако это не мешало ему быть состоятельным. Заключался его достаток в подержанном автомобиле и двухкомнатной квартире, где Октав проживал совсем один, пока его соседи по панельным окраинам обитали в подобном метраже плодовитыми семьями.
Обставлена квартира была по-современному, а квадратное окно спальни выходило на восток. По утрам в комнате медленно таял густой полумрак, опускалась к полу, как нож гильотины, полоса дневного света, а темный колер стен наливался болотной зеленью. Не стал исключением и этот день. Бледное лезвие света скользнуло по алому торшеру и упало на полосатое одеяло, под которым скрывался спящий Октав. Зазвонил на прикроватном столике дисковый телефон, разорвав вязкую тишину. Одеяло зашевелилось, гладкую трубку обхватили искривленные пальцы, и над клетчатым линолеумом повисла черная спираль провода.
- Алло, - сонно произнес Октав. Взлохмаченные черные волосы, карие глаза с тяжелыми веками и чрезмерно выраженная горбинка семитского носа придавали ему сходство с подстреленным стервятником, который слишком долго полз по камням, волоча за собой раненое крыло.
- Просто напоминаю, что ты собирался сегодня со мной встретиться. Не опаздывай, - раздался по ту сторону линии мужской голос, искаженный шипением мембраны. Этот обманчиво мягкий баритон мог бы принадлежать эстрадному певцу-крунеру, но принадлежал, к сожалению, хладнокровному садисту из крипо.
- Конечно, само собой. Я не опоздаю, - вымученно улыбнулся Октав и положил трубку. Вместе с очередным пробуждением вернулось неизбежное осознание того, что у него есть тягостная и нервная обязанность: не только торговать наркотиками, находясь под опекой семьи Кляйн, но и держать ухо востро, грубо нарушая моральный кодекс семьи Кляйн.
Октав потер ладонями отекшее лицо и надел очки. Водянистый мир обрел острые контуры, а в широком зеркале, стоящем напротив кровати, Октав увидел собственное отражение, над которым висел абстрактный пейзаж в черно-синих тонах. Справа от зеркала располагался письменный стол: круглые часы с прозрачным ободком показывали полдень, а под аптекарскими весами поблескивали гири. Октав повернул голову к окну. Сквозь серую муть облаков проглядывало слепое бельмо солнца.
Одевшись прилично по меркам своего асоциального слоя, Октав спрятал макушку под шляпой из черного фетра, положил в карман пальто заряженный «вальтер» и вышел из квартиры. Лифт не работал. Октав спустился пешком, припадая по обыкновению на левую ногу. В руке он держал ключи от машины, а зубами сжимал сигарету, которая оставляла в воздухе зыбкую струйку дыма.
Геббельсовские кварталы, построенные после войны, Октава не раздражали. Шершавые железобетонные коробки, - типовые единицы архитектурного проекта, - заслоняли вид на центральные громады Берлина, пропитанные кровью, смертью и отравляющим газом. С восточной окраины невозможно было разглядеть, как багровеет под солнечными лучами медный купол Дома народа, напоминающий абсцесс, готовый вот-вот лопнуть. Взгляд падал лишь на мокрый от снега асфальт, серые панели многоэтажек и металлические крыши автогаражей. В одном из таких гаражей хранилась машина, которой Октав гордился - темно-синий «ситроен», плавными очертаниями напоминающий скорее ракету, стремящуюся вперед, нежели автомобиль. К тому же, недешевая «богиня», как называли эту модель французы, спасала Октава от нежелательного внимания полиции. На дорогах его останавливали крайне редко.
До встречи с Хайни оставалось чуть больше двух часов, и Октав решил провести их в кинотеатре «Штерн». Фильмы, которые шли в официальном прокате, были Октаву не по душе, однако его манило ощущение уединения, неизбежно сопровождающее будничные сеансы. Помимо Октава в мягкой черноте кинозала сидели безликие силуэты, подсвеченные экраном, на котором показывали патриотический триллер «Сын отечества». В холодной гуще цвета британский шпион пытался выкрасть чертежи боевых ракет, а завербованный им молодой предатель вел себя, как карикатурный гомосексуалист. Умирала от пулевого ранения работница военного завода, истекая кровью и показывая зрителям черную резинку чулка на бледном бедре. Властный эсэсовец, белокурая бестия, награжденная Железным крестом, успешно раскрывал заговор и передавал шпиона властям. Октав не заметил, как закончился фильм. Он представлял свой затылок, развороченный пулей, и уже в который раз ловил себя на том, что мысль о смерти больше не вызывает у него панического содрогания.
Когда Октав подъехал к оси Запад-Восток, ему нестерпимо обожгло глаза медными всполохами, которые скакали по куполу Дома народа. Октав дернул уголком рта, но машинально сдержал гримасу отвращения. За белоснежным мерцанием берлинского гранита таилась пляшущая смерть, которая в сороковых пожинала урожай концлагерных заключенных, изнуренных голодом и трудом. Ослабшие руки роняли кирку в пыль каменоломни, следом падал тощий человек в полосатой робе, и тело, помертвевшее еще при жизни, переставало функционировать окончательно, как поврежденный часовой механизм. Центр Берлина был построен на крови, унавожен мором. Октав смотрел на ржавое зарево, но видел лишь бледные тени прошлого, тусклые отсветы крематорского огня, который пожирал обнаженные трупы, превращая их в прах, обезличенную массу, черный песок времени. В центре Берлина должен был стоять сладковатый смрад сжигаемой плоти, однако пахло всего лишь выхлопными газами.
К Музею дегенеративного искусства Октав подъехал без пяти минут три. Вид у здания был нарочито неприглядный: рыжий кирпич, жестяная вывеска с готическим шрифтом и влажные бетонные ступени, ведущие к узкой двери. Живопись безумцев не заслуживала мрамора и гранита. Октав убедился, что за ним никто не следит, и поднялся по крыльцу, слегка подволакивая ногу. Внутри музей выглядел не лучше. Картины были развешаны по залу вплотную друг к другу, создавая подчеркнутую дисгармонию, а беленые стены и серый кафель из-за слабого освещения казались грязными.
Посетителей не было. Лишь Хайни, высокий и слегка меланхоличный мужчина нордической наружности, одетый в светлый плащ, стоял перед рисунком Отто Дикса и делал вид, что рассматривает гротескных солдат, противогазы которых напоминали слоновьи морды. «Насмешка над немецкими героями», - сообщала крупная подпись, которой цензурный комитет подменил настоящее название картины. Заслышав медленный стук шагов, Хайни обернулся и расплылся в вежливой улыбке. Октав подошел к нему и с некоторым запозданием пожал протянутую руку.
- Что сразу не поздоровался? Хотел подойти ко мне незаметно? – спросил Хайни, улыбнувшись еще шире.
- Кровь обязывает трусливо подкрадываться со спины, - мрачно отшутился Октав, подчеркивая выбором слов врожденную картавость.
- Ближе к делу, Октав. Самоуничижительные шутки твое положение не исправят. Надеюсь, ты вытащил меня в эту выгребную яму ради действительно важных новостей.
- Десятого февраля должен прийти груз из Нидерландов, - понизил голос Октав, - три тонны кустарного первитина, в таблетках. Конкретный маршрут мне пока неизвестен, но точно могу сказать, что повезут морем, через порт в Бремене.
Хайни вскинул брови и даже присвистнул, мысленно подсчитывая поощрения, положенные ему за участие в таком серьезном расследовании. И хотя руководил расследованием инспектор Нейдорф, физически развитый брюнет с усами а-ля Гитлер, которые выдавали в нем консерватора, Хайни тоже мог кое на что рассчитывать.
С инспектором Нейдорфом и его любимым помощником Октав познакомился три недели назад и до сих пор не мог вспоминать об этом без дрожи отвращения, направленного не только на них, но и на самого себя. Нейдорф в тот день расколол Октава за полтора часа, поместив его в максимально угнетающую обстановку. Серые стены комнаты для допросов неуловимо сливались с темнотой, которая клубилась в углах, а за яркой настольной лампой виднелся черный силуэт с едва различимыми, как на карандашном наброске, чертами лица. В полумраке Нейдорф немного напоминал Гитлера, а довершал тошнотворное впечатление тяжелый циркуль для замера черепа, который Нейдорф держал в руке. Повинуясь движениям обветренной кисти, циркуль шевелился под светом лампы, и его стальные изгибы загорались бледными искрами.
- Что еще мы найдем, если как следует обыщем твой лапсердак? А, Гаже? – заговорила темнота угрюмым голосом инспектора Нейдорфа. Циркуль вкрадчиво переместился в центр желтушного пятна и коснулся ножками двух предметов, которые изъяли у Октава: свертка из вощеной бумаги, где было пятьдесят граммов кокаина, и вороненого «вальтера» со спиленным номером.
Октав пытался собраться с мыслями и успокоиться, однако давящая телесная боль рассеивала внимание, а руки, скованные наручниками за спинкой стула, нехорошо немели. Въедливо пульсировал затылок, по которому Нейдорф в приступе гнева ударил тяжелым циркулем. Чужое присутствие за спиной и резиновый шланг кричаще-синего цвета, то и дело мелькающий на периферии зрения, изрядно нервировали Октава. Он не сомневался, что сейчас его снова изобьют.
- Впрочем, какой из тебя Гаже? В твоем свидетельстве о происхождении указано, что девичья фамилия твоей матери – Либерман, - произнес Нейдорф с нескрываемой брезгливостью, - это многое говорит о твоей личности, свинья. Как и все евреи, ты безнадежно ленивый, поэтому по профессии почти не работал, а только людей дурил.
- За это я уже отсидел, - вяло возразил Октав. Скрипнула лампа, и желтоватый свет ударил прямо в глаза, заставив его поморщиться.
- Снова будешь отрицать, что курируешь продавцов в Нойкёльне?
- Буду, - пробормотал Октав.
- И на семью Кляйн ты тоже не работаешь?
- У меня нет знакомых с фамилией Кляйн.
Октав лгал, не имея надежды на то, что ему поверят, ведь его причастность к преступлениям семьи Кляйн, которая состояла из неблагополучных мишлингов и контролировала восток Берлина, была слишком очевидной. Очевиден был и высокий статус Октава, потому что Нойкёльн был опасным районом, где проживали расовые аутсайдеры и богемная молодежь, и безалаберному наркоторговцу его бы попросту не доверили.
- Ты чего добиваешься, унтерменш? – хрипло спросил Нейдорф, сидящий за лампой. – Хочешь, чтобы мы тебя убили прямо здесь?
- Нет, – возразил Октав. Боль в затылке поминутно распускалась, как хищный цветок, питающийся мушиными трупами. Свет слепил глаза, вынуждая Октава отворачиваться, однако чужая рука неизменно возвращала его голову в прежнее положение.
- Знаешь, чего я не понимаю, дегенерат? Того, что наш новый фюрер считает Европу свободной от евреев, хотя вы до сих пор живете среди нас, - встал Нейдорф и окончательно растворился в серой темноте, - надо было устранить вас всех еще тогда, не делая никаких исключений. Лично я считаю, что стерилизация – это слишком гуманная мера для мишлингов.
Октав нервно сглотнул и замер. Речь Нейдорфа, явно придуманная загодя, звучала, как прелюдия к чему-то неизвестному, но крайне мучительному, и лишь нелюбовь к нацистам мешала Октаву открыто выразить страх. Из сибирского опыта он вынес тяжелый, но полезный урок: страх лишь раззадоривает нацистов, и они входят в раж, как служебные собаки, которые, ощущая сопротивление пойманного беглеца, сжимают челюсти еще крепче.
- Хайни, разберись с этим жидом, - лаконично приказал Нейдорф.
- С удовольствием, - раздался за спиной у Октава приятный мужской баритон.
Шею тут же перехлестнул и сдавил резиновый шланг. Вдох уперся в сжатое горло, не находя пути внутрь, а периферию зрения заволокла серая пелена. Октав надсадно хрипел и вхолостую хватал ртом воздух, превозмогая резкую боль в гортани, а скованные руки дергались, цепляясь пальцами за пустоту. Перед распахнутыми глазами сгустилось марево воспоминаний, тошнотворно пахнущее дешевым табаком и одеколоном «Альпы». Октав задергался в судорогах. Крупно дрожали ноги, отрывисто стуча ботинками по полу. Ощущение принадлежности собственному туловищу пропало, оставив взамен лишь сокрушительную тяжесть наступающей смерти, которая смешала годы, лица и города, освежила застарелую память. Мыслями Октав находился не здесь и не сейчас, он не помнил, как Хайни время от времени давал ему подышать, а затем вновь душил, не помнил свой осипший голос, слезно обещающий заслужить жизнь любым способом, не помнил вопросов, которые задавал довольный Нейдорф и быстро получал на них ответы.
Однако когда Октав пришел в себя, диктофон инспектора Нейдорфа обо всем ему напомнил. Прослушав сначала свои несвязные рыдания и сбивчивые признания, а затем и обещание доносить на семью Кляйн, Октав осознал, что не откупился от смерти, а всего лишь отложил её на неопределенный, но однозначно небольшой срок. Предателей семья Кляйн не прощала.
- Можешь отказаться, конечно, - произнес Нейдорф, разглядывая его перекошенное лицо, - но в таком случае, когда начнется утечка информации, они получат веское доказательство, что стукач – именно ты, а не кто-то еще. Сам знаешь, что за этим последует.
«Oy gevalt[34]…» - подумал Октав, неосознанно перейдя в мыслях на идиш, как это обычно случалось в худшие моменты его жизни. Изнуренное туловище норовило упасть на пол вместе со стулом, и Октав с трудом держался ровно, цепляясь за ничтожные остатки сил.
[34] «О, господи…»
- Ты не только преступник, Либерман, ты еще и припадочный. Дефективный по всем параметрам. Лучше бы тебя не стерилизовали, а ликвидировали. Вы все такие, с плохой генетикой. Полуслепые, сутулые и сумасшедшие.
Октав затравленно выдохнул и спрятал взгляд, скорее уронив гудящую голову, чем опустив её. Нервные состояния, страдать которыми Октав начал после концлагеря, проявились сегодня слишком уж ярко, впервые став его слабым местом. Теперь жизнь Октава была в руках Нейдорфа, который мог в любой момент её оборвать, по собственной прихоти раздавив Октава в кулаке, как опарыша.
Покинув полицейский участок, Октав вернулся домой, задернул все шторы и достал из кухонного шкафа три бутылки вина. Остаток вечера он провел в спальне, опустошая одну бутылку за другой, и сам не заметил, как заснул. Проснулся Октав с тяжким ощущением похмелья, которое, впрочем, на время затмило жгучее чувство вины, прорастающее в Октаве горьким стеблем полыни. Утренняя тошнота оказалась настолько мучительной, что ему в какой-то момент померещилось, будто он вот-вот вывернется наизнанку, превратившись в бездыханную слизисто-красную тушу с черным нутром, но этого, к сожалению, не произошло.
Приготовив себе кофе, Октав нехотя вернулся к обыденному существованию. Лежа на красном диване, что располагался в зале, он безучастно слушал пластинки и курил. Пепельница наполнялась окурками, одна монотонная мелодия сменяла другую, а синие стены казались черными в полумраке задернутых штор. Когда время, потерявшее счет, перевалило за полдень, Октав неожиданно для себя осознал, что даже такую безвыходную ситуацию можно обратить себе на пользу. Нужно было лишь как следует подготовиться.
- Три тонны… Взять на поличном, конечно, можно. Вот только за такой вес и убить могут. Тебя, например, если случайно выяснится, кто именно на них стучит, - произнес Хайни вежливым тоном, в котором, однако, слышались садистские нотки.
- Меня убьют в любом случае. Или они, или вы, - беспомощно огрызнулся Октав. У него возникло иррациональное желание выстрелить в Хайни, однако от этой мысли он отказался, хоть и с трудом.
- Ты слишком плохо о нас думаешь, мы не склонны к предательству. В отличие от тебя, - строго сказал Хайни. – Помни свое место, сукин ты сын. Иначе твои коллеги узнают о тебе много нового.
Не найдя нужных слов, Октав потупился. Не стоило раньше времени привлекать к себе внимание. Чтобы потешить расовое самолюбие Хайни и притупить его бдительность, Октав кинул на него быстрый взгляд, придав распахнутым глазам скорбное выражение, а затем снова уставился в пол.
- Свяжись со мной, когда узнаешь подробности, - усмехнулся Хайни. Он похлопал Октава по плечу и бодро зашагал к выходу, насвистывая себе под нос. Когда искаженный мотив «Горного эдельвейса», исчез за хлопнувшей дверью, Октав выпрямился, и его взгляд вновь стал сонным и апатичным.
Завуалированные оскорбления, на которые Хайни был так щедр, злили его куда сильнее, чем неминуемая казнь, ведь со смертью Октав встречался уже не раз и теперь попросту её не боялся. Неважно было, кто именно за ним придет: костлявый der Tod[35], сжимающий в руке крестьянскую косу, зловещий la mort[36] на бледном коне или покрытый множеством глаз der toyt[37], готовый отнять жизнь Октава каплей яда с зазубренного ножа. Визит смерти был неизбежен, а её черный силуэт уже маячил за ближайшим углом.
[35] смерть (нем.)
[36] смерть (франц.)
[37] смерть (идиш)
Подглядывала ли смерть из-за куста сирени, когда Октав рос в еврейском гетто на окраине Парижа, когда сожитель матери обучал Октава карточным фокусам, обратив внимание на ловкость его пальцев, когда его мать добровольно шла ко дну Сены? Лезла ли смерть в окно, когда тринадцатилетнего Октава переселили в Лемберг[38], где жил его отец-нацист, когда медкомиссия обманом отправила Октава на стерилизацию, солгав об угрозе аппендицита? Кралась ли смерть по мощеному тротуару, когда Октав прогуливал уроки в компании ровесников, которые, как и он, оказались недостаточно сознательными для гитлерюгенда, но слишком примерными для исправительного лагеря? Сложно было сказать. Но смерть определенно подобралась слишком близко, когда из ребенка, обойденного вниманием взрослых, вырос аполитичный молодой человек, предпочитающий богемно одеваться, без меры пить и изредка танцевать под джаз, сдобренный парой таблеток первитина.
[38] Львов
Кое-как окончив медучилище, Октав выучился на фармацевта, потому что не мог стать полноценным врачом из-за происхождения, и два года проработал в частной аптеке, принадлежащей коренному львовчанину. Выходные Октав проводил на квартирах у знакомых, которым охотно показывал фокусы: невесомые карты веером перетекали из одной руки в другую, перемешивались в нужном Октаву порядке и на радость зрителям меняли масти. В те годы у Октава были здоровые, чувствительные пальцы, в те годы он еще не хромал.
Работа в аптеке вызывала моральные терзания, напоминающие рвотный рефлекс. Раз в месяц приходила с рецептом на барбитураты фройляйн Хельга Тишлер, высокая девушка с бледным лицом, медовым голосом и пластмассовыми эдельвейсами на шляпе. Голубые глаза, светлые букли волос и серый паспорт выдавали в Тишлер чистокровную немку, на которой Октав не мог жениться, даже будучи стерильным. Рейх запрещал смешанные браки такого характера, видя в Октаве осквернителя расы. Ему оставалось лишь разговаривать с Тишлер о лекарствах, незаметно сминая дрожащими пальцами белый халат.
В конце шестьдесят второго года Тишлер пришла с рецептом, выписанным уже на имя фрау Хельги Зоммерфельд. Уходя, она забыла на прилавке перчатку из черной замши, чуть пахнущую духами. Когда Октав припадал к мягкой перчатке и вдыхал лилейный аромат, у него перехватывало горло, будто замша была сбрызнута синильной кислотой.
Дожидаться следующего визита фрау Зоммерфельд Октав не стал. Он уволился, собрал чемодан и сел на поезд, следующий до Винницы. Соседом по купе оказался простоватый студент-фольксдойче[6], и Октав, поддавшись шальной мысли, которая определила его дальнейшую судьбу, предложил студенту сыграть в карты. Навыки, переданные отчимом-шулером, уже через полчаса обогатили Октава на три тысячи марок – месячный заработок фармацевта.
[39] этнические немцы, которые жили за пределами Третьего Рейха
Вопрос о профессии больше не стоял. Местом работы Октава стал рейхскомиссариат Украина. Отыскав в поезде или джаз-кафе подходящего кандидата, Октав непринужденно завязывал знакомство и представлялся Йозефом. Разложенные по карманам колоды, карты, спрятанные в рукавах бесформенного пиджака, и нестриженые ногти, которыми так удобно было наносить крап, обдирали жертву до последней рейхсмарки. Под конец Октав обычно позволял жертве отыграть часть кона, изображал нескрываемую печаль и уходил, забирая с собой солидный остаток. Октав катал вполовину, чтобы в нем не заподозрили шулера, а жертвы Октава обычно радовались тому, что смогли обыграть несуразного мишлинга.
На исходе первого года удача стала от него отворачиваться. В Бердичеве Октав сел играть с тщедушным мужчиной, похожим на школьного учителя, и с неприятным удивлением осознал, что играет тот слишком хорошо для любителя, которым назвался.
- Учись, друг мой, - дружелюбно сказал мужчина напоследок, выиграв у Октава все деньги и наручные часы, - а в целом неплохо, потенциал у тебя есть.
Чем дальше Октав углублялся на Восток, тем сильнее становилось понятно, что бояться стоило не полиции, а местных преступников, у которых с чужаками разговор был короткий, но красноречивый. В Житомире Октавом заинтересовались неприветливые молодчики, сильно отличающиеся от привычного контингента джаз-кафе - в тридцатых они бы с радостью записались в штурмовики. Хватило одного удара в челюсть, чтобы Октав собрал карты и поспешно ретировался.
В шестьдесят пятом началась полоса тотального невезения. Переломный момент произошел в Одессе, когда сосед по купе, онемеченный славянин, заподозрил неладное. Реакция последовала бурная: он назвал Октава каталой и жидом, присовокупив к этому угрожающий русский акцент. К счастью, поезд стоял на станции. Октав сорвался с места, сбежал в тамбур и через открытые двери выпрыгнул на перрон, оставив в купе и деньги, которые стремился выиграть, и новую шляпу.
Финал у трехлетней карьеры шулера оказался жалким, но предсказуемым. Три жителя Ялты, которые опознали Октава по фотороботу, догнали его на набережной, без церемоний скрутили и уткнули лицом в брусчатку. Въедливо шептало Черное море, пробивались сквозь толщу паники голоса неравнодушных прохожих, а кровь из разбитого носа размазывалась по холодным, мокрым из-за осеннего дождя камням. Октав пытался вырваться, но всякий раз его успокаивали пинком. Когда прибыл наряд крипо, Октав уже не сопротивлялся. Он обессилел и едва держался на ногах. К машине его пришлось волочь.
В следственной тюрьме с Октавом церемониться не стали и по приказу следователя определили в камеру, где уже сидели восемь татуированных националистов, которые зарабатывали на жизнь криминалом.
- Я наполовину немец. У меня в свидетельстве о происхождении так и написано, - опасливо предупредил их Октав, когда охранник запер за ним дверь камеры.
- А при чем тут свидетельство, если бить тебя мы будем по твоей жидовской морде? - с радостной ухмылкой произнес заключенный, который, видимо, был в камере смотрящим.
Октава в итоге действительно избили до потери сознания, однако перед этим он, сам удивившись своей ярости, выбил смотрящему несколько зубов. За драку Октава отправили в холодный карцер, где он провел две недели, после чего сознался во всех эпизодах, которые ему вменяли, благоразумно умолчав о жертвах, которые до полиции не дошли. Суд счел Октава асоциальным элементом и отправил отбывать наказание в рейхскомиссариат Сибирь. Освободился Октав два года спустя, выйдя из концлагеря калекой, и в ту же ночь совершил убийство, на которое, к счастью, никто не обратил внимания. Хоть Восток и представлял собой холодную пустошь, кое-какие преимущества у него всё же были.
Грязно-белые стены, пестрые квадраты картин и потертый кафель давили на Октава, сбивая дыхание, наполняя тело слабостью, проходя по внутренностям гадостной дрожью. Октав замер и усилием воли стряхнул фантомное ощущение локтя, сдавливающего горло. Он ощупью пересчитал пуговицы на обшлаге пальто, которых, как и всегда, было четыре. Повторив процедуру еще несколько раз, пока не пришло успокоение, Октав с облегчением покинул музей.
Воспоминания нервического юноши, которым Октав когда-то был, в последнее время навещали его всё чаще, и хотя принадлежали они совсем другому человеку, туловище по инерции реагировало на них излишне болезненно, будто повод для тревоги существовал на самом деле. Хотя он, конечно, существовал. Однако проживал в Сибири и вряд ли собирался её покидать.
Ближайшие несколько часов, которых обычно хватало, чтобы не спеша опорожнить бутылку вина, Октав решил провести в «Бабилоне». Пробравшись сквозь цветастый полумрак, шуршащий яркими платьями и неказистыми костюмами, он занял столик в дальнем углу, чтобы находиться как можно дальше от веселящейся толпы. Официант, отреагировав на один лишь взмах руки, принес Октаву бутылку красного сухого.
Желто-красные огни потолочных ламп пробегали по Октаву, как клопы, высвечивая то сигарету, зажатую в травмированных пальцах, то бокал с вином, которое походило в темноте на загустевшую кровь, то горбоносый профиль, тускло поблескивающий стеклами очков. Со стороны ярко освещенной эстрады доносился тягучий, хриплый клекот джазовых синкоп.
Октав не думал о том, что информация, которую он сообщил Хайни, была полностью правдивой, потому что это уже не имело значения. Его мысли были заняты совсем другим: Днем космонавтики, до которого оставалась неделя, мглистыми лесами Ораниенбурга, одного из берлинских пригородов, и уединенным домом, который Октав арендовал до марта, предъявив владельцу фальшивый паспорт на имя Йозефа Рихтера.
Подходящее место Октав искал долго, но в итоге остановил выбор на пригороде, возле которого располагался Заксенхаузен - главный концентрационный лагерь Третьего Рейха. Дом, из окон которого смутно виднелись его пулеметные вышки, отраженные застывшей гладью озера, подходил к намерениям Октава как нельзя лучше. Акт ресентимента должен был состояться именно там.
Ночью Октав спал как убитый и видел сумбурный пьяный сон. Его изуродованные руки раскапывали мокрую землю, комья почвы прилипали к пальцам. Безымянная могила медленно обнажала свое чрево, показывая Октаву впалый тифозный живот, испещренный грязно-розовой сыпью, тощую кисть, торчащую из ветхого рукава полосатой пижамы... Октав убрал горсть земли с того места, где должна была находиться голова мертвеца. В черноземе проступило сероватое лицо с неестественно очерченным контуром черепа, как в пособиях по краниометрии. Из-за крайней степени истощения глаза казались больше, чем были на самом деле, они мерцали в глубине глазниц, испуская неживое, стылое, дымно-желтое свечение. Из отрытого покойника выглядывал диббук[40], готовый покинуть умерщвлённую телесную оболочку и поменяться с Октавом местами.
[40] злой дух в фольклоре евреев-ашкенази, душа умершего человека
Служебный «мерседес», который Рудольфу выдали в Гитлерштадте, осторожно полз по январскому гололеду. В темной синеве проплывали желтые квадраты окон, завывал ветер, перекрывая еле слышное урчание мотора. За рулем, как и всегда, был Гельмут, а уставший Рудольф полулежал на заднем сиденье. Его утепленная шинель была расстегнута, а галстук расслаблен, чтобы коричневый воротник форменной рубашки не касался вспотевшей шеи. Пара кожаных перчаток и черная мутоновая шапка с лакированным козырьком, которая в Сибири заменяла офицерам фуражки, лежали справа от Рудольфа, а сам он лениво рассматривал незнакомый ему провинциальный город - Паульмунд.
Полупрозрачные узоры мороза на оконном стекле искажали ночной ландшафт, придавая ему ирреальность акварельного рисунка. Жались друг к другу жилые бараки, выкрашенные в бледно-розовый цвет, а в волнистых сугробах, которые доходили до подоконников первого этажа, барахтались, несмотря на поздний час, дети в шубах. Снег болезненно сверкал под фонарным светом, напоминая Рудольфу о кокаине, который остался в самом сердце Европы, в пяти тысячах километров от Паульмунда. Рудольф утомленно закрыл глаза.
Он явственно осознавал, что эта несуразная командировка состоялась лишь потому, что отец, считающий его весьма посредственным национал-социалистом, решил преподать ему урок мужества. Однако Рудольф не понимал, что именно в его поступках было не так, ведь работу он выполнял прилежно, а здоровых немецких детей зачинал даже в больших количествах, чем его женатые коллеги.
Беда гауляйтера заключалась в том, что он недальновидно проглядел критический момент, после которого в Берлине стала нарастать историческая энтропия. Её всадниками оказались этнические преступные группировки, состоящие из обозленных мишлингов, асоциальная молодежь, которая относилась к ним с подчеркнутым равнодушием, и, конечно же, серийные убийцы. Случались подобные убийства редко, но неизменно вызывали у горожан молчаливый ужас. Ян Дробны, маньяк чешского происхождения, был одним из первых душегубов новой формации. Расстреляли его за пять убийств, сопряженных с сексуальным насилием, жертвами которых стали пятеро несовершеннолетних гитлерюнге. Вины Рудольфа в этом не было никакой, однако отец с того года стал относиться к нему строже. Особенно он попрекал его знакомством с Октавом, но Рудольф не видел в этом никакой проблемы. В конце концов, он, немец и офицер СС, по умолчанию превосходил стерилизованного потомка евреев-ашкенази, который родился лишь благодаря счастливой случайности – за год до того, как стерилизовали его мать. Рудольф не видел в Октаве угрозы. Тот слишком ценил имеющийся у него материальный комфорт и вряд ли решился бы на противодействие. Однако отец был об Октаве совсем другого мнения.
Рудольф мог заслужить хорошее отношение отца, лишь совершив нечто вроде боевого подвига. Вот только война осталась в далеком прошлом, бюрократические должностные обязанности никаких подвигов не подразумевали, а в захолустном концлагере для героизма тем более не было места.
Чтобы отвлечься от невеселых мыслей, Рудольф снова посмотрел в окно. Над крыльцом местного отделения гитлерюгенда развевался кроваво-белый флаг со свастикой. Чуть в стороне виднелись бледно-золотистые искры гранитной набережной, ледяное русло реки Дитте, названной так в честь первого немецкого космонавта, и чернильный мрак лесополосы по ту сторону реки. Судя по всему, ехал автомобиль по Гитлерштрассе. Гельмут свернул налево и миновал башню с черным циферблатом. В синеватой белизне заснеженного Парка победы возвышался бронзовый монумент: решительный солдат вермахта поддерживал раненого товарища с перевязанной головой.
- Сколько еще ехать, Гельмут? – спросил Рудольф, вглядываясь в холодную синеву восточного пейзажа.
- Сорок минут, герр барон.
Концлагерь «Сибирь-2» был центром загородной инфраструктуры. Змеистая дорога, ведущая к лагерю, пролегала вблизи от предприятий, на которых бесплатно трудились квалифицированные заключенные. В лесном сумраке мелькали дорожные указатели, отчетливо выражающие промышленную специфику гау: песчаный карьер «Верфольф», угольный разрез «Черное солнце», завод по производству синтетического топлива и завод по производству резины. Принадлежали заводы «ИГ Фарбен», а еще несколько подобных были разбросаны по промышленным зонам Паульмунда, куда заключенных отвозили в грузовиках прямо через центр города – это экономило и время, и топливо.
Близость концлагеря ознаменовалась коттеджным поселком, где проживали семьи коменданта Менгеле и членов лагерного штаба. Фахверковые виллы с балконами, террасами и занесенными снегом садами наводили на мысли о коррупции. Что, впрочем, было неудивительно, ведь Менгеле, который раньше был помощником коменданта в Заксенхаузене, четыре года назад перевели на Восток именно за растрату бюджетных средств. Это было стандартное для СС наказание за коррупционные преступления, призванное спасать организацию от позора. До имперских судов подобные дела не доходили. Рудольф не без основания полагал, что поселок строили заключенные - коменданты восточных лагерей охотно пользовались служебным положением, игнорируя официальные запреты. На следующем повороте дороги располагалась скромная деревня: кирпичные дома принадлежали лагерным охранникам, а деревянные – освободившимся заключенным, которые остались жить в Паульмунде, потому что возвращаться им было некуда.
В ночной хмари обозначились силуэты вышек, на которых медленно вращались прожекторы, высвечивая то другие вышки с тенями пулеметчиков, то колючую проволоку, натянутую над высоким бетонным забором. Рудольф застегнул шинель, надел шапку и перчатки. «Мерседес» подъехал к серым металлическим воротам, над которыми поблескивали кованые буквы типичного для концлагерей лозунга: «Arbeit macht frei[41]». Глухо лаяли вдали деревенские собаки. Сонный фельдфебель, сидящий в будке КПП, встретил Рудольфа нацистским приветствием и скептическим взглядом. Он долго рассматривал его партийный билет, удостоверение СС и аусвайс, выписанный Министерством по делам Восточных территорий. Лишь затем фельдфебель кому-то позвонил и наконец открыл ворота.
[41] «Труд освобождает»
Гельмут заехал в административный сектор лагеря и остановился возле КПП. Рудольф вышел из машины и стал ходить из стороны в сторону, разминая затекшие ноги. Мороз колол щеки, каждый вдох наполнял тело холодом, а под подошвами сапог жалобно хрустели осколки льда. Административный сектор, залитый искусственным светом, казался убежищем, на которое со всех сторон давила густая мгла. Вдоль бетонного забора тянулся коридор из колючей проволоки, в котором патрулировал периметр молодой эсэсовец. Тускло горели окна комендатуры, канцелярии и здания политического отдела.
Скрипнула дверь комендатуры, и в бескровном свечении фонаря показался высокий мужчина лет сорока пяти, черты которого скрадывал козырек зимней фуражки. Дубовые листья в петлицах черной шинели выдавали в нем штандартенфюрера[42] СС Эрвина Менгеле, который был комендантом концлагеря «Сибирь-2» и заведовал почти тысячей заключенных обоих полов. Когда он подошел ближе и остановился, Рудольф разглядел легкий перекос плеч и утомленное лицо с впалыми щеками.
[42] полковник
- Хайль Гитлер, - вскинул Менгеле правую руку. Бледное облачко дыхания вырвалось у него изо рта вместе со словами.
- Хайль Гитлер, - ответил Рудольф, вскинув руку вполсилы.
Менгеле производил впечатление не очень-то гостеприимного человека: тонкие змеиные губы и блекло-голубые глаза, лишенные яркого чувства, заставляли считать коменданта мизантропом, а его спокойствие граничило с сытой осоловелостью. На своего именитого однофамильца Менгеле ни капли не походил.
- Мы ожидали вас утром, - сказал он без тени укора.
- В Гитлерштадте долго искали машину, штандартенфюрер. Пришлось задержаться.
- Будет вам, называйте меня комендантом, - вяло отмахнулся Менгеле, - не обязательно каждый раз напоминать им о моем звании, чтобы они понимали, кто здесь главный.
- Я планировал приступить к инспекции сегодня, но придется, видимо, перенести это на завтрашнее утро, - сообщил Рудольф с вежливой улыбкой.
- Могу предложить вам стандартную воскресную программу. В пять утра подъем и утренняя перекличка, в полдень выступление лагерного оркестра, а в семь вечера – скромный ужин у меня дома. Познакомить вас с женой и детьми я не смогу, потому что они уехали отдыхать в Крым, зато вы встретитесь с гауляйтером Гитлерштадта.
- С удовольствием приму ваше приглашение. Оркестр, кстати, хороший? – поинтересовался Рудольф, подметив, что в лагере организована художественная самодеятельность.
- Какой там… - усмехнулся Менгеле. – Асоциалы, демократы и уголовники.
Рудольф искренне посмеялся над его шуткой. Менгеле спрятал ухмылку, и его лицо вновь приняло спокойное выражение, которое не было ни теплым, ни прохладным. Рудольф мельком взглянул на Менгеле, ожидая увидеть суженные опиатами зрачки, однако в его глазах читалась лишь трезвость.
- Надолго вы к нам?
- Максимум на три недели.
- Что ж, добро пожаловать. Можете никуда не торопиться. Надеюсь, вам у нас понравится, - задумчиво произнес Менгеле. Под конец фразы его бесстрастный взгляд увяз в сумрачном пространстве горизонта.
Рудольфу с Гельмутом выделили две комнаты в офицерском общежитии рыжего кирпича, которое находилось в административном секторе. Просторная комната, доставшаяся Рудольфу, была оформлена в светло-коричневых тонах, и ничто в ней не напоминало о холоде, который сковывал окрестности. Напротив широкой кровати располагался телевизор с антенной, а у окна стояли два мягких стула, разделенные письменным столом, на котором виднелась ваза. Свежие ветви можжевельника, свисающие с её горловины, благоухали хвоей.
Сняв шинель и повесив её в шкаф, Рудольф подошел к окну. Открывшийся вид не мог похвастать живописностью: далекие верхушки сосен, перечеркнутые колючей проволокой, бетонный забор и скромных размеров лагерный крематорий с высоким конусом трубы. Декады назад крематорий изрыгал густые облака черного дыма, распространяя по близлежащим деревням удушливый запах паленого мяса, однако ныне в нем лишь изредка сжигали заключенных, которым не повезло скончаться до момента освобождения.
Чуть погодя в комнату постучалась горничная, которая принесла мыльные принадлежности и полотенца. От наметанного взгляда Рудольфа не укрылись дефекты её внешности: неправильность черепа со скошенным подбородком, темные миндалевидные глаза и черные с рыжиной волосы, струящиеся из-под косынки. На полосатое форменное платье, дополненное гражданским передником с рюшами, была нашита бирка с черным винкелем и личными данными. Горничная по имени Татьяна Нобель, осужденная за проституцию, была из числа заключенных, которым доверяли настолько, что разрешали обслуживать офицерский состав.
Проснулся Рудольф в четыре утра. Неспешно позавтракав в офицерской столовой жирным омлетом, он зашел к себе в комнату за цейсовским биноклем и отправился в мужской сектор лагеря, где располагался аппельплац. Менгеле был уже там. Он стоял в стороне от аппельплаца, возле жилого барака из рыжего кирпича, размеренно похлопывал хлыстом по сапогу и сохранял свойственное ему равнодушие. Рудольф встал в полуметре от Менгеле, расчехлил бинокль и припал к окулярам.
Освещенный фонарями аппельплац вступал в безобразный диссонанс с угольно-темным воздухом раннего утра, а серо-синие шеренги узников-мужчин уродливо контрастировали с черным роем лагерного персонала и исступленно лающими овчарками. Шапки-ушанки, ватники и русские валенки не согревали заключенных. Мерзли даже придурки[43], которых можно было различить в толпе благодаря черным шапкам, такого же цвета ватникам и белым нарукавным повязкам.
[43] заключенные, сотрудничающие с администрацией концлагеря
Холод волновал заключенных гораздо сильнее, чем показательная экзекуция, которая проводилась перед строем. Переведя бинокль вбок, Рудольф поймал в прицел двух человек: тощего заключенного и молодого надзирателя. Заключенный в полосатом ватнике валялся на асфальте и корчился от боли, а надзиратель, молодой штурмманн[44] СС со славянской внешностью, избивал его резиновой дубинкой. По аппельплацу разносились протяжные вопли. Надзиратель из-за них терял над собой контроль и начинал бить заключенного еще и ногами, но быстро успокаивался.
[44] ефрейтор
- О, вы заметили Толика… - апатично удивился Менгеле, проследив за взглядом Рудольфа. – Это наш лучший надзиратель, Анатолий Страшко. Его отец служил в дивизии «Галичина». По виду не скажешь, но Толик не терпит, когда кто-то нарушает правила.
- И какое же правило нарушил этот? – спросил Рудольф. Он вспомнил ядовитые слова Октава и вновь пригляделся к Страшко. Тот и впрямь не внушал угрозы, выглядя как серьезный, слегка застенчивый юноша из провинции, и если бы Страшко сейчас не топтал тяжелым ботинком пальцы плачущего заключенного, Рудольф засомневался бы в его потаенной тяге к изуверству.
- Этот? Пытался украсть из столовой сырую курицу. Но воровать ему больше не захочется.
Рудольф покрутил колесико, настраивая резкость, и профиль Страшко оброс деталями, как монструозная голова бабочки, попавшая под линзу микроскопа: на пухловатых щеках ходили желваки, хищно щурились светлые глаза, а над козырьком зимнего кепи мерцала мертвая голова. Рудольф опустил бинокль, но своего омерзения не выдал. Даже боязливые евреи импонировали ему больше, чем дикие, необразованные славяне, которые почему-то считали себя равными немцам. Однако Менгеле об этом знать не следовало.
- Не сочтите меня пессимистом, комендант, но лично я считаю, что язык силы лагерники понимают лучше всего,- уверенно произнес Рудольф, сложив руки за спиной, - я инспектирую лагеря уже три года, и самая крепкая дисциплина обычно именно там, где применяются физические наказания.
Менгеле с облегчением вздохнул и даже улыбнулся:
- Очень рад, что вы осознаете суть проблемы. А то в прошлом году прислали бюрократа, который счел мои правила слишком жестокими. Столько проблем потом было…
Обещанное комендантом выступление оркестра состоялось в лагерном культурхаузе. Под высокими сводами актового зала гуляло эхо, бледно-зеленые стены были украшены гипсовыми барельефами на патриотическую тематику, а заключенные, - похожие друг на друга мужчины с землистыми лицами, - сидели на деревянных скамьях, держа в руках шапки.
Рудольф стоял максимально далеко от сцены, среди надзирателей, и жалел, что не может просто так отсюда уйти. Менгеле преувеличил, назвав свой музыкальный ансамбль оркестром. На сцене, окаймленной красным занавесом, исполняли немецкие народные песни пятеро заключенных, в распоряжении которых было всего две трубы, одна валторна и небольшой барабан. Начищенная медь инструментов крайне несуразно сочеталась с мешковатыми робами и неподшитыми валенками музыкантов.
.
Сдерживая зевоту, Рудольф разглядывал зрителей. Точнее, одного зрителя, который сидел в трех лавках от него. Это был тщедушный, весьма молодой придурок с темно-русыми волосами и неуловимо семитскими чертами лица. Нарукавная повязка с обозначением должности выдавала в нем библиотекаря. Как и все придурки, вид он имел сытый, а стрижку носил гражданскую, однако вел себя при этом, как забитый лагерник, окруженный одним лишь презрением. Не поднимая головы, библиотекарь то и дело украдкой озирался, а затем так же быстро отворачивался, нервно поправляя шарф, плотно обмотанный вокруг шеи – несмотря на духоту. Движения библиотекаря казались не осознанными, а скорее рефлекторными, как судороги.
Рудольф проследил за направлением его взгляда, и загадочная нервозность библиотекаря сразу же обрела смысл. Озирался запуганный мишлинг на уже знакомого Рудольфу надзирателя – штурмманна Страшко. Рудольф припомнил, что Октав не просто сидел в этом же лагере, но и трудился здесь в библиотеке. Он крепко задумался. Октав утверждал, что Страшко у него на глазах избивал людей, однако это могло быть лишь частью правды. Рудольфу невольно представилось, как Октав, одетый в лагерную робу, не находит себе места от страха, пока унтерменш, ведомый своей нездоровой натурой, дышит ему в затылок. Рудольф нахмурился и сложил руки на груди. Перверты вызывали у него большую брезгливость, чем славяне, а Страшко вполне мог оказаться носителем обеих характеристик.
Дожидаться окончания концерта Рудольф не стал и вышел на свежий воздух. День был безветренный, в вышине серых небес недвижимо висел белый глаз солнца, а по обледенелой асфальтовой дорожке стучал ломом заключенный из хозобслуги, наполняя воздух лязгом железа. Замеченный Рудольфом библиотекарь, когда окончилось выступление, воспользовался правом придурков не перемещаться по лагерю строем, покинул культурхауз одним из первых и поспешно, чуть ли не бегом устремился к кирпичному ряду двухэтажных бараков, натягивая на ходу шапку и рукавицы. Он ретировался настолько быстро, что Рудольф даже не успел прочесть личные данные на его бирке, разглядев лишь зеленый винкель уголовника.
Ужин у Менгеле, запланированный на вечер, тоже привнес в командировку Рудольфа элемент нервозности. На происходящем лежала невидимая печать горячечного бреда: в углах бледно-голубой столовой стелились тени, хрустальная люстра горела вполсилы, отражаясь в мейсенском фарфоре дряблыми бликами, и тихо сменяли друг друга старые шлягеры Марики Рёкк, будто время в доме коменданта застыло еще в сороковых и теперь не намеревалось трогаться с места. От чашек с глинтвейном и гуляша в супнице поднимался призрачный пар. Второй гость, гауляйтер Гитлерштадта по имени Александр Малов, вызывал у Рудольфа не самые товарищеские чувства, потому что являлся пожилым группенфюрером[45] и ассимилированным русским, который во время войны командовал дивизией СС «Байкал». Рудольфа уязвляло, что какой-то славянин занимает ту же должность, что и его отец, чистокровный немец из древнего прусского рода.
[45] генерал-лейтенант
Запивая чрезмерно острый гуляш глинтвейном, Рудольф понемногу пьянел. Перед ним всё яснее вырисовывалась ирония ситуации: фюрер относился к восточным народам с таким презрением, что даже не видел в них человеческих существ и намеревался извести их под корень, однако его либеральный преемник позволил онемеченным славянам занимать почетные должности в восточных рейхскомиссариатах. Польза, впрочем, от этого была: славяне так боялись лишиться полученных привилегий, что выслуживались куда более рьяно, чем немцы из Европы. Поглядывая на Малова, Рудольф неожиданно для себя затосковал по Октаву. В конце концов, тот был немцем хотя бы наполовину, и пусть даже в нем текла еврейская кровь, но место свое он знал и за его пределы не высовывался, будучи тем, кем и должен был быть по факту рождения.
- Какое нежное мясо. Очень интересный привкус, сладковато-острый… - задумчиво прошамкал Малов, аккуратно шевеля вставными челюстями. Рудольф с неохотой вернулся в реальность.
- О, это телятина. Привкус обусловлен красным перцем, чесноком и тмином, - довольно улыбнулся Менгеле и кинул на Рудольфа вполне человеческий, даже веселый взгляд. За его плечами виднелись на стене типичные образцы арийской живописи: картина слева изображала валькирию с копьем, а картина справа – пимпфа[46], несущего на плече черное знамя юнгфолька[47]. Рудольф ответил Менгеле светской улыбкой и сделал большой глоток глинтвейна. Перед началом ужина Менгеле объявил, что готовил гуляш собственноручно, и Рудольфу не хотелось его огорчать, давая знать, что в кулинарии он не так хорош, как в лагерных делах.
[46] член организации «Юнгфольк», мальчик в возрасте от 10 до 14 лет
[47] младшая возрастная группа гитлерюгенда
- Надо сказать, инспектор, что вы приехали в неспокойное время. В Паульмунде убивают детей, - произнес вдруг Менгеле.
- Детей? – переспросил Рудольф.
- Сегодня утром на промзоне возле хлебозавода обнаружили труп гитлерюнге. Со странгуляционной бороздой на шее и без левой ноги.
- К сожалению, это правда, - подтвердил Малов, - маньяк отрубил мальчику ногу. Проводится экспертиза, и я надеюсь лишь на то, что мальчик на тот момент был уже мертв.
- Почему вы считаете, что его убил именно маньяк? – нахмурился Рудольф. Менгеле горько усмехнулся:
- Потому что неделю назад на пустыре возле Дитте тоже нашли труп гитлерюнге. Только тот был без руки. Кто-то убивает детей и почему-то выбирает именно мальчиков.
- К тому же, оба трупа пронумерованы химическим карандашом… - с озабоченным видом продолжил Малов, указав пальцем себе на лоб. - Я завтра же свяжусь с гестапо и попрошу, чтобы они взяли это дело под свой контроль. От крипо мало толку, а медлить никак нельзя, иначе жертв будет еще больше.
- В Берлине был похожий случай лет пять назад. Кто-то насиловал и убивал гитлерюнге, - сказал Рудольф, обращаясь к Менгеле, - расследование курировал сам гауляйтер Берлина, и убийцу в итоге расстреляли. Он оказался чехом.
Менгеле откинулся на спинку стула, запрокинул голову и глухо произнес:
- Исключительно правильное решение. Таких выродков нужно давить после первого же трупа. Если честно, я жалею, что эвтаназия больше не проводится. Со времен последней чистки психопаты расплодились, как тараканы.
- Два года назад у нас в гау без вести пропадали мальчики, - не унимался встревоженный Малов, - и я убежден, что это дело рук одного и того же человека!
- Чем всё закончилось тогда? Кого-нибудь нашли? – спросил Рудольф, исподлобья посмотрев на Малова. Однако страх оказался сильнее расового превосходства, и при мысли о неизвестном убийце Рудольф вздрогнул, будто кто-то неживой, кто-то околевший прикоснулся к его затылку.
- Мы тогда никого не нашли. Ни детей, ни преступника… - мрачно произнес Малов, глядя перед собой. Его рука подрагивала над тарелкой с гуляшом, вилка мелко стучала по фарфору, издавая тихий монотонный лязг.
Неприятная беседа продолжению ужина не способствовала. Расчувствовавшийся Малов, стараясь не выказывать своего смятения, сослался на мигрень и отбыл в Гитлерштадт. Его «опель» отъехал от виллы Менгеле, пересек зыбкую границу между светом фонаря и вечерней теменью, а затем растворился в черноте снегов, словно Александра Малова никогда не существовало. Менгеле оказался не таким впечатлительным, как его партайгеноссе. Он предложил Рудольфу переместиться в кабинет и немного выпить.
Вот только Рудольф в ту ночь свои силы переоценил. Алкоголь размывал его сознание, приводя в хаотическое движение вензеля на темных обоях кабинета, настольную лампу с бахромой и высокий книжный стеллаж, занимающий одну из стен. Менгеле сидел в плетеном кресле, неспешно потягивал крымское вино и время от времени подливал Рудольфу, чей бокал довольно быстро пустел. Лишаясь концентрации, Рудольф то и дело ронял голову на журнальный столик и утыкался лбом в свежий номер эсэсовской газеты «Дас шварце кор», но быстро приходил в себя. Всякий раз его расфокусированный взгляд упирался в стеллаж, и обрывками сознания Рудольф понимал: Октав говорил правду, называя Менгеле русофилом. Одна из полок стеллажа была забита русской литературой, которая раньше находилась под запретом: «Жар-цвет» Амфитеатрова, «Тяжелые сны» Сологуба, «Женщина на кресте» Анны Мар…
- Читаете? – не удержался от вопроса Рудольф и небрежным кивком указал на стеллаж.
- Читаю, куда деваться, - с улыбкой развел руками захмелевший Менгеле, - в этой глуши не так уж и много развлечений.
- Это же литература дегенератов. Русских дегенератов, - пристально посмотрел на него Рудольф.
- Которую доктор Геббельс легализовал, - добродушно парировал Менгеле. Рудольфа покоробила его фамильярность по отношению к новому фюреру. Октав вновь показался ему весьма приятным человеком.
Менгеле лукаво усмехнулся:
- Неужели вы не читали ничего из запрещенки, Рудольф? Совсем ничего?
- Пытался. Не выдержал обилия упаднических мотивов, разврата и пессимизма. В этих книгах нет истинно немецкого духа, нет ничего героического и высокодуховного, только грязь и…
- Спорить не буду, вы правы, - вежливо перебил его Менгеле, оборвав тягучую пьяную речь, - но этого следовало ожидать. Посмотрите, пожалуйста, в окно. Что вы там видите? Пустой горизонт, темнота, снег, холод… А ведь такая угнетающая погода держится здесь больше шести месяцев в году.
Рудольф нехотя посмотрел в окно. Описание Менгеле оказалось весьма точным, пожалуй, даже излишне точным. Иссиня-черная гуща неба кишела извивами туч, протяжно ухала лесная сова, а мороз касался стекла, исподволь покрывая его заостренной вязью.
- Легко писать о героизме, проживая в Баварии, где горные склоны покрыты цветущими эдельвейсами. Но можно ли писать о героизме, наблюдая из года в год подобное зрелище? Такой пейзаж заставляет думать в лучшем случае о выживании. В худшем – о фатализме и неумолимости бытия. Знаете, как славяне называют такое умонастроение? Русская смерть. Категория скорее духовная, чем материальная…
Рудольф пожалел, что не уехал одновременно с Маловым. Разговор определенно сворачивал не туда.
- Простите, - усмехнулся Менгеле, заметив недовольство в его покрасневшем лице, - я уже пятый год в Паульмунде живу. Совсем одичал.
Рудольф не помнил, как вернулся в концлагерь. Калейдоскоп восприятия кружился, показывая ему то полную луну, облепленную оспинами, то её бледный свет на деревянном крыльце, то мохнатые каскады еловых лап в саду Менгеле. Урчание мотора смешивалось с рассыпающимися фразами Гельмута, смысл которых до Рудольфа не доходил, а темнота перед глазами кружилась и обретала глубину.
Если бы не тошнота, которая родилась в набитом желудке и подкатила к горлу, Рудольф проспал бы до утра. Он смутно припоминал холод металла под голой ладонью, непереваренные кусочки мяса из гуляша Менгеле, которые лежали в белом снегу, словно потухшие угли, и гранитные надгробья кладбища за кованым забором. Совсем уж урывочно Рудольф запомнил метаморфозу, которая с кладбищем произошла.
Накатил тяжелой волной утробный гул, выросли вокруг могил серебристые оградки, а надгробные плиты сменились косыми прямоугольниками, ржавую поверхность которых покрывали струпья синюшной краски. Границы предметов расслаивались, обретали разноцветные контуры, бешено наскакивали друг на друга, но оставались при этом болезненно отчетливыми, будто Рудольф смотрел на мир через искажающую линзу. На одной из могил застывшим пятном лежал лунный свет. Пятиконечная звезда над фотографией старика в советской военной форме, кириллическое имя, пара искусственных гвоздик… Удивленное восклицание замерло у Рудольфа в груди, так и не превратившись в звук, когда он увидел дату смерти. Русский ветеран скончался в 1995 году.
Не помня себя от иррационального ужаса, Рудольф метнулся обратно в машину. Снова нахлынула пьяная дрема, и в этом полусне Рудольф видел себя со стороны, видел с высоты птичьего полета пустотную панораму сибирского леса, погруженного во мрак – леса, где некогда воевал дядюшка Альберт.
Рудольф часто бывал у него в гостях, когда состоял в юнгфольке. Жил дядюшка Альберт уединенно, в небольшом доме в пригороде Берлина, а истории, которые он рассказывал поздними вечерами, врезались в память Рудольфа настолько хорошо, что оставили в его характере незримый след. С ностальгическим теплом в голосе дядюшка Альберт вспоминал о временах, когда ему удавалось расстреливать в день по несколько сотен русских. Желтое свечение лампы разжигало мертвенные огоньки в его слепом глазу, пораженном бледным пятном катаракты, в обручальном кольце на узловатом пальце правой руки, которое было выплавлено из золотых зубов.
Пухлые фронтовые альбомы дядюшки Альберта, которым была отведена отдельная полка в книжном шкафу, с бесстрастной точностью отражала будни айнзатцгрупп на Востоке: трупы цыган, лежащие в сырых рвах, как шпроты в банке, повешенные евреи с синюшными лицами и горящие деревни. Дядюшка Альберт позировал фотографу, то придерживая за ноги висельника, то стоя на свежем штабеле мертвых тел, то держа в руках человеческие черепа. Один из таких, принадлежавший красному комиссару, прошел сквозь годы и теперь стоял на той же полке, что и фотоальбомы, глядя на победителей пустой чернотой глазниц. Держа в руках вражеский череп, дядюшка Альберт наставлял Рудольфа. Он утверждал, что Восток делает из мальчика или мужчину, или дегенерата – третьего не дано. Говоря о первой категории, он указывал на себя, говоря о второй – постукивал пальцем по желтоватому славянскому черепу.
Накладывались друг на друга слои времени, и в мерцающей снежной чаще проступали километры братских могил, ровные ряды пока еще живых гражданских и застывшие во времени слепки, фантомы молодого дядюшки Альберта, который прохаживался вдоль рвов и стрелял в каждый затылок, оказавшийся возле его сапога.
Рудольф осознал, что спустя долгие годы все-таки оказался там, где должен был оказаться. Пока он превращался из пимпфа в офицера СС, народилось новое поколение дегенератов, змеиным гнездом для которых вновь стал патологический Восток. Одного дегенерата Рудольф уже распознал и теперь не собирался его щадить. Дегенерата следовало повесить, сжечь и вернуть в чернозем, из которого он пришел.
Полупрозрачные узоры мороза на оконном стекле искажали ночной ландшафт, придавая ему ирреальность акварельного рисунка. Жались друг к другу жилые бараки, выкрашенные в бледно-розовый цвет, а в волнистых сугробах, которые доходили до подоконников первого этажа, барахтались, несмотря на поздний час, дети в шубах. Снег болезненно сверкал под фонарным светом, напоминая Рудольфу о кокаине, который остался в самом сердце Европы, в пяти тысячах километров от Паульмунда. Рудольф утомленно закрыл глаза.
Он явственно осознавал, что эта несуразная командировка состоялась лишь потому, что отец, считающий его весьма посредственным национал-социалистом, решил преподать ему урок мужества. Однако Рудольф не понимал, что именно в его поступках было не так, ведь работу он выполнял прилежно, а здоровых немецких детей зачинал даже в больших количествах, чем его женатые коллеги.
Беда гауляйтера заключалась в том, что он недальновидно проглядел критический момент, после которого в Берлине стала нарастать историческая энтропия. Её всадниками оказались этнические преступные группировки, состоящие из обозленных мишлингов, асоциальная молодежь, которая относилась к ним с подчеркнутым равнодушием, и, конечно же, серийные убийцы. Случались подобные убийства редко, но неизменно вызывали у горожан молчаливый ужас. Ян Дробны, маньяк чешского происхождения, был одним из первых душегубов новой формации. Расстреляли его за пять убийств, сопряженных с сексуальным насилием, жертвами которых стали пятеро несовершеннолетних гитлерюнге. Вины Рудольфа в этом не было никакой, однако отец с того года стал относиться к нему строже. Особенно он попрекал его знакомством с Октавом, но Рудольф не видел в этом никакой проблемы. В конце концов, он, немец и офицер СС, по умолчанию превосходил стерилизованного потомка евреев-ашкенази, который родился лишь благодаря счастливой случайности – за год до того, как стерилизовали его мать. Рудольф не видел в Октаве угрозы. Тот слишком ценил имеющийся у него материальный комфорт и вряд ли решился бы на противодействие. Однако отец был об Октаве совсем другого мнения.
Рудольф мог заслужить хорошее отношение отца, лишь совершив нечто вроде боевого подвига. Вот только война осталась в далеком прошлом, бюрократические должностные обязанности никаких подвигов не подразумевали, а в захолустном концлагере для героизма тем более не было места.
Чтобы отвлечься от невеселых мыслей, Рудольф снова посмотрел в окно. Над крыльцом местного отделения гитлерюгенда развевался кроваво-белый флаг со свастикой. Чуть в стороне виднелись бледно-золотистые искры гранитной набережной, ледяное русло реки Дитте, названной так в честь первого немецкого космонавта, и чернильный мрак лесополосы по ту сторону реки. Судя по всему, ехал автомобиль по Гитлерштрассе. Гельмут свернул налево и миновал башню с черным циферблатом. В синеватой белизне заснеженного Парка победы возвышался бронзовый монумент: решительный солдат вермахта поддерживал раненого товарища с перевязанной головой.
- Сколько еще ехать, Гельмут? – спросил Рудольф, вглядываясь в холодную синеву восточного пейзажа.
- Сорок минут, герр барон.
Концлагерь «Сибирь-2» был центром загородной инфраструктуры. Змеистая дорога, ведущая к лагерю, пролегала вблизи от предприятий, на которых бесплатно трудились квалифицированные заключенные. В лесном сумраке мелькали дорожные указатели, отчетливо выражающие промышленную специфику гау: песчаный карьер «Верфольф», угольный разрез «Черное солнце», завод по производству синтетического топлива и завод по производству резины. Принадлежали заводы «ИГ Фарбен», а еще несколько подобных были разбросаны по промышленным зонам Паульмунда, куда заключенных отвозили в грузовиках прямо через центр города – это экономило и время, и топливо.
Близость концлагеря ознаменовалась коттеджным поселком, где проживали семьи коменданта Менгеле и членов лагерного штаба. Фахверковые виллы с балконами, террасами и занесенными снегом садами наводили на мысли о коррупции. Что, впрочем, было неудивительно, ведь Менгеле, который раньше был помощником коменданта в Заксенхаузене, четыре года назад перевели на Восток именно за растрату бюджетных средств. Это было стандартное для СС наказание за коррупционные преступления, призванное спасать организацию от позора. До имперских судов подобные дела не доходили. Рудольф не без основания полагал, что поселок строили заключенные - коменданты восточных лагерей охотно пользовались служебным положением, игнорируя официальные запреты. На следующем повороте дороги располагалась скромная деревня: кирпичные дома принадлежали лагерным охранникам, а деревянные – освободившимся заключенным, которые остались жить в Паульмунде, потому что возвращаться им было некуда.
В ночной хмари обозначились силуэты вышек, на которых медленно вращались прожекторы, высвечивая то другие вышки с тенями пулеметчиков, то колючую проволоку, натянутую над высоким бетонным забором. Рудольф застегнул шинель, надел шапку и перчатки. «Мерседес» подъехал к серым металлическим воротам, над которыми поблескивали кованые буквы типичного для концлагерей лозунга: «Arbeit macht frei[41]». Глухо лаяли вдали деревенские собаки. Сонный фельдфебель, сидящий в будке КПП, встретил Рудольфа нацистским приветствием и скептическим взглядом. Он долго рассматривал его партийный билет, удостоверение СС и аусвайс, выписанный Министерством по делам Восточных территорий. Лишь затем фельдфебель кому-то позвонил и наконец открыл ворота.
[41] «Труд освобождает»
Гельмут заехал в административный сектор лагеря и остановился возле КПП. Рудольф вышел из машины и стал ходить из стороны в сторону, разминая затекшие ноги. Мороз колол щеки, каждый вдох наполнял тело холодом, а под подошвами сапог жалобно хрустели осколки льда. Административный сектор, залитый искусственным светом, казался убежищем, на которое со всех сторон давила густая мгла. Вдоль бетонного забора тянулся коридор из колючей проволоки, в котором патрулировал периметр молодой эсэсовец. Тускло горели окна комендатуры, канцелярии и здания политического отдела.
Скрипнула дверь комендатуры, и в бескровном свечении фонаря показался высокий мужчина лет сорока пяти, черты которого скрадывал козырек зимней фуражки. Дубовые листья в петлицах черной шинели выдавали в нем штандартенфюрера[42] СС Эрвина Менгеле, который был комендантом концлагеря «Сибирь-2» и заведовал почти тысячей заключенных обоих полов. Когда он подошел ближе и остановился, Рудольф разглядел легкий перекос плеч и утомленное лицо с впалыми щеками.
[42] полковник
- Хайль Гитлер, - вскинул Менгеле правую руку. Бледное облачко дыхания вырвалось у него изо рта вместе со словами.
- Хайль Гитлер, - ответил Рудольф, вскинув руку вполсилы.
Менгеле производил впечатление не очень-то гостеприимного человека: тонкие змеиные губы и блекло-голубые глаза, лишенные яркого чувства, заставляли считать коменданта мизантропом, а его спокойствие граничило с сытой осоловелостью. На своего именитого однофамильца Менгеле ни капли не походил.
- Мы ожидали вас утром, - сказал он без тени укора.
- В Гитлерштадте долго искали машину, штандартенфюрер. Пришлось задержаться.
- Будет вам, называйте меня комендантом, - вяло отмахнулся Менгеле, - не обязательно каждый раз напоминать им о моем звании, чтобы они понимали, кто здесь главный.
- Я планировал приступить к инспекции сегодня, но придется, видимо, перенести это на завтрашнее утро, - сообщил Рудольф с вежливой улыбкой.
- Могу предложить вам стандартную воскресную программу. В пять утра подъем и утренняя перекличка, в полдень выступление лагерного оркестра, а в семь вечера – скромный ужин у меня дома. Познакомить вас с женой и детьми я не смогу, потому что они уехали отдыхать в Крым, зато вы встретитесь с гауляйтером Гитлерштадта.
- С удовольствием приму ваше приглашение. Оркестр, кстати, хороший? – поинтересовался Рудольф, подметив, что в лагере организована художественная самодеятельность.
- Какой там… - усмехнулся Менгеле. – Асоциалы, демократы и уголовники.
Рудольф искренне посмеялся над его шуткой. Менгеле спрятал ухмылку, и его лицо вновь приняло спокойное выражение, которое не было ни теплым, ни прохладным. Рудольф мельком взглянул на Менгеле, ожидая увидеть суженные опиатами зрачки, однако в его глазах читалась лишь трезвость.
- Надолго вы к нам?
- Максимум на три недели.
- Что ж, добро пожаловать. Можете никуда не торопиться. Надеюсь, вам у нас понравится, - задумчиво произнес Менгеле. Под конец фразы его бесстрастный взгляд увяз в сумрачном пространстве горизонта.
Рудольфу с Гельмутом выделили две комнаты в офицерском общежитии рыжего кирпича, которое находилось в административном секторе. Просторная комната, доставшаяся Рудольфу, была оформлена в светло-коричневых тонах, и ничто в ней не напоминало о холоде, который сковывал окрестности. Напротив широкой кровати располагался телевизор с антенной, а у окна стояли два мягких стула, разделенные письменным столом, на котором виднелась ваза. Свежие ветви можжевельника, свисающие с её горловины, благоухали хвоей.
Сняв шинель и повесив её в шкаф, Рудольф подошел к окну. Открывшийся вид не мог похвастать живописностью: далекие верхушки сосен, перечеркнутые колючей проволокой, бетонный забор и скромных размеров лагерный крематорий с высоким конусом трубы. Декады назад крематорий изрыгал густые облака черного дыма, распространяя по близлежащим деревням удушливый запах паленого мяса, однако ныне в нем лишь изредка сжигали заключенных, которым не повезло скончаться до момента освобождения.
Чуть погодя в комнату постучалась горничная, которая принесла мыльные принадлежности и полотенца. От наметанного взгляда Рудольфа не укрылись дефекты её внешности: неправильность черепа со скошенным подбородком, темные миндалевидные глаза и черные с рыжиной волосы, струящиеся из-под косынки. На полосатое форменное платье, дополненное гражданским передником с рюшами, была нашита бирка с черным винкелем и личными данными. Горничная по имени Татьяна Нобель, осужденная за проституцию, была из числа заключенных, которым доверяли настолько, что разрешали обслуживать офицерский состав.
Проснулся Рудольф в четыре утра. Неспешно позавтракав в офицерской столовой жирным омлетом, он зашел к себе в комнату за цейсовским биноклем и отправился в мужской сектор лагеря, где располагался аппельплац. Менгеле был уже там. Он стоял в стороне от аппельплаца, возле жилого барака из рыжего кирпича, размеренно похлопывал хлыстом по сапогу и сохранял свойственное ему равнодушие. Рудольф встал в полуметре от Менгеле, расчехлил бинокль и припал к окулярам.
Освещенный фонарями аппельплац вступал в безобразный диссонанс с угольно-темным воздухом раннего утра, а серо-синие шеренги узников-мужчин уродливо контрастировали с черным роем лагерного персонала и исступленно лающими овчарками. Шапки-ушанки, ватники и русские валенки не согревали заключенных. Мерзли даже придурки[43], которых можно было различить в толпе благодаря черным шапкам, такого же цвета ватникам и белым нарукавным повязкам.
[43] заключенные, сотрудничающие с администрацией концлагеря
Холод волновал заключенных гораздо сильнее, чем показательная экзекуция, которая проводилась перед строем. Переведя бинокль вбок, Рудольф поймал в прицел двух человек: тощего заключенного и молодого надзирателя. Заключенный в полосатом ватнике валялся на асфальте и корчился от боли, а надзиратель, молодой штурмманн[44] СС со славянской внешностью, избивал его резиновой дубинкой. По аппельплацу разносились протяжные вопли. Надзиратель из-за них терял над собой контроль и начинал бить заключенного еще и ногами, но быстро успокаивался.
[44] ефрейтор
- О, вы заметили Толика… - апатично удивился Менгеле, проследив за взглядом Рудольфа. – Это наш лучший надзиратель, Анатолий Страшко. Его отец служил в дивизии «Галичина». По виду не скажешь, но Толик не терпит, когда кто-то нарушает правила.
- И какое же правило нарушил этот? – спросил Рудольф. Он вспомнил ядовитые слова Октава и вновь пригляделся к Страшко. Тот и впрямь не внушал угрозы, выглядя как серьезный, слегка застенчивый юноша из провинции, и если бы Страшко сейчас не топтал тяжелым ботинком пальцы плачущего заключенного, Рудольф засомневался бы в его потаенной тяге к изуверству.
- Этот? Пытался украсть из столовой сырую курицу. Но воровать ему больше не захочется.
Рудольф покрутил колесико, настраивая резкость, и профиль Страшко оброс деталями, как монструозная голова бабочки, попавшая под линзу микроскопа: на пухловатых щеках ходили желваки, хищно щурились светлые глаза, а над козырьком зимнего кепи мерцала мертвая голова. Рудольф опустил бинокль, но своего омерзения не выдал. Даже боязливые евреи импонировали ему больше, чем дикие, необразованные славяне, которые почему-то считали себя равными немцам. Однако Менгеле об этом знать не следовало.
- Не сочтите меня пессимистом, комендант, но лично я считаю, что язык силы лагерники понимают лучше всего,- уверенно произнес Рудольф, сложив руки за спиной, - я инспектирую лагеря уже три года, и самая крепкая дисциплина обычно именно там, где применяются физические наказания.
Менгеле с облегчением вздохнул и даже улыбнулся:
- Очень рад, что вы осознаете суть проблемы. А то в прошлом году прислали бюрократа, который счел мои правила слишком жестокими. Столько проблем потом было…
Обещанное комендантом выступление оркестра состоялось в лагерном культурхаузе. Под высокими сводами актового зала гуляло эхо, бледно-зеленые стены были украшены гипсовыми барельефами на патриотическую тематику, а заключенные, - похожие друг на друга мужчины с землистыми лицами, - сидели на деревянных скамьях, держа в руках шапки.
Рудольф стоял максимально далеко от сцены, среди надзирателей, и жалел, что не может просто так отсюда уйти. Менгеле преувеличил, назвав свой музыкальный ансамбль оркестром. На сцене, окаймленной красным занавесом, исполняли немецкие народные песни пятеро заключенных, в распоряжении которых было всего две трубы, одна валторна и небольшой барабан. Начищенная медь инструментов крайне несуразно сочеталась с мешковатыми робами и неподшитыми валенками музыкантов.
.
Сдерживая зевоту, Рудольф разглядывал зрителей. Точнее, одного зрителя, который сидел в трех лавках от него. Это был тщедушный, весьма молодой придурок с темно-русыми волосами и неуловимо семитскими чертами лица. Нарукавная повязка с обозначением должности выдавала в нем библиотекаря. Как и все придурки, вид он имел сытый, а стрижку носил гражданскую, однако вел себя при этом, как забитый лагерник, окруженный одним лишь презрением. Не поднимая головы, библиотекарь то и дело украдкой озирался, а затем так же быстро отворачивался, нервно поправляя шарф, плотно обмотанный вокруг шеи – несмотря на духоту. Движения библиотекаря казались не осознанными, а скорее рефлекторными, как судороги.
Рудольф проследил за направлением его взгляда, и загадочная нервозность библиотекаря сразу же обрела смысл. Озирался запуганный мишлинг на уже знакомого Рудольфу надзирателя – штурмманна Страшко. Рудольф припомнил, что Октав не просто сидел в этом же лагере, но и трудился здесь в библиотеке. Он крепко задумался. Октав утверждал, что Страшко у него на глазах избивал людей, однако это могло быть лишь частью правды. Рудольфу невольно представилось, как Октав, одетый в лагерную робу, не находит себе места от страха, пока унтерменш, ведомый своей нездоровой натурой, дышит ему в затылок. Рудольф нахмурился и сложил руки на груди. Перверты вызывали у него большую брезгливость, чем славяне, а Страшко вполне мог оказаться носителем обеих характеристик.
Дожидаться окончания концерта Рудольф не стал и вышел на свежий воздух. День был безветренный, в вышине серых небес недвижимо висел белый глаз солнца, а по обледенелой асфальтовой дорожке стучал ломом заключенный из хозобслуги, наполняя воздух лязгом железа. Замеченный Рудольфом библиотекарь, когда окончилось выступление, воспользовался правом придурков не перемещаться по лагерю строем, покинул культурхауз одним из первых и поспешно, чуть ли не бегом устремился к кирпичному ряду двухэтажных бараков, натягивая на ходу шапку и рукавицы. Он ретировался настолько быстро, что Рудольф даже не успел прочесть личные данные на его бирке, разглядев лишь зеленый винкель уголовника.
Ужин у Менгеле, запланированный на вечер, тоже привнес в командировку Рудольфа элемент нервозности. На происходящем лежала невидимая печать горячечного бреда: в углах бледно-голубой столовой стелились тени, хрустальная люстра горела вполсилы, отражаясь в мейсенском фарфоре дряблыми бликами, и тихо сменяли друг друга старые шлягеры Марики Рёкк, будто время в доме коменданта застыло еще в сороковых и теперь не намеревалось трогаться с места. От чашек с глинтвейном и гуляша в супнице поднимался призрачный пар. Второй гость, гауляйтер Гитлерштадта по имени Александр Малов, вызывал у Рудольфа не самые товарищеские чувства, потому что являлся пожилым группенфюрером[45] и ассимилированным русским, который во время войны командовал дивизией СС «Байкал». Рудольфа уязвляло, что какой-то славянин занимает ту же должность, что и его отец, чистокровный немец из древнего прусского рода.
[45] генерал-лейтенант
Запивая чрезмерно острый гуляш глинтвейном, Рудольф понемногу пьянел. Перед ним всё яснее вырисовывалась ирония ситуации: фюрер относился к восточным народам с таким презрением, что даже не видел в них человеческих существ и намеревался извести их под корень, однако его либеральный преемник позволил онемеченным славянам занимать почетные должности в восточных рейхскомиссариатах. Польза, впрочем, от этого была: славяне так боялись лишиться полученных привилегий, что выслуживались куда более рьяно, чем немцы из Европы. Поглядывая на Малова, Рудольф неожиданно для себя затосковал по Октаву. В конце концов, тот был немцем хотя бы наполовину, и пусть даже в нем текла еврейская кровь, но место свое он знал и за его пределы не высовывался, будучи тем, кем и должен был быть по факту рождения.
- Какое нежное мясо. Очень интересный привкус, сладковато-острый… - задумчиво прошамкал Малов, аккуратно шевеля вставными челюстями. Рудольф с неохотой вернулся в реальность.
- О, это телятина. Привкус обусловлен красным перцем, чесноком и тмином, - довольно улыбнулся Менгеле и кинул на Рудольфа вполне человеческий, даже веселый взгляд. За его плечами виднелись на стене типичные образцы арийской живописи: картина слева изображала валькирию с копьем, а картина справа – пимпфа[46], несущего на плече черное знамя юнгфолька[47]. Рудольф ответил Менгеле светской улыбкой и сделал большой глоток глинтвейна. Перед началом ужина Менгеле объявил, что готовил гуляш собственноручно, и Рудольфу не хотелось его огорчать, давая знать, что в кулинарии он не так хорош, как в лагерных делах.
[46] член организации «Юнгфольк», мальчик в возрасте от 10 до 14 лет
[47] младшая возрастная группа гитлерюгенда
- Надо сказать, инспектор, что вы приехали в неспокойное время. В Паульмунде убивают детей, - произнес вдруг Менгеле.
- Детей? – переспросил Рудольф.
- Сегодня утром на промзоне возле хлебозавода обнаружили труп гитлерюнге. Со странгуляционной бороздой на шее и без левой ноги.
- К сожалению, это правда, - подтвердил Малов, - маньяк отрубил мальчику ногу. Проводится экспертиза, и я надеюсь лишь на то, что мальчик на тот момент был уже мертв.
- Почему вы считаете, что его убил именно маньяк? – нахмурился Рудольф. Менгеле горько усмехнулся:
- Потому что неделю назад на пустыре возле Дитте тоже нашли труп гитлерюнге. Только тот был без руки. Кто-то убивает детей и почему-то выбирает именно мальчиков.
- К тому же, оба трупа пронумерованы химическим карандашом… - с озабоченным видом продолжил Малов, указав пальцем себе на лоб. - Я завтра же свяжусь с гестапо и попрошу, чтобы они взяли это дело под свой контроль. От крипо мало толку, а медлить никак нельзя, иначе жертв будет еще больше.
- В Берлине был похожий случай лет пять назад. Кто-то насиловал и убивал гитлерюнге, - сказал Рудольф, обращаясь к Менгеле, - расследование курировал сам гауляйтер Берлина, и убийцу в итоге расстреляли. Он оказался чехом.
Менгеле откинулся на спинку стула, запрокинул голову и глухо произнес:
- Исключительно правильное решение. Таких выродков нужно давить после первого же трупа. Если честно, я жалею, что эвтаназия больше не проводится. Со времен последней чистки психопаты расплодились, как тараканы.
- Два года назад у нас в гау без вести пропадали мальчики, - не унимался встревоженный Малов, - и я убежден, что это дело рук одного и того же человека!
- Чем всё закончилось тогда? Кого-нибудь нашли? – спросил Рудольф, исподлобья посмотрев на Малова. Однако страх оказался сильнее расового превосходства, и при мысли о неизвестном убийце Рудольф вздрогнул, будто кто-то неживой, кто-то околевший прикоснулся к его затылку.
- Мы тогда никого не нашли. Ни детей, ни преступника… - мрачно произнес Малов, глядя перед собой. Его рука подрагивала над тарелкой с гуляшом, вилка мелко стучала по фарфору, издавая тихий монотонный лязг.
Неприятная беседа продолжению ужина не способствовала. Расчувствовавшийся Малов, стараясь не выказывать своего смятения, сослался на мигрень и отбыл в Гитлерштадт. Его «опель» отъехал от виллы Менгеле, пересек зыбкую границу между светом фонаря и вечерней теменью, а затем растворился в черноте снегов, словно Александра Малова никогда не существовало. Менгеле оказался не таким впечатлительным, как его партайгеноссе. Он предложил Рудольфу переместиться в кабинет и немного выпить.
Вот только Рудольф в ту ночь свои силы переоценил. Алкоголь размывал его сознание, приводя в хаотическое движение вензеля на темных обоях кабинета, настольную лампу с бахромой и высокий книжный стеллаж, занимающий одну из стен. Менгеле сидел в плетеном кресле, неспешно потягивал крымское вино и время от времени подливал Рудольфу, чей бокал довольно быстро пустел. Лишаясь концентрации, Рудольф то и дело ронял голову на журнальный столик и утыкался лбом в свежий номер эсэсовской газеты «Дас шварце кор», но быстро приходил в себя. Всякий раз его расфокусированный взгляд упирался в стеллаж, и обрывками сознания Рудольф понимал: Октав говорил правду, называя Менгеле русофилом. Одна из полок стеллажа была забита русской литературой, которая раньше находилась под запретом: «Жар-цвет» Амфитеатрова, «Тяжелые сны» Сологуба, «Женщина на кресте» Анны Мар…
- Читаете? – не удержался от вопроса Рудольф и небрежным кивком указал на стеллаж.
- Читаю, куда деваться, - с улыбкой развел руками захмелевший Менгеле, - в этой глуши не так уж и много развлечений.
- Это же литература дегенератов. Русских дегенератов, - пристально посмотрел на него Рудольф.
- Которую доктор Геббельс легализовал, - добродушно парировал Менгеле. Рудольфа покоробила его фамильярность по отношению к новому фюреру. Октав вновь показался ему весьма приятным человеком.
Менгеле лукаво усмехнулся:
- Неужели вы не читали ничего из запрещенки, Рудольф? Совсем ничего?
- Пытался. Не выдержал обилия упаднических мотивов, разврата и пессимизма. В этих книгах нет истинно немецкого духа, нет ничего героического и высокодуховного, только грязь и…
- Спорить не буду, вы правы, - вежливо перебил его Менгеле, оборвав тягучую пьяную речь, - но этого следовало ожидать. Посмотрите, пожалуйста, в окно. Что вы там видите? Пустой горизонт, темнота, снег, холод… А ведь такая угнетающая погода держится здесь больше шести месяцев в году.
Рудольф нехотя посмотрел в окно. Описание Менгеле оказалось весьма точным, пожалуй, даже излишне точным. Иссиня-черная гуща неба кишела извивами туч, протяжно ухала лесная сова, а мороз касался стекла, исподволь покрывая его заостренной вязью.
- Легко писать о героизме, проживая в Баварии, где горные склоны покрыты цветущими эдельвейсами. Но можно ли писать о героизме, наблюдая из года в год подобное зрелище? Такой пейзаж заставляет думать в лучшем случае о выживании. В худшем – о фатализме и неумолимости бытия. Знаете, как славяне называют такое умонастроение? Русская смерть. Категория скорее духовная, чем материальная…
Рудольф пожалел, что не уехал одновременно с Маловым. Разговор определенно сворачивал не туда.
- Простите, - усмехнулся Менгеле, заметив недовольство в его покрасневшем лице, - я уже пятый год в Паульмунде живу. Совсем одичал.
Рудольф не помнил, как вернулся в концлагерь. Калейдоскоп восприятия кружился, показывая ему то полную луну, облепленную оспинами, то её бледный свет на деревянном крыльце, то мохнатые каскады еловых лап в саду Менгеле. Урчание мотора смешивалось с рассыпающимися фразами Гельмута, смысл которых до Рудольфа не доходил, а темнота перед глазами кружилась и обретала глубину.
Если бы не тошнота, которая родилась в набитом желудке и подкатила к горлу, Рудольф проспал бы до утра. Он смутно припоминал холод металла под голой ладонью, непереваренные кусочки мяса из гуляша Менгеле, которые лежали в белом снегу, словно потухшие угли, и гранитные надгробья кладбища за кованым забором. Совсем уж урывочно Рудольф запомнил метаморфозу, которая с кладбищем произошла.
Накатил тяжелой волной утробный гул, выросли вокруг могил серебристые оградки, а надгробные плиты сменились косыми прямоугольниками, ржавую поверхность которых покрывали струпья синюшной краски. Границы предметов расслаивались, обретали разноцветные контуры, бешено наскакивали друг на друга, но оставались при этом болезненно отчетливыми, будто Рудольф смотрел на мир через искажающую линзу. На одной из могил застывшим пятном лежал лунный свет. Пятиконечная звезда над фотографией старика в советской военной форме, кириллическое имя, пара искусственных гвоздик… Удивленное восклицание замерло у Рудольфа в груди, так и не превратившись в звук, когда он увидел дату смерти. Русский ветеран скончался в 1995 году.
Не помня себя от иррационального ужаса, Рудольф метнулся обратно в машину. Снова нахлынула пьяная дрема, и в этом полусне Рудольф видел себя со стороны, видел с высоты птичьего полета пустотную панораму сибирского леса, погруженного во мрак – леса, где некогда воевал дядюшка Альберт.
Рудольф часто бывал у него в гостях, когда состоял в юнгфольке. Жил дядюшка Альберт уединенно, в небольшом доме в пригороде Берлина, а истории, которые он рассказывал поздними вечерами, врезались в память Рудольфа настолько хорошо, что оставили в его характере незримый след. С ностальгическим теплом в голосе дядюшка Альберт вспоминал о временах, когда ему удавалось расстреливать в день по несколько сотен русских. Желтое свечение лампы разжигало мертвенные огоньки в его слепом глазу, пораженном бледным пятном катаракты, в обручальном кольце на узловатом пальце правой руки, которое было выплавлено из золотых зубов.
Пухлые фронтовые альбомы дядюшки Альберта, которым была отведена отдельная полка в книжном шкафу, с бесстрастной точностью отражала будни айнзатцгрупп на Востоке: трупы цыган, лежащие в сырых рвах, как шпроты в банке, повешенные евреи с синюшными лицами и горящие деревни. Дядюшка Альберт позировал фотографу, то придерживая за ноги висельника, то стоя на свежем штабеле мертвых тел, то держа в руках человеческие черепа. Один из таких, принадлежавший красному комиссару, прошел сквозь годы и теперь стоял на той же полке, что и фотоальбомы, глядя на победителей пустой чернотой глазниц. Держа в руках вражеский череп, дядюшка Альберт наставлял Рудольфа. Он утверждал, что Восток делает из мальчика или мужчину, или дегенерата – третьего не дано. Говоря о первой категории, он указывал на себя, говоря о второй – постукивал пальцем по желтоватому славянскому черепу.
Накладывались друг на друга слои времени, и в мерцающей снежной чаще проступали километры братских могил, ровные ряды пока еще живых гражданских и застывшие во времени слепки, фантомы молодого дядюшки Альберта, который прохаживался вдоль рвов и стрелял в каждый затылок, оказавшийся возле его сапога.
Рудольф осознал, что спустя долгие годы все-таки оказался там, где должен был оказаться. Пока он превращался из пимпфа в офицера СС, народилось новое поколение дегенератов, змеиным гнездом для которых вновь стал патологический Восток. Одного дегенерата Рудольф уже распознал и теперь не собирался его щадить. Дегенерата следовало повесить, сжечь и вернуть в чернозем, из которого он пришел.
Глава 5
Испытание на прочность
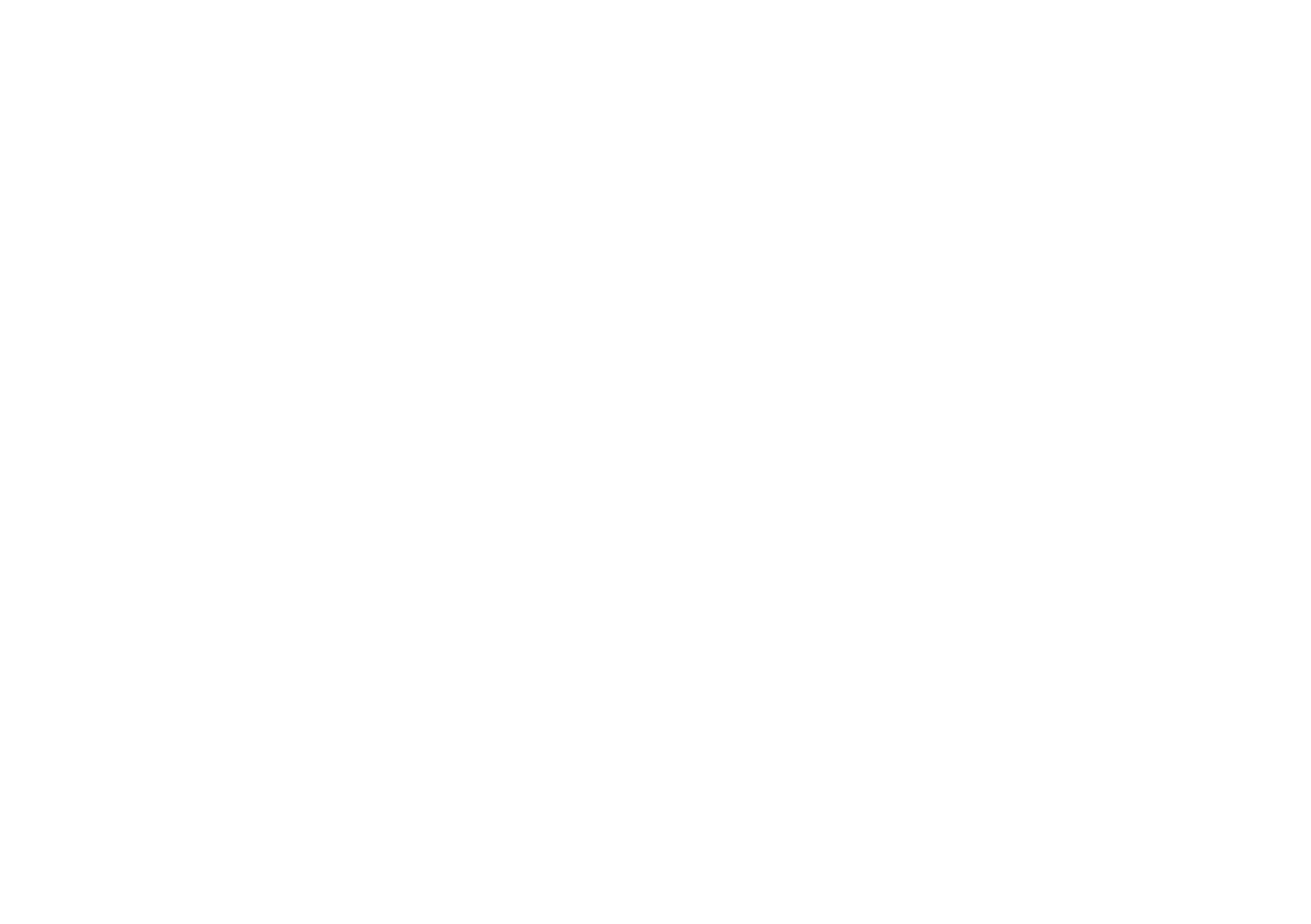
2020 год, апрель
- Что случилось с Фиалкой? Её нашли? – раздался справа от Юдина робкий юношеский голос.
- Частично, - ответил Юдин.
Свидетель по имени Виктор Белкин искривил безвольный рот в печальной гримасе и нервно запустил пятерню в растрепанные черные волосы. Взгляд его карих глаз потух и сделался стеклянным.
Юдин посмотрел на свои цепкие кисти, обтянутые кожаными перчатками, и повернул руль. Серая «тойота» миновала пешеходный мост и съехала на ухабистую грунтовку, которая вела вглубь лесополосы. Слепо накрапывал прохладный дождь.
Природа оживала, предчувствуя близость лета: оттепель растапливала последние снега, в зеленеющей густоте берез рассыпались трелями зяблики, а по сизому руслу Смородины, в котором зыбко отражались чайки и комья кучевых облаков, ползли бледные останки ледохода. Вот только Белкина, - студента финколледжа, скоростного наркомана и совершеннолетнего гражданина своей страны, - воскрешение природы не радовало. Если бы он знал, что оказался здесь не ради установления правды, а всего лишь по прихоти Юдина, который до сих пор не мог выйти на след убийцы и понемногу терял над собой контроль, то красота загородного леса померкла бы в его глазах окончательно.
На прошлой неделе вновь заявил о себе душегуб, которого Юдин прозвал Смородинским маньяком. Отрубленную конечность, на этот раз левую ногу, обнаружили в промзоне Матросовского микрорайона подростки, которые проживали неподалеку. Юдину пришлось прервать обед, позвонить Гатауллину и поспешно выехать на восточную окраину Павлозаводска.
Ландшафты Смородинский маньяк выбирал колоритные. Над промзоной ползли серые клубы заводского дыма, бетонные заборы с ромбовидным рельефом были испещрены черными пятнами плесени, а громады заброшенных цехов напоминали монструозные хребты вымерших ископаемых, не сумевших пережить приватизацию. Над разветвлениями слякотных дорог буквами «П» нависали трубы теплотрассы, покрытые клочьями изоляции и коричневой ржавчиной.
Под изгибом именно такой трубы, которая тянулась вдоль забора хлебозавода, и лежала женская нога: анорексично-костлявая, окоченелая, покрытая ниже колена синеватыми трупными пятнами. На белом хлопковом гольфе виднелись засохшие брызги грязи, а в лакированной черноте ботинка сумеречно поблескивали искры прохладного солнца. Мысок ступни отсутствовал. Смородинский маньяк отпилил его вместе с обувью. Почерк был тот же: искусственная гвоздика, привязанная траурной лентой к истощенному бедру, и ярко-желтая цифра «2» над угловатым шарниром колена.
Глядя на отрубленную ногу, окруженную стеклянно-темными лужами, Юдин ощутил тусклую дрожь предвкушения, которая родилась в затрепетавшем сердце, а теперь медленно ползла к кончикам пальцев. Омрачить эту радость не мог даже сладковато-тошнотный запах суточного трупа. Юдин посветил фонариком смартфона на подошву ботинка. Тот был тридцать восьмого размера.
На этом улики закончились. Возле теплотрассы не обнаружилось ничего, что могло бы указать на преступника: ни крови, ни следов обуви, ни отпечатков шин. Даже если они и были, то вчера их уничтожил один из первых раскатистых ливней, оставивший после себя хлюпкую слякоть и влажный аромат озона. Юдин поморщился. У ноги практически не было особых примет – лишь тонкий, едва заметный шрам на голени.
В управление Юдин возвращался, предвидя следственные хлопоты. На заднем сиденье его машины сидел Гатауллин, который листал толстую файловую папку и просматривал заявления о пропаже несовершеннолетних за апрель. По правую сторону улицы блестели на солнце широкие парапеты набережной, облицованные рыжеватым гранитом, а тугие струи фонтанов взмывали в прозрачный воздух и каплями осыпались на поверхность воды. Гатауллин пытался сохранять равнодушный вид, однако выдавал себя излишне напряженными желваками. В голову Юдина закралось смутное предположение. Нервозность Гатауллина могла быть обусловлена вовсе не состраданием к жертве, а потаенным воодушевлением. Когда Юдин начинал службу в прокуратуре, он тоже скрывал свои склонности под маской трудолюбия.
- Убийца-то у нас эстет, - пошутил Юдин. Ему захотелось проверить свою догадку.
- И фетишист, - рассудительно добавил Гатауллин, не отрывая взгляда от папки с заявлениями. В зеркале заднего вида отражалось его сосредоточенное лицо с поблескивающими темными глазами, похожими на ягоды дурманящей белены. Юдин задумался.
- Да. Вполне возможно, - согласился он, вспомнив про белый гольф и ботинок, - малолетки сейчас не одеваются, как… пионеры.
Ничего хорошего это не сулило. Скорее всего, то ли до убийства, то ли после Смородинский маньяк переодевал свои жертвы, и по сравнению с этим самобичевание Фишера было невинной забавой. К тому же, маньяк начал деградировать. Вторая конечность была изувечена с большей жестокостью, чем первая. Следующих жертв Смородинского маньяка ожидала прискорбная судьба.
- Что за праздник недавно был? Позавчера? – спросил вдруг Юдин. Его пристальный взгляд увяз в серовато-коричневой городской перспективе.
- Пасха, - лаконично ответил Гатауллин.
Юдин усмехнулся:
- Он убивает по праздникам. Следующее убийство произойдет первого мая. В День труда. Наш кровожадный друг склонен к дешевым эффектам.
Предположения вскоре подтвердились. Ботинок оказался неношеным и был велик жертве на два размера. Конкретно эта модель обуви продавалась на всех рынках Павлозаводска и, к сожалению, была этой весной в моде. Лакированную обувь черного цвета носили все горожанки от тринадцати до тридцати.
Экспертиза установила, что мысок от стопы отделили с помощью ножовки или пилы, обнаружила в крови погибшей следы мефедрона и определила время смерти - около одиннадцати часов вечера, в день Пасхи. Узнав, что трупные пятна были сосредоточены в районе стопы, Юдин даже не удивился: скорее всего, убийце нравилось долго держать жертву или её труп в вертикальном положении.
Как и в прошлый раз, отпечатков пальцев на конечности не оказалось. Смородинский маньяк осторожничал и раскрывать свою личность не желал. Жертва, впрочем, тоже. Рентген выявил следы перелома и титановый стержень в голени, однако девочек с такой приметой в списке пропавших, естественно, не было.
Тем временем окончательно подтвердилась непричастность Фишера: восьмого марта он находился на рабочем месте, а во время пасхального убийства играл в «Вархаммер» вместе с такими же повзрослевшими отщепенцами. Если этот мазохист, помешанный на птицах, и представлял для кого-то опасность, то исключительно для самого себя.
Внести ясность теперь могли лишь немые свидетели: ботинок, траурные ленты и гвоздики.
Опрос продавщиц, которые работали на городских рынках и в торговых центрах, ничего не дал. Вспомнить мужчину, который покупал бы женские ботинки определенного фасона, цвета и размера не удалось никому.
Отрезок траурной ленты, найденный на руке Жанны Клименко, и отрезок, который прилагался к ноге, дополняли друг друга, как фрагменты паззла. Юдин предположил, что в распоряжении Смородинского маньяка может быть целая катушка ленты, однако и в этом случае никто не вспомнил подозрительного покупателя. Работники ритуальных агентств, продавщицы из цветочных киосков и пенсионерки, торгующие похоронной атрибутикой возле кладбищ, следствию помочь не смогли.
Обе гвоздики не были выгоревшими, следовательно, Смородинский маньяк где-то их купил, а не подобрал на случайной могиле, и проведенный опрос принес щедрый улов в виде шестнадцати подозрительных мужчин, но и они оказались безобидными горожанами, у которых имелось твердое алиби.
Второй эпизод безнадежно увяз в шатких версиях, многочисленных протоколах и результатах экспертиз. Уголовное дело разрослось до трех увесистых томов. Смородинский маньяк был неуловим, как Фантомас. Юдин не находил себе места, однако старался этого не выказывать, а в супермаркетах стоически избегал полок с алкоголем.
Не раз он задумывался о траурной ленте и гвоздиках, происхождение которых оставалось для него загадкой, а в итоге приходил к мысли, что Фишер раньше работал как раз-таки в ритуальном агентстве, где их можно было незаметно украсть. Однако эта версия была лишена логики, поэтому Юдин от неё отказывался – тоже стоически.
На пятый день поисков Гатауллин наконец вышел на мать жертвы, Дарью Кашину, которая работала бухгалтером. Опознав в отрубленной конечности ногу своей пропавшей дочери, тощей девочки с голубыми волосами, полноватая Кашина рассказала о ней много удручающего. В свои пятнадцать лет Мария была анорексичкой, мефедроновой наркоманкой и водила знакомства с совершеннолетними парнями.
Сдерживая нарциссический надрыв, Кашина сообщила, что в день убийства, около шести часов вечера её дочь без спроса ушла гулять. Юдин задался вопросом, где же Мария находилась те семь часов, которые отделяли её от смерти. Кашина указала на двух подруг Марии, ровесниц такого же круга и привычек, а особенно отметила некоего Витю, который учился в финколледже. Лакированный ботинок, как Гатауллин и предполагал, принадлежал не жертве. Та ушла гулять в замшевых сапогах тридцать шестого размера.
Место, где маньяк напал на Марию, оказалось не менее колоритным, чем промзона. Это была лесополоса, раскинувшаяся по необжитому берегу Смородины. С десяти до одиннадцати часов вечера Мария находилась именно там, под серовато-зелеными кронами пробуждающихся деревьев, и за это время ей восемь раз звонил абонент по имени Виктор Белкин, однако все его звонки остались без ответа: Мария сбрасывала.
Юдин бродил по березняку, где предположительно убили Марию, и выискивал следы борьбы. Березовые сережки, похожие на коконы насекомых, подрагивали на стылом ветру, а полуденное солнце высвечивало в прозрачно-нежных листьях темные росчерки прожилок. Не прошло и часа, как Юдину бросилась в глаза неаккуратная ямка, которую скрадывала тень жгутообразного корня. Под засохшими комьями земли проглядывало нечто синее и крохотное. Загадочная находка оказалась зиплоком, сложенным в несколько раз и обмотанным изолентой, а внутри находилось два грамма мефедрона. Видимо, в лес Мария пришла добровольно, чтобы забрать закладку. Вот только вернуться к друзьям ей помешал Смородинский маньяк.
«Опять Смородина…» - невольно насторожился Юдин и уже в который раз вспомнил о хладнокровном Фишере, однако усилием воли от этой версии отказался. Серийник был педофилом с садистскими наклонностями, который уже привлекался за изнасилование или убийство. Также у него была возможность похищать девочек, транспортировать их к месту казни, а затем разбрасывать части тел по противоположным краям города, которыми как раз и являлись Смородинский и Матросовский микрорайоны.
«Фишер ездит на вишневом «рено»…» - снова мелькнула у Юдина непрошеная мысль, но он её решительно подавил. Как бы ему ни хотелось запугать Фишера, сбить с него спесь, подавить его морально, превратив в скулящее полумертвое ничтожество, совершать этого было нельзя. Несколько часов восторга не стоили многолетней службы в Следственном комитете.
Юдин осознавал, что его одержимость выходит за рамки нормы. Пользуясь поводом, он узнал о Фишере достаточно, чтобы составить представление о его характере. Бабушка Фишера, Лора Генриховна Шлихенмайер, была весьма суровой женщиной, немкой по происхождению и ловким нотариусом, чье имя упоминалось в нескольких уголовных делах девяностых годов. Дедушка, Эммануил Наумович Фишер, работал на тракторном заводе и обладал мягким характером, а его национальность была очевидна. Мать, Эвелина Эммануиловна Фишер, пропала без вести в девяносто седьмом. А их близорукий потомок, судя по характеристике из ИК-2, был весьма своенравен, склонен к членовредительству и подвержен приступам гнева. Переломить его через колено было делом принципа.
Вернувшись из лесополосы в управление, Юдин приказал следственной группе проверить алиби всех потенциальных виновников из его личной картотеки, а сам занялся оформлением документации. Вечером, когда уже стемнело, он позволил себе выйти на крыльцо и подышать свежим воздухом. До Первомая оставалось меньше четырех суток. Юдин чуть ли не физически ощущал, как утекает сквозь пальцы чужое время.
На городской площади, возле которой находилось управление Следственного комитета, жались друг к другу скрюченные клены с белеными стволами. Слева призрачно мерцала кроваво-красным шкала циклопического термометра, главной достопримечательности Павлозаводска, а справа нестройно каркали серые вороны, сидящие на крыше детского театра вместе с бронзовыми гномами, вышедшими из рассказов Гофмана. Гномы улыбались длинными ртами и держали в руках резные фонари. Темно-желтые веера дымчатого света падали на асфальт, словно кадры советского диафильма на белую простыню. Павлозаводск погружался в вязкую, как гриппозная мокрота, ночь, лишенную отблесков луны.
Такой же непроглядный мрак наваливался на окна квартиры Юдиных в восьмидесятых, когда засыпал в своей кровати детсадовец Рома. Под прозрачным корпусом ночника светились четыре самоцвета, чьи пестрые блики облизывали нарисованный фон: белые шапки гор, занесенную снегом долину, деревянные избы на берегу реки… Веки Ромы медленно наливались свинцом, а мягкое свечение самоцветов превращалось в скошенные кресты: медово-желтый, травянисто-зеленый, васильково-голубой, гранатово-красный…
Таким же непроглядным, но уже метафорическим мраком был пропитан воздух девяностых, когда подросток Рома раскрашивал акварелью самодельные гирлянды из бумажных колечек, чтобы создать для растерянных родителей, которых он очень уважал, ощущение праздника. Невысокая елка, купленная на перекрестке, пахла древесной смолой, а под её тонкими ветвями улыбались артефакты сталинской поры - Дед Мороз и Снегурочка из поблескивающей ваты.
Однако вяжущий мрак, который дремал в холодном сердце Юдина, был совсем иного порядка. Он был внутренним, сугубо индивидуальным и временами наводнял воображение Юдина сценами, которым позавидовали бы главные фигуранты его уголовных дел. Обычно Юдин своим желаниям противился, но на этот раз решил сделать исключение. Виктор Белкин, которому не повезло оказаться другом убитой Марии, внешне напоминал Фишера, отличаясь от него лишь виктимными повадками. Юдин полагал, что причиной этому сходству были еврейские корни, которые точно имелись у Фишера и наверняка присутствовали у Белкина. Юдин был уверен, что угрожающий монолог вкупе с табельным «макаровым» повергнет Белкина в запредельный ужас. Увидеть в таком состоянии Фишера не представлялось возможным, однако его вполне мог заменить Белкин, у которого тоже были черные волосы, карие глаза и не совсем прямой нос.
Проживал Белкин в старой части города, построенной сначала коряковскими купцами, а затем павлозаводскими коммунистами. На улице Бебеля до сих пор возвышался трехэтажный дом, некогда бывший самым высоким в Павлозаводске. Под его осыпающейся морковной штукатуркой таилась кладка из красных кирпичей, которые до революции были частью православного собора. Большевики приказали собор взорвать, а оставшийся от него материал пустить на социалистическое строительство. При Сталине дом приобрел статус элитного, и населять его стали партийные функционеры, за что горожане красноречиво прозвали его «шишкой».
Именно в одной из пятнадцати квартир «шишки» проживали интеллигентные Белкины и их непутевый отпрыск, донельзя обожаемый ими поздний ребенок. Дождавшись перерыва, Юдин решил пожертвовать обедом и поехал в старый город. Дорога отняла не больше пяти минут: Павлозаводску не был присущ крупный масштаб.
Поднимаясь по лестнице на последний этаж, Юдин рефлекторно выглянул в круглое окно и заметил, что детскую площадку неспешно пересекает Виктор Белкин. Пройдя мимо железной беседки, тот нырнул в решетчатую тень погнутой ракеты и направился к подъезду. Юдин хмыкнул. Он выбрал для засады наиболее темный угол лестничной клетки и прислонился к стене, цвет которой напоминал о разбавленной зеленке. «Макаров» приятно оттягивал карман форменного плаща. Яркий овал света, отбрасываемый окном, лежал на потертом клетчатом полу, словно лужица желчи.
Скрипнула подъездная дверь. Стали приближаться шаги, бьющие то по стертым ступеням, то по черно-белой плитке. Звук становился всё громче, и наконец за изгибом лакированных перил показался долговязый Белкин. Мешковатая черная куртка и мятые джинсы с подворотами придавали ему вид вокзального попрошайки, а лицо было заспанным, будто встал Белкин совсем недавно. Вблизи он действительно напоминал Фишера: молодого, боязливого и опустившегося на социальное дно.
- Здравствуй, Витя. Как дела? – медленно вышел из темноты Юдин. Его улыбка была подчеркнуто спокойной. Белкин застыл на середине лестницы, а потом заметил синюю униформу и машинально шагнул назад, но быстро подавил смятение.
- Вы кто? Что вам от меня надо? – спросил он с некоторым нахальством. Затем поправил куртку, почесал нос и переступил с ноги на ногу, выдав тем самым свою нервозность. Юдин пристально посмотрел на него сверху вниз:
- Майор Лукин. Ты должен кое-куда со мной съездить.
- С чего вы взяли, что я куда-то с вами поеду? – возмутился Белкин.
- Потому что ты торчишь, а твои родители почему-то до сих пор об этом не знают. Хотя уже давно должны были что-то заподозрить. Кажется, они слишком наивные и ранимые, надо раскрыть им глаза…
Белкин дернулся, словно его окатили ледяной водой:
- Вы чего тут!..
- Они ведь могут узнать про твои мутки. И не только они. Колледж, наркологичка…
Белкин умолк. На свету было заметно, как побледнело и перекосилось его тощеватое лицо с острыми скулами, темными подглазьями и аллергической сыпью. Лихорадочно забегали карие с рыжиной глаза.
- Куда я должен поехать? – обреченно спросил он. Кажется, ему и впрямь не хотелось огорчать родителей.
- В лесополосу за Смородиной. Надо кое-что прояснить по делу Марии Кашиной.
- Насчет Фиалки? – изумился Белкин и, немного расслабившись, потупился. – Если так, то я, естественно, поеду. Могли бы и не угрожать.
Юдин прошел мимо него и бросил через плечо:
- Это не займет много времени. Верну тебя домой через час, не больше. Никто и не заметит, что ты отсутствовал.
Даже не попросив Юдина предъявить документы, Белкин покорно последовал за ним к машине. Уговорить этого тепличного студента на поездку в лес оказалось проще, чем убить младенца. Юдин поймал себя на мысли, что Фишер, услышав такую сомнительную угрозу, не повел бы себя, как слизняк, и уж точно не поехал бы в лесополосу добровольно.
Путь к Смородине занял пятнадцать минут. Чем дальше Юдин углублялся в весенний лес, тем сильнее в лице Белкина проступала напряженность, однако он боялся возразить и молчал, словно кролик под стылым взглядом удава.
Юдин заехал дальше, чем Смородинский маньяк. Остановившись у изгиба дороги, возле которого лабиринт молодых лип сменялся зеленеющим лугом, Юдин вышел из машины. Следом, не дождавшись приказа, торопливо вышел Белкин. Он замялся, нерешительно посмотрел на Юдина и замер возле липняка. За его спиной перешептывалась изумрудная листва, по которой тихо барабанила морось.
Вскинув подборок, Юдин непринужденным, нарочито долгим взглядом окинул пустое пространство луга. Ветер кружил в небе, которое затягивалось серыми тучами, и гнал зеленые волны по траве, усеянной бледно-голубой россыпью колокольчиков. Воздух пах озоном, предвещая грозу.
- Что вы хотели узнать, товарищ майор? – выдавил Белкин, нервно облизав пересохшие губы. Юдин посерьезнел и повернулся к нему.
- Тамбовский волк тебе товарищ, - произнес он и отточенным движением выхватил из кармана пистолет.
Белкин приоткрыл рот, сдавленно вскрикнул, будто его горло сдавили невидимые пальцы, и замер на месте. Дуло пистолета, направленное на него, было черным оком подкравшейся смерти, которая прежде бродила за иллюзорным пологом, а теперь встала перед Белкиным во весь рост.
- Человеческая жизнь, Витя, ничем не отличается от свечи, - задумчиво начал Юдин, держа его на мушке, - её можно погасить одним движением, а если есть опыт, то оборвать чье-то существование можно буквально за секунду, и жертва этого даже не заметит. Хотя это, конечно, не твой случай. Ты умрешь не сразу.
- Так это вы тот… - промямлил Белкин, но потерял дар речи. Он сглотнул, и кадык на его горле шевельнулся, словно заползший под кожу червь.
- Нет, я не тот. Тот убивает женщин. А я – щеглов вроде тебя, - зловеще улыбнулся Юдин. Он медленно шагнул вперед, в его взгляде проступила неподдельная жажда власти. Белкин закусил губу. Теперь его лицо было не просто бледным, а землисто-белым, как лесная поганка.
- Знал бы ты, как меня удивила твоя тупость. Ты пришел сюда по собственной воле, как баран на скотобойню. Если хочешь сбежать, можешь попытаться. Но учти, я метко стреляю. Даже если ты рванешь с места и начнешь петлять между деревьями, я всё равно прострелю тебе колени. Спастись ты не сможешь, судьбу свою не облегчишь, а меня только повеселишь. Мне нравится, когда вы сопротивляетесь.
- За что? Я ничего не сделал… - севшим голосом пробормотал Белкин. В широко распахнутых глазах мелькнула паника, оцепенение сменилось крупной дрожью. У Белкина тряслись колени, он судорожно, до белизны в костяшках цеплялся за липовые ветви, словно они могли его как-то защитить.
- Какая разница? Я убью тебя лишь потому, что мне нравится этим заниматься. Такое уж у меня хобби, - холодно произнес Юдин и перешел на тон, сочащийся самолюбованием. – Сначала я хотел повесить тебя или обезглавить, как поступали с конокрадами предки нынешних татар, но в итоге выбрал огнестрел. Потому что я крайне хорош в стрельбе.
У Белкина вырвался истерический всхлип. Силы окончательно покинули его, и он начал оседать на влажную землю. Потускнел взгляд, спазматически задергался подбородок, влажно заблестели щеки. Юдин звонко рассмеялся. Именно этого ему так остро не хватало со времен развода. Вид униженного, до смерти перепуганного Белкина отпечатывался в памяти Юдина, как портрет на фотопленке: подогнувшиеся ноги с шишковатыми лодыжками, обветренная кисть, сползающая по зеленоватой коре, черные пряди, прилипшие к вспотевшему лбу… Юдин усмехнулся и убрал «макаров», магазин которого был совершенно пуст, обратно в карман плаща. Пора было заканчивать этот спектакль.
- Я пошутил. Больше не торчи, - добродушно произнес Юдин.
Эти слова произвели на Белкина неожиданное впечатление: он обмяк окончательно и мешком повалился наземь. Съежившись, он попытался фальшиво улыбнуться, однако вновь издал всхлип, похожий то ли на вздох облегчения, то ли на стон ужаса.
- Подвезти домой или сам дойдешь? – участливо наклонился к нему Юдин.
- Нет, спасибо, я сам, не хочу вас напрягать… - пробормотал Белкин. Он опустил голову, избегая прямого взгляда, и уставился на свои дрожащие пальцы, которые впивались в темную почву. Если бы Юдин и вправду был серийным убийцей, то наверняка оценил бы такую покорность и сжалился над Белкиным, убив его милосердным выстрелом в голову.
Однако Юдин никого убивать не собирался. Нужно было вернуться в управление, пока не подошел к концу обеденный перерыв. Юдин сел в машину и поехал к мосту. Оторопевший Белкин остался лежать под набирающим силу дождем. На губах Юдина блуждала осоловелая улыбка, маслянисто блестели глаза, в которых расширились, подобно чернильным кляксам, зрачки. Вдалеке послышались раскаты грома, и серое небо над лесополосой озарилось молнией. На Павлозаводск надвигалась майская гроза.
Результат превзошел все ожидания Юдина. Белкин оказался настолько ведомым, что даже не пошел в полицию. И хотя Юдин на всякий случай продумал линию защиты, он прекрасно понимал, что Белкину, явному наркоману, не поверили бы, даже получив от него заявление. Тот не смог бы подкрепить свое обвинение зафиксированными побоями, а без них его слова ничего не стоили. К тому же, на стороне Юдина была репутация справедливого сотрудника, соблюдающего правила.
В преддверии Первомая полиция усилила патрулирование на окраинах Павлозаводска, а особенно в Смородинском микрорайоне. Именно один из патрулей ППС, который около полуночи проезжал мимо дикого пляжа, обратил внимание на сдавленные хрипы, доносящиеся из-за вербных кустов. Девушка, которую услышали сотрудники полиции, чудом избежала удушения и изнасилования, а преступник попытался скрыться, нырнув в Смородину, но его выловили и задержали.
Неопрятного доходягу с желтушной кожей доставили в управление Следственного комитета, где по случаю праздничного дня бодрствовал Юдин. Держась мрачновато, но спокойно, задержанный сообщил, что его зовут Денис Смирнов и недавно он вышел из колонии под Красными Шахтами, где отбывал срок за изнасилование. Юдин взглянул на справку об освобождении, которая сушилась у него на столе под включенной лампой. Смирнов освободился три дня назад. Ни одно из смородинских убийств он совершить не мог. Юдин побелел от злости и ударил Смирнова по лицу - с такой силой, что тот упал на пол вместе со стулом.
Домой Юдин вернулся лишь под утро. Сон не шел. Провал минувшей ночи бил по самолюбию, как тяжелый кулак, а жгучее недовольство, зреющее внутри, заглушало отголоски дремы. Впрочем, подобное было для Юдина не в новинку. Похожим образом дела обстояли с серийником Мироновым, который выдал себя лишь на одиннадцатой жертве, труп которой самозабвенно искусал. Миронов до сих пор был жив. Он дожидался смерти в «Черном дельфине». Весь первый год он донимал администрацию колонии жалобами на черта, который каждое полнолуние подвергал его пыткам. Вдаваясь в подробности, Миронов описывал мучения, от которых страдали его же жертвы, и это, по мнению Юдина, доказывало скудность его фантазии. Планирование не было сильной стороной Миронова, он был насквозь иррационален. Психиатрическая экспертиза, которая в итоге всё же состоялась, признала Миронова симулянтом. Осознав бессмысленность своих попыток, тот прекратил морочить всем голову. Впрочем, признаки нервного потрясения у него действительно обнаружились, но в его положении это было естественно.
Чтобы прийти в себя и все-таки заснуть, Юдин решил посмаковать прежние победы. Он вылез из-под верблюжьего одеяла и направился в зал. Золотистые утренние лучи легкими мазками ложились на паркет, угловой диван, обитый рогожкой, и красный настенный ковер, по которому вились щупальца орнамента. Сбоку от дивана располагалась этажерка, каждую полку которой занимали книги: юриспруденция, паталогическая анатомия, судебная психиатрия... Художественные книги, приобретенные родителями Юдина задолго до его рождения, стояли на самой нижней полке - там, куда вряд ли бы сунул нос любопытный гость.
Юдин взял в руки потрепанный томик Гайдара с красной конницей на обложке, вытащил из него пухлый конверт и улегся на диван. Конверт был набит фотографиями людей. Юдин подолгу изучал нежным взглядом каждый снимок, подставляя его под теплый солнечный свет. В его медленных движениях просматривалась медитативная увлеченность. Напряжение минувшей ночи плавно спадало. Юдин с нескрываемым довольством рассматривал снимки людей, которых он хотя бы раз мысленно истязал.
Это были мужчины и женщины разных профессий, но объединяло их одно - темные волосы и резкие черты лица. Фотография бывшей жены Юдина, долговязой брюнетки с темно-серыми глазами, шла по счету самой первой, и даже посторонний неизбежно подметил бы, что внешне она чем-то напоминала и Фишера, и Белкина.
Коллеги, с которыми не получилось ужиться, журналисты, которые совали нос не в свое дело, фигуранты, которые вели себя слишком дерзко… Юдин выуживал из глубин памяти сцены, которые никогда не происходили наяву и были за счет этого особенно кровожадными. Пострадать по-настоящему довелось лишь бывшей жене и Белкину. Легкий дискомфорт Фишера, который тот испытал на допросе, Юдин страданием не считал.
Белкин показал себя хорошим эрзацем, его искренний испуг временно затмил фантазию об избитом Фишере, валяющемся в грязи лесопосадки. Юдин до сих пор смаковал страх Белкина, пахнущий полевыми травами, гнилью прошлогодней листвы и влажной землей. Конечно, будь на месте Белкина близорукий, вынужденно беспомощный Фишер, он повел бы себя точно так же. Вот только его перед этим пришлось бы долго переубеждать.
- Что случилось с Фиалкой? Её нашли? – раздался справа от Юдина робкий юношеский голос.
- Частично, - ответил Юдин.
Свидетель по имени Виктор Белкин искривил безвольный рот в печальной гримасе и нервно запустил пятерню в растрепанные черные волосы. Взгляд его карих глаз потух и сделался стеклянным.
Юдин посмотрел на свои цепкие кисти, обтянутые кожаными перчатками, и повернул руль. Серая «тойота» миновала пешеходный мост и съехала на ухабистую грунтовку, которая вела вглубь лесополосы. Слепо накрапывал прохладный дождь.
Природа оживала, предчувствуя близость лета: оттепель растапливала последние снега, в зеленеющей густоте берез рассыпались трелями зяблики, а по сизому руслу Смородины, в котором зыбко отражались чайки и комья кучевых облаков, ползли бледные останки ледохода. Вот только Белкина, - студента финколледжа, скоростного наркомана и совершеннолетнего гражданина своей страны, - воскрешение природы не радовало. Если бы он знал, что оказался здесь не ради установления правды, а всего лишь по прихоти Юдина, который до сих пор не мог выйти на след убийцы и понемногу терял над собой контроль, то красота загородного леса померкла бы в его глазах окончательно.
На прошлой неделе вновь заявил о себе душегуб, которого Юдин прозвал Смородинским маньяком. Отрубленную конечность, на этот раз левую ногу, обнаружили в промзоне Матросовского микрорайона подростки, которые проживали неподалеку. Юдину пришлось прервать обед, позвонить Гатауллину и поспешно выехать на восточную окраину Павлозаводска.
Ландшафты Смородинский маньяк выбирал колоритные. Над промзоной ползли серые клубы заводского дыма, бетонные заборы с ромбовидным рельефом были испещрены черными пятнами плесени, а громады заброшенных цехов напоминали монструозные хребты вымерших ископаемых, не сумевших пережить приватизацию. Над разветвлениями слякотных дорог буквами «П» нависали трубы теплотрассы, покрытые клочьями изоляции и коричневой ржавчиной.
Под изгибом именно такой трубы, которая тянулась вдоль забора хлебозавода, и лежала женская нога: анорексично-костлявая, окоченелая, покрытая ниже колена синеватыми трупными пятнами. На белом хлопковом гольфе виднелись засохшие брызги грязи, а в лакированной черноте ботинка сумеречно поблескивали искры прохладного солнца. Мысок ступни отсутствовал. Смородинский маньяк отпилил его вместе с обувью. Почерк был тот же: искусственная гвоздика, привязанная траурной лентой к истощенному бедру, и ярко-желтая цифра «2» над угловатым шарниром колена.
Глядя на отрубленную ногу, окруженную стеклянно-темными лужами, Юдин ощутил тусклую дрожь предвкушения, которая родилась в затрепетавшем сердце, а теперь медленно ползла к кончикам пальцев. Омрачить эту радость не мог даже сладковато-тошнотный запах суточного трупа. Юдин посветил фонариком смартфона на подошву ботинка. Тот был тридцать восьмого размера.
На этом улики закончились. Возле теплотрассы не обнаружилось ничего, что могло бы указать на преступника: ни крови, ни следов обуви, ни отпечатков шин. Даже если они и были, то вчера их уничтожил один из первых раскатистых ливней, оставивший после себя хлюпкую слякоть и влажный аромат озона. Юдин поморщился. У ноги практически не было особых примет – лишь тонкий, едва заметный шрам на голени.
В управление Юдин возвращался, предвидя следственные хлопоты. На заднем сиденье его машины сидел Гатауллин, который листал толстую файловую папку и просматривал заявления о пропаже несовершеннолетних за апрель. По правую сторону улицы блестели на солнце широкие парапеты набережной, облицованные рыжеватым гранитом, а тугие струи фонтанов взмывали в прозрачный воздух и каплями осыпались на поверхность воды. Гатауллин пытался сохранять равнодушный вид, однако выдавал себя излишне напряженными желваками. В голову Юдина закралось смутное предположение. Нервозность Гатауллина могла быть обусловлена вовсе не состраданием к жертве, а потаенным воодушевлением. Когда Юдин начинал службу в прокуратуре, он тоже скрывал свои склонности под маской трудолюбия.
- Убийца-то у нас эстет, - пошутил Юдин. Ему захотелось проверить свою догадку.
- И фетишист, - рассудительно добавил Гатауллин, не отрывая взгляда от папки с заявлениями. В зеркале заднего вида отражалось его сосредоточенное лицо с поблескивающими темными глазами, похожими на ягоды дурманящей белены. Юдин задумался.
- Да. Вполне возможно, - согласился он, вспомнив про белый гольф и ботинок, - малолетки сейчас не одеваются, как… пионеры.
Ничего хорошего это не сулило. Скорее всего, то ли до убийства, то ли после Смородинский маньяк переодевал свои жертвы, и по сравнению с этим самобичевание Фишера было невинной забавой. К тому же, маньяк начал деградировать. Вторая конечность была изувечена с большей жестокостью, чем первая. Следующих жертв Смородинского маньяка ожидала прискорбная судьба.
- Что за праздник недавно был? Позавчера? – спросил вдруг Юдин. Его пристальный взгляд увяз в серовато-коричневой городской перспективе.
- Пасха, - лаконично ответил Гатауллин.
Юдин усмехнулся:
- Он убивает по праздникам. Следующее убийство произойдет первого мая. В День труда. Наш кровожадный друг склонен к дешевым эффектам.
Предположения вскоре подтвердились. Ботинок оказался неношеным и был велик жертве на два размера. Конкретно эта модель обуви продавалась на всех рынках Павлозаводска и, к сожалению, была этой весной в моде. Лакированную обувь черного цвета носили все горожанки от тринадцати до тридцати.
Экспертиза установила, что мысок от стопы отделили с помощью ножовки или пилы, обнаружила в крови погибшей следы мефедрона и определила время смерти - около одиннадцати часов вечера, в день Пасхи. Узнав, что трупные пятна были сосредоточены в районе стопы, Юдин даже не удивился: скорее всего, убийце нравилось долго держать жертву или её труп в вертикальном положении.
Как и в прошлый раз, отпечатков пальцев на конечности не оказалось. Смородинский маньяк осторожничал и раскрывать свою личность не желал. Жертва, впрочем, тоже. Рентген выявил следы перелома и титановый стержень в голени, однако девочек с такой приметой в списке пропавших, естественно, не было.
Тем временем окончательно подтвердилась непричастность Фишера: восьмого марта он находился на рабочем месте, а во время пасхального убийства играл в «Вархаммер» вместе с такими же повзрослевшими отщепенцами. Если этот мазохист, помешанный на птицах, и представлял для кого-то опасность, то исключительно для самого себя.
Внести ясность теперь могли лишь немые свидетели: ботинок, траурные ленты и гвоздики.
Опрос продавщиц, которые работали на городских рынках и в торговых центрах, ничего не дал. Вспомнить мужчину, который покупал бы женские ботинки определенного фасона, цвета и размера не удалось никому.
Отрезок траурной ленты, найденный на руке Жанны Клименко, и отрезок, который прилагался к ноге, дополняли друг друга, как фрагменты паззла. Юдин предположил, что в распоряжении Смородинского маньяка может быть целая катушка ленты, однако и в этом случае никто не вспомнил подозрительного покупателя. Работники ритуальных агентств, продавщицы из цветочных киосков и пенсионерки, торгующие похоронной атрибутикой возле кладбищ, следствию помочь не смогли.
Обе гвоздики не были выгоревшими, следовательно, Смородинский маньяк где-то их купил, а не подобрал на случайной могиле, и проведенный опрос принес щедрый улов в виде шестнадцати подозрительных мужчин, но и они оказались безобидными горожанами, у которых имелось твердое алиби.
Второй эпизод безнадежно увяз в шатких версиях, многочисленных протоколах и результатах экспертиз. Уголовное дело разрослось до трех увесистых томов. Смородинский маньяк был неуловим, как Фантомас. Юдин не находил себе места, однако старался этого не выказывать, а в супермаркетах стоически избегал полок с алкоголем.
Не раз он задумывался о траурной ленте и гвоздиках, происхождение которых оставалось для него загадкой, а в итоге приходил к мысли, что Фишер раньше работал как раз-таки в ритуальном агентстве, где их можно было незаметно украсть. Однако эта версия была лишена логики, поэтому Юдин от неё отказывался – тоже стоически.
На пятый день поисков Гатауллин наконец вышел на мать жертвы, Дарью Кашину, которая работала бухгалтером. Опознав в отрубленной конечности ногу своей пропавшей дочери, тощей девочки с голубыми волосами, полноватая Кашина рассказала о ней много удручающего. В свои пятнадцать лет Мария была анорексичкой, мефедроновой наркоманкой и водила знакомства с совершеннолетними парнями.
Сдерживая нарциссический надрыв, Кашина сообщила, что в день убийства, около шести часов вечера её дочь без спроса ушла гулять. Юдин задался вопросом, где же Мария находилась те семь часов, которые отделяли её от смерти. Кашина указала на двух подруг Марии, ровесниц такого же круга и привычек, а особенно отметила некоего Витю, который учился в финколледже. Лакированный ботинок, как Гатауллин и предполагал, принадлежал не жертве. Та ушла гулять в замшевых сапогах тридцать шестого размера.
Место, где маньяк напал на Марию, оказалось не менее колоритным, чем промзона. Это была лесополоса, раскинувшаяся по необжитому берегу Смородины. С десяти до одиннадцати часов вечера Мария находилась именно там, под серовато-зелеными кронами пробуждающихся деревьев, и за это время ей восемь раз звонил абонент по имени Виктор Белкин, однако все его звонки остались без ответа: Мария сбрасывала.
Юдин бродил по березняку, где предположительно убили Марию, и выискивал следы борьбы. Березовые сережки, похожие на коконы насекомых, подрагивали на стылом ветру, а полуденное солнце высвечивало в прозрачно-нежных листьях темные росчерки прожилок. Не прошло и часа, как Юдину бросилась в глаза неаккуратная ямка, которую скрадывала тень жгутообразного корня. Под засохшими комьями земли проглядывало нечто синее и крохотное. Загадочная находка оказалась зиплоком, сложенным в несколько раз и обмотанным изолентой, а внутри находилось два грамма мефедрона. Видимо, в лес Мария пришла добровольно, чтобы забрать закладку. Вот только вернуться к друзьям ей помешал Смородинский маньяк.
«Опять Смородина…» - невольно насторожился Юдин и уже в который раз вспомнил о хладнокровном Фишере, однако усилием воли от этой версии отказался. Серийник был педофилом с садистскими наклонностями, который уже привлекался за изнасилование или убийство. Также у него была возможность похищать девочек, транспортировать их к месту казни, а затем разбрасывать части тел по противоположным краям города, которыми как раз и являлись Смородинский и Матросовский микрорайоны.
«Фишер ездит на вишневом «рено»…» - снова мелькнула у Юдина непрошеная мысль, но он её решительно подавил. Как бы ему ни хотелось запугать Фишера, сбить с него спесь, подавить его морально, превратив в скулящее полумертвое ничтожество, совершать этого было нельзя. Несколько часов восторга не стоили многолетней службы в Следственном комитете.
Юдин осознавал, что его одержимость выходит за рамки нормы. Пользуясь поводом, он узнал о Фишере достаточно, чтобы составить представление о его характере. Бабушка Фишера, Лора Генриховна Шлихенмайер, была весьма суровой женщиной, немкой по происхождению и ловким нотариусом, чье имя упоминалось в нескольких уголовных делах девяностых годов. Дедушка, Эммануил Наумович Фишер, работал на тракторном заводе и обладал мягким характером, а его национальность была очевидна. Мать, Эвелина Эммануиловна Фишер, пропала без вести в девяносто седьмом. А их близорукий потомок, судя по характеристике из ИК-2, был весьма своенравен, склонен к членовредительству и подвержен приступам гнева. Переломить его через колено было делом принципа.
Вернувшись из лесополосы в управление, Юдин приказал следственной группе проверить алиби всех потенциальных виновников из его личной картотеки, а сам занялся оформлением документации. Вечером, когда уже стемнело, он позволил себе выйти на крыльцо и подышать свежим воздухом. До Первомая оставалось меньше четырех суток. Юдин чуть ли не физически ощущал, как утекает сквозь пальцы чужое время.
На городской площади, возле которой находилось управление Следственного комитета, жались друг к другу скрюченные клены с белеными стволами. Слева призрачно мерцала кроваво-красным шкала циклопического термометра, главной достопримечательности Павлозаводска, а справа нестройно каркали серые вороны, сидящие на крыше детского театра вместе с бронзовыми гномами, вышедшими из рассказов Гофмана. Гномы улыбались длинными ртами и держали в руках резные фонари. Темно-желтые веера дымчатого света падали на асфальт, словно кадры советского диафильма на белую простыню. Павлозаводск погружался в вязкую, как гриппозная мокрота, ночь, лишенную отблесков луны.
Такой же непроглядный мрак наваливался на окна квартиры Юдиных в восьмидесятых, когда засыпал в своей кровати детсадовец Рома. Под прозрачным корпусом ночника светились четыре самоцвета, чьи пестрые блики облизывали нарисованный фон: белые шапки гор, занесенную снегом долину, деревянные избы на берегу реки… Веки Ромы медленно наливались свинцом, а мягкое свечение самоцветов превращалось в скошенные кресты: медово-желтый, травянисто-зеленый, васильково-голубой, гранатово-красный…
Таким же непроглядным, но уже метафорическим мраком был пропитан воздух девяностых, когда подросток Рома раскрашивал акварелью самодельные гирлянды из бумажных колечек, чтобы создать для растерянных родителей, которых он очень уважал, ощущение праздника. Невысокая елка, купленная на перекрестке, пахла древесной смолой, а под её тонкими ветвями улыбались артефакты сталинской поры - Дед Мороз и Снегурочка из поблескивающей ваты.
Однако вяжущий мрак, который дремал в холодном сердце Юдина, был совсем иного порядка. Он был внутренним, сугубо индивидуальным и временами наводнял воображение Юдина сценами, которым позавидовали бы главные фигуранты его уголовных дел. Обычно Юдин своим желаниям противился, но на этот раз решил сделать исключение. Виктор Белкин, которому не повезло оказаться другом убитой Марии, внешне напоминал Фишера, отличаясь от него лишь виктимными повадками. Юдин полагал, что причиной этому сходству были еврейские корни, которые точно имелись у Фишера и наверняка присутствовали у Белкина. Юдин был уверен, что угрожающий монолог вкупе с табельным «макаровым» повергнет Белкина в запредельный ужас. Увидеть в таком состоянии Фишера не представлялось возможным, однако его вполне мог заменить Белкин, у которого тоже были черные волосы, карие глаза и не совсем прямой нос.
Проживал Белкин в старой части города, построенной сначала коряковскими купцами, а затем павлозаводскими коммунистами. На улице Бебеля до сих пор возвышался трехэтажный дом, некогда бывший самым высоким в Павлозаводске. Под его осыпающейся морковной штукатуркой таилась кладка из красных кирпичей, которые до революции были частью православного собора. Большевики приказали собор взорвать, а оставшийся от него материал пустить на социалистическое строительство. При Сталине дом приобрел статус элитного, и населять его стали партийные функционеры, за что горожане красноречиво прозвали его «шишкой».
Именно в одной из пятнадцати квартир «шишки» проживали интеллигентные Белкины и их непутевый отпрыск, донельзя обожаемый ими поздний ребенок. Дождавшись перерыва, Юдин решил пожертвовать обедом и поехал в старый город. Дорога отняла не больше пяти минут: Павлозаводску не был присущ крупный масштаб.
Поднимаясь по лестнице на последний этаж, Юдин рефлекторно выглянул в круглое окно и заметил, что детскую площадку неспешно пересекает Виктор Белкин. Пройдя мимо железной беседки, тот нырнул в решетчатую тень погнутой ракеты и направился к подъезду. Юдин хмыкнул. Он выбрал для засады наиболее темный угол лестничной клетки и прислонился к стене, цвет которой напоминал о разбавленной зеленке. «Макаров» приятно оттягивал карман форменного плаща. Яркий овал света, отбрасываемый окном, лежал на потертом клетчатом полу, словно лужица желчи.
Скрипнула подъездная дверь. Стали приближаться шаги, бьющие то по стертым ступеням, то по черно-белой плитке. Звук становился всё громче, и наконец за изгибом лакированных перил показался долговязый Белкин. Мешковатая черная куртка и мятые джинсы с подворотами придавали ему вид вокзального попрошайки, а лицо было заспанным, будто встал Белкин совсем недавно. Вблизи он действительно напоминал Фишера: молодого, боязливого и опустившегося на социальное дно.
- Здравствуй, Витя. Как дела? – медленно вышел из темноты Юдин. Его улыбка была подчеркнуто спокойной. Белкин застыл на середине лестницы, а потом заметил синюю униформу и машинально шагнул назад, но быстро подавил смятение.
- Вы кто? Что вам от меня надо? – спросил он с некоторым нахальством. Затем поправил куртку, почесал нос и переступил с ноги на ногу, выдав тем самым свою нервозность. Юдин пристально посмотрел на него сверху вниз:
- Майор Лукин. Ты должен кое-куда со мной съездить.
- С чего вы взяли, что я куда-то с вами поеду? – возмутился Белкин.
- Потому что ты торчишь, а твои родители почему-то до сих пор об этом не знают. Хотя уже давно должны были что-то заподозрить. Кажется, они слишком наивные и ранимые, надо раскрыть им глаза…
Белкин дернулся, словно его окатили ледяной водой:
- Вы чего тут!..
- Они ведь могут узнать про твои мутки. И не только они. Колледж, наркологичка…
Белкин умолк. На свету было заметно, как побледнело и перекосилось его тощеватое лицо с острыми скулами, темными подглазьями и аллергической сыпью. Лихорадочно забегали карие с рыжиной глаза.
- Куда я должен поехать? – обреченно спросил он. Кажется, ему и впрямь не хотелось огорчать родителей.
- В лесополосу за Смородиной. Надо кое-что прояснить по делу Марии Кашиной.
- Насчет Фиалки? – изумился Белкин и, немного расслабившись, потупился. – Если так, то я, естественно, поеду. Могли бы и не угрожать.
Юдин прошел мимо него и бросил через плечо:
- Это не займет много времени. Верну тебя домой через час, не больше. Никто и не заметит, что ты отсутствовал.
Даже не попросив Юдина предъявить документы, Белкин покорно последовал за ним к машине. Уговорить этого тепличного студента на поездку в лес оказалось проще, чем убить младенца. Юдин поймал себя на мысли, что Фишер, услышав такую сомнительную угрозу, не повел бы себя, как слизняк, и уж точно не поехал бы в лесополосу добровольно.
Путь к Смородине занял пятнадцать минут. Чем дальше Юдин углублялся в весенний лес, тем сильнее в лице Белкина проступала напряженность, однако он боялся возразить и молчал, словно кролик под стылым взглядом удава.
Юдин заехал дальше, чем Смородинский маньяк. Остановившись у изгиба дороги, возле которого лабиринт молодых лип сменялся зеленеющим лугом, Юдин вышел из машины. Следом, не дождавшись приказа, торопливо вышел Белкин. Он замялся, нерешительно посмотрел на Юдина и замер возле липняка. За его спиной перешептывалась изумрудная листва, по которой тихо барабанила морось.
Вскинув подборок, Юдин непринужденным, нарочито долгим взглядом окинул пустое пространство луга. Ветер кружил в небе, которое затягивалось серыми тучами, и гнал зеленые волны по траве, усеянной бледно-голубой россыпью колокольчиков. Воздух пах озоном, предвещая грозу.
- Что вы хотели узнать, товарищ майор? – выдавил Белкин, нервно облизав пересохшие губы. Юдин посерьезнел и повернулся к нему.
- Тамбовский волк тебе товарищ, - произнес он и отточенным движением выхватил из кармана пистолет.
Белкин приоткрыл рот, сдавленно вскрикнул, будто его горло сдавили невидимые пальцы, и замер на месте. Дуло пистолета, направленное на него, было черным оком подкравшейся смерти, которая прежде бродила за иллюзорным пологом, а теперь встала перед Белкиным во весь рост.
- Человеческая жизнь, Витя, ничем не отличается от свечи, - задумчиво начал Юдин, держа его на мушке, - её можно погасить одним движением, а если есть опыт, то оборвать чье-то существование можно буквально за секунду, и жертва этого даже не заметит. Хотя это, конечно, не твой случай. Ты умрешь не сразу.
- Так это вы тот… - промямлил Белкин, но потерял дар речи. Он сглотнул, и кадык на его горле шевельнулся, словно заползший под кожу червь.
- Нет, я не тот. Тот убивает женщин. А я – щеглов вроде тебя, - зловеще улыбнулся Юдин. Он медленно шагнул вперед, в его взгляде проступила неподдельная жажда власти. Белкин закусил губу. Теперь его лицо было не просто бледным, а землисто-белым, как лесная поганка.
- Знал бы ты, как меня удивила твоя тупость. Ты пришел сюда по собственной воле, как баран на скотобойню. Если хочешь сбежать, можешь попытаться. Но учти, я метко стреляю. Даже если ты рванешь с места и начнешь петлять между деревьями, я всё равно прострелю тебе колени. Спастись ты не сможешь, судьбу свою не облегчишь, а меня только повеселишь. Мне нравится, когда вы сопротивляетесь.
- За что? Я ничего не сделал… - севшим голосом пробормотал Белкин. В широко распахнутых глазах мелькнула паника, оцепенение сменилось крупной дрожью. У Белкина тряслись колени, он судорожно, до белизны в костяшках цеплялся за липовые ветви, словно они могли его как-то защитить.
- Какая разница? Я убью тебя лишь потому, что мне нравится этим заниматься. Такое уж у меня хобби, - холодно произнес Юдин и перешел на тон, сочащийся самолюбованием. – Сначала я хотел повесить тебя или обезглавить, как поступали с конокрадами предки нынешних татар, но в итоге выбрал огнестрел. Потому что я крайне хорош в стрельбе.
У Белкина вырвался истерический всхлип. Силы окончательно покинули его, и он начал оседать на влажную землю. Потускнел взгляд, спазматически задергался подбородок, влажно заблестели щеки. Юдин звонко рассмеялся. Именно этого ему так остро не хватало со времен развода. Вид униженного, до смерти перепуганного Белкина отпечатывался в памяти Юдина, как портрет на фотопленке: подогнувшиеся ноги с шишковатыми лодыжками, обветренная кисть, сползающая по зеленоватой коре, черные пряди, прилипшие к вспотевшему лбу… Юдин усмехнулся и убрал «макаров», магазин которого был совершенно пуст, обратно в карман плаща. Пора было заканчивать этот спектакль.
- Я пошутил. Больше не торчи, - добродушно произнес Юдин.
Эти слова произвели на Белкина неожиданное впечатление: он обмяк окончательно и мешком повалился наземь. Съежившись, он попытался фальшиво улыбнуться, однако вновь издал всхлип, похожий то ли на вздох облегчения, то ли на стон ужаса.
- Подвезти домой или сам дойдешь? – участливо наклонился к нему Юдин.
- Нет, спасибо, я сам, не хочу вас напрягать… - пробормотал Белкин. Он опустил голову, избегая прямого взгляда, и уставился на свои дрожащие пальцы, которые впивались в темную почву. Если бы Юдин и вправду был серийным убийцей, то наверняка оценил бы такую покорность и сжалился над Белкиным, убив его милосердным выстрелом в голову.
Однако Юдин никого убивать не собирался. Нужно было вернуться в управление, пока не подошел к концу обеденный перерыв. Юдин сел в машину и поехал к мосту. Оторопевший Белкин остался лежать под набирающим силу дождем. На губах Юдина блуждала осоловелая улыбка, маслянисто блестели глаза, в которых расширились, подобно чернильным кляксам, зрачки. Вдалеке послышались раскаты грома, и серое небо над лесополосой озарилось молнией. На Павлозаводск надвигалась майская гроза.
Результат превзошел все ожидания Юдина. Белкин оказался настолько ведомым, что даже не пошел в полицию. И хотя Юдин на всякий случай продумал линию защиты, он прекрасно понимал, что Белкину, явному наркоману, не поверили бы, даже получив от него заявление. Тот не смог бы подкрепить свое обвинение зафиксированными побоями, а без них его слова ничего не стоили. К тому же, на стороне Юдина была репутация справедливого сотрудника, соблюдающего правила.
В преддверии Первомая полиция усилила патрулирование на окраинах Павлозаводска, а особенно в Смородинском микрорайоне. Именно один из патрулей ППС, который около полуночи проезжал мимо дикого пляжа, обратил внимание на сдавленные хрипы, доносящиеся из-за вербных кустов. Девушка, которую услышали сотрудники полиции, чудом избежала удушения и изнасилования, а преступник попытался скрыться, нырнув в Смородину, но его выловили и задержали.
Неопрятного доходягу с желтушной кожей доставили в управление Следственного комитета, где по случаю праздничного дня бодрствовал Юдин. Держась мрачновато, но спокойно, задержанный сообщил, что его зовут Денис Смирнов и недавно он вышел из колонии под Красными Шахтами, где отбывал срок за изнасилование. Юдин взглянул на справку об освобождении, которая сушилась у него на столе под включенной лампой. Смирнов освободился три дня назад. Ни одно из смородинских убийств он совершить не мог. Юдин побелел от злости и ударил Смирнова по лицу - с такой силой, что тот упал на пол вместе со стулом.
Домой Юдин вернулся лишь под утро. Сон не шел. Провал минувшей ночи бил по самолюбию, как тяжелый кулак, а жгучее недовольство, зреющее внутри, заглушало отголоски дремы. Впрочем, подобное было для Юдина не в новинку. Похожим образом дела обстояли с серийником Мироновым, который выдал себя лишь на одиннадцатой жертве, труп которой самозабвенно искусал. Миронов до сих пор был жив. Он дожидался смерти в «Черном дельфине». Весь первый год он донимал администрацию колонии жалобами на черта, который каждое полнолуние подвергал его пыткам. Вдаваясь в подробности, Миронов описывал мучения, от которых страдали его же жертвы, и это, по мнению Юдина, доказывало скудность его фантазии. Планирование не было сильной стороной Миронова, он был насквозь иррационален. Психиатрическая экспертиза, которая в итоге всё же состоялась, признала Миронова симулянтом. Осознав бессмысленность своих попыток, тот прекратил морочить всем голову. Впрочем, признаки нервного потрясения у него действительно обнаружились, но в его положении это было естественно.
Чтобы прийти в себя и все-таки заснуть, Юдин решил посмаковать прежние победы. Он вылез из-под верблюжьего одеяла и направился в зал. Золотистые утренние лучи легкими мазками ложились на паркет, угловой диван, обитый рогожкой, и красный настенный ковер, по которому вились щупальца орнамента. Сбоку от дивана располагалась этажерка, каждую полку которой занимали книги: юриспруденция, паталогическая анатомия, судебная психиатрия... Художественные книги, приобретенные родителями Юдина задолго до его рождения, стояли на самой нижней полке - там, куда вряд ли бы сунул нос любопытный гость.
Юдин взял в руки потрепанный томик Гайдара с красной конницей на обложке, вытащил из него пухлый конверт и улегся на диван. Конверт был набит фотографиями людей. Юдин подолгу изучал нежным взглядом каждый снимок, подставляя его под теплый солнечный свет. В его медленных движениях просматривалась медитативная увлеченность. Напряжение минувшей ночи плавно спадало. Юдин с нескрываемым довольством рассматривал снимки людей, которых он хотя бы раз мысленно истязал.
Это были мужчины и женщины разных профессий, но объединяло их одно - темные волосы и резкие черты лица. Фотография бывшей жены Юдина, долговязой брюнетки с темно-серыми глазами, шла по счету самой первой, и даже посторонний неизбежно подметил бы, что внешне она чем-то напоминала и Фишера, и Белкина.
Коллеги, с которыми не получилось ужиться, журналисты, которые совали нос не в свое дело, фигуранты, которые вели себя слишком дерзко… Юдин выуживал из глубин памяти сцены, которые никогда не происходили наяву и были за счет этого особенно кровожадными. Пострадать по-настоящему довелось лишь бывшей жене и Белкину. Легкий дискомфорт Фишера, который тот испытал на допросе, Юдин страданием не считал.
Белкин показал себя хорошим эрзацем, его искренний испуг временно затмил фантазию об избитом Фишере, валяющемся в грязи лесопосадки. Юдин до сих пор смаковал страх Белкина, пахнущий полевыми травами, гнилью прошлогодней листвы и влажной землей. Конечно, будь на месте Белкина близорукий, вынужденно беспомощный Фишер, он повел бы себя точно так же. Вот только его перед этим пришлось бы долго переубеждать.
На темном горизонте Хмари дотлевали багряные отсветы заката. В смолистом небе висел тусклый серп луны, к нему тянулись узкие, как кухонные ножи, тополя, а перед психбольницей поблескивали трамвайные пути. Синеватый воздух безвременья подрагивал, искажая мерклый пейзаж. Сквозь водянистую мглу, освещая фарами асфальт, ехала черная «лада».
На приборной панели, слабо рассеивая сумрак салона, светились часы, которые показывали половину десятого. Ольга Рождественская пела о ладонях, на которых не тают снежинки, а глаза Алины Емельяновны вспыхивали синими искрами, словно бенгальские огни. Она улыбалась собственным мыслям и глухо подпевала звонкому голосу, в котором сквозила материнская нежность.
Смородинский микрорайон был сегодня на удивление людным. Всякий раз, когда Алина Емельяновна всматривалась в мембрану, отделяющую Хмарь от Павлозаводска, смутные силуэты живых людей оказывались патрулями ППС, а рубиново-синие всполохи, пробивающиеся сквозь густую тьму, словно разводы акварели, превращались в проблесковые маячки патрульных машин. Следствие уловило закономерность и сузило поле поиска, однако Алина Емельяновна в успехе их действий сомневалась. В мир застывшего прошлого полиция проникнуть не могла.
Решив поводить следствие за нос, Алина Емельяновна изменила маршрут и поехала в Матросовский микрорайон, где соседствовали друг с другом промзона, старый котлован и детская железная дорога, закрывшаяся в конце девяностых. Алина Емельяновна помнила дни, когда эти места еще не пронизывало разложение: именно там проводили выходные её первые подруги, которые еще не знали, что спустя десять лет им предстоит умереть от передозировки.
За окнами автомобиля черной грядой вздыбились заросли камышей, в которых мог затаиться даже взрослый, и в голове Алины Емельяновны отозвался нутряным теплом одинокий огонь чужой жизни, явно принадлежащий девочке. Та лежала на безлюдном пляже, окаймленном топкой почвой и камышами. Подъехать туда не представлялось возможным. Оставив машину возле дороги, Алина Емельяновна сделала музыку громче и скрылась в зарослях.
Громко шуршал болоньевый плащ, соприкасаясь с ланцетами листьев, а под ботинками хлюпала подгнившая вода, сменяясь то кочками, по которым вилась тропинка, то ржавеющими рельсами. Жертва была совсем рядом. Алина Емельяновна вышла из камышей на грязный пляж и поправила медицинские перчатки.
На горизонте вспарывал небо контур промзоны, в стоячей воде котлована жухло отражался полумесяц. Девочка лет четырнадцати, одетая в олимпийку с закатанными рукавами и мешковатую юбку, спала на темных барханах песка, раскинув в стороны изрезанные руки. Черные волосы вились вокруг лица, грудная клетка мерно вздымалась, а голые ноги в лакированных ботинках касались влажной кромки берега.
Алина Емельновна склонилась над девочкой, и та заворочалась во сне, словно почуяв её присутствие даже сквозь толщу времени. Достав из кармана плаща кусок бельевой веревки с узлами на концах, Алина Емельяновна затянула самодельную удавку вокруг хрупкой девичьей шеи. Рефлекторно дернувшись, девочка проснулась. Над ней нависал черный силуэт со светящимися глазами – синими, как цветки кухонного газа, холодными, как колодезная вода. Дернув концы удавки в разные стороны, Алина Емельяновна перекрыла девочке доступ воздуха. Жертва молотила ногами по песку, хваталась за удавку, тяжело хрипела… В разинутом рту поблескивали, словно жемчуг, белые зубы. Из-за камышей доносилось нежное пение Ольги Рождественской.
Смерть наступила через семь минут и наложила на девочку печать трупного уродства. Окруженное космами лицо превратилось в синюшную маску с черным провалом рта, откуда высовывался кончик языка, и белыми прорезями закатившихся глаз. Алина Емельяновна спрятала удавку в карман и вздохнула. Теплый труп, лежащий на грязном песке, не вызывал у неё привычной эйфории. Ощущение праздника поблекло, превратившись в синеватую дымку.
Не без труда оттащив тело к машине, Алина Емельяновна завернула его в полиэтилен и усадила на заднее сиденье. На первом же повороте тело завалилось набок и слепо уставилось в окно, демонстрируя панельным домам искаженное полудетское лицо.
Через полчаса мертвая девочка, переодетая в пионерскую форму, уже висела в петле и роняла на бетонированный пол жгучие капли резины. Лакированные ботинки плевались смрадным дымом и нехотя горели, а мертвый глаз видеокамеры фиксировал каждую секунду глумления, фоном которому служили сухие полевые цветы и советские елочные игрушки. Обходя подвешенный труп по кругу, Алина Емельяновна щелкала затвором «полароида». В объективе плясали желтовато-рыжие языки огня, плавились подошвы и застывали на полу созвездия черных клякс. Гнилой воздух подпола насыщался тягостным теплом. В закрытом платяном шкафу висели на пантографе две мумии в пионерской форме, отличающиеся друг от друга лишь цветом длинных волос - рыжим и голубым.
Фотографией Алина Емельяновна увлеклась на первом курсе музучилища. Её первым фотоаппаратом стал пленочный «Зенит», подаренный родителями, а после бракосочетания Алина Емельяновна приобрела в комиссионке «полароид» и начала фотографировать на школьных мероприятиях. Коллеги не видели в женщине с фотокамерой признаков патологии, и Алина Емельяновна этой привилегией пользовалась, исподтишка снимая Евгения Фишера, если тот где-то выступал.
Его регулярно заставляли читать стихи, и на фотографиях Алины Емельяновны были отображены всего его скучающие гримасы за девять учебных лет. Выступать Фишер не умел и не любил, а после пятого класса стал привносить в декламацию странные обертоны. Алина Емельяновна до сих пор помнила, как пятнадцатилетний Фишер, смущенный и неуклюжий, стоял на сцене актового зала, держал подальше от лица фонящий микрофон и читал наизусть стихотворение Твардовского.
- Нашим прахом по праву овладел чернозем… - бубнил Фишер.
Всякий раз, когда в стихотворении упоминались трупы, могилы или смерть, его монотонный, лишенный интонаций голос обретал неестественную теплоту. Судя по всему, Фишер был из тех детей, которые сидят за партой в одиночестве, не произносят за день ни слова и загадочно улыбаются, если речь заходит об убийствах. Но к прямым действиям Фишер не перешел. Он предпочел сбежать в колледж, где наверняка учел совершённые ошибки и выстроил свой образ с нуля.
«И почему этого не произошло лет двадцать назад? Я бы сделала для этого сопляка исключение и придушила его в кабинете музыки…» - с сожалением подумала Алина Емельяновна, окунув горящие ноги трупа в ведро с водой. Ныне Фишер был мужчиной, а не ребенком, и связываться с ним было рискованно.
Выключив видеокамеру, Алина Емельяновна отрубила мертвой девочке правую ногу и вытащила органокомплекс. Убийство подошло к логическому концу. Алина Емельяновна сидела перед вскрытым телом, держала в руке окровавленный нож, облепленный фрагментами внутренностей, и втягивала ноздрями влажный воздух подпола, в котором угадывался тонкая, едва различимая вонь истлевшего мяса, наполненная нотками старой бумаги, дорожной пыли и бледных лилий.
- Отличный букет. Экстракт плотского существования, - раздался вдруг шипящий мужской голос, проникнутый сарказмом. Подпол окатило загробным холодом и давящим зловонием скотобойни. Алина Емельяновна вскочила и резко обернулась.
Под потолком висел Максим Пряников, одетый в похоронный костюм. Его призрачный силуэт подергивался рябью, а из глаз, запинаясь об очки, шли черные спирали дыма. Пряников уже не был таким очаровательным, как в прошлогодних снах Алины Емельяновны: плечи образовывали косую линию, непропорционально длинные пальцы криво тянулись вперед, словно лапы сольпуги, а туловище было излишне высоким. Ассиметричные пропорции разрушили очарование мертвенного облика, превратив юношескую смазливость в уродство инопланетного организма.
- Здравствуй, - нахмурилась Алина Емельяновна. От того, что Мать Душегубов обошлась без вежливого приветствия и предстала перед ней в столь деформированном виде, ей стало не по себе.
- Ответь мне, Алина, на один вопрос. Ты на сколько жертв рассчитываешь? – холодно поинтересовался Пряников, склонившись над ней. Он горбился, нарушая законы анатомии, и напоминал червя, который надел на себя полый человеческий труп.
- От десяти и больше.
- Тогда тебе придется кое-что переосмыслить. Иначе твоя мечта не воплотится в жизнь.
- Я недостаточно стараюсь? - без обиняков спросила Алина Емельяновна. Она пыталась сохранять уверенность, однако голос неизбежно дрогнул, прозвучав плаксиво и жалко.
- И это еще мягко сказано. Ты повторяешься. Я хочу удивляться, а не наблюдать каждый раз одно и то же, - сурово произнес Пряников.
- Что мне?..
- Разнообразь процесс. Твой ритуал начинает мне надоедать. Если твое следующее убийство будет таким же скучным, я заменю тебя кое-кем другим. Поверь мне, кандидатов больше, чем ты думаешь. Их минимум трое. Так что постарайся и докажи мне, что ты способна на большее.
Алина Емельяновна лихорадочно пыталась подобрать слова, чтобы закончить разговор на хорошей ноте, но Максим Пряников растворился в воздухе, забрав с собой смрад мертвых миров и могильный холод. Уткнувшись лбом в шероховатую стену, Алина Емельяновна стиснула зубы, чтобы не заплакать: то ли от злости, которую нельзя было демонстрировать перед Матерью Душегубов, то ли от страха лишиться нечеловеческой власти. В Павлозаводске оставалось слишком много девочек, существование которых необходимо было прервать.
Выходной день, последовавший за первомайской ночью, выдался по-летнему солнечным. Чтобы отвлечься от панических размышлений, Алина Емельяновна полила герань на веранде, пересадила ирисы в керамические горшки и подкормила розы, которые зацвели по обе стороны от вербного куста. Огород наливался жизнью: голая осина за гаражом покрылась пурпурно-белыми сережками, на зелени клюквенного куста распустились белоснежные бутоны, а по каркасу недостроенной теплицы хищнически тянулся к небу полевой вьюнок. В молодой траве желтели, словно капли гуаши, одуванчики.
Окончательно придя в себя, Алина Емельяновна поехала на южную окраину. Припарковавшись возле аптеки, она повесила на плечо сумку и вышла из машины. Над серым панельным ландшафтом нависал ярко-голубой купол неба, а солнце заливало палящим светом вещевой рынок, невзрачный торговый центр и пыльный тротуар, по которому прохаживались голуби. Вытряхнув из туфли песок, Алина Емельяновна направилась к торговому центру. Ветер всколыхнул черные волны её волос и подхватил складчатый подол красного платья, обдав жаром коренастые голени.
Алина Емельяновна намеревалась сделать покупки, однако её не интересовали ни лакированные ботинки, ни искусственные гвоздики, ни траурные ленты. Десять пар обуви она украла еще в феврале, воспользовавшись для этого калейдоскопом. Таким же манером она украла из цветочного киоска катушку ленты, которой хватило бы на год вперед. Исключение Алина Емельяновна сделала лишь для гвоздик: в начале марта она приобрела шесть штук в цветочном киоске, не снимая кожаных перчаток и заплатив наличными.
Общество до сих пор не уделяло Алине Емельяновне должного внимания. В овдовевшей женщине, покупающей четное количество цветов, не было ничего странного. В женщине, покупающей ткань и нитки, тоже не было ничего странного. Даже женщина, фотографирующая чужих детей, не казалась людям подозрительной. Не раз Алина Емельяновна слышала, как родители девочек, которые посещали секцию «Гармония», внушали своим дочерям, что с незнакомцами разговаривать нельзя. О незнакомках речи не шло. Гендерные стереотипы определенно существовали и играли Алине Емельяновне на руку.
Купив соду, соль и капроновые колготки – всё, что требовалось для мумификации трупов, Алина Емельяновна стала пробираться к выходу. Гудящая толпа покупателей приценивалась к свежим овощам, пестрой россыпи специй и башкирскому меду.
- …изнасиловали и убили девочку. Прям перед воротами хлебозавода, - донеслось со стороны отдела, где продавали на развес корейские салаты.
Алина Емельяновна скосила глаза. Морщинистая дачница в пластмассовой шляпе разговаривала с кем-то по мобильному, который морально устарел еще в нулевых.
- Зачем уходить с рисования? Забирайте её по вечерам, и всё будет нормально. Вы живете возле мечети, это совсем рядом.
Поняв, что речь идет о Дворце пионеров, Алина Емельяновна усмехнулась и ускорила шаг. Ей льстило осознание, что горожане даже не представляют, с кем имеют дело, а её коллеги и соседи, сами того не подозревая, каждый день здороваются с загадочным маньяком, однако лживые слухи лишь коробили. Любовники Алины Емельяновны, мужчины в похоронных костюмах или без одежды вовсе, не были живыми, и юридически секс с ними считался надругательством над трупами. До изнасилования Алина Емельяновна ни за что не опустилась бы.
Выйдя из торгового центра на солнцепек, она окинула взглядом пейзаж, отделенный от неё асфальтовой дорогой. В косой тени бывшего общежития ютились старухи, которые продавали с клеенок дешевые носки, железный киоск, где можно было купить жирные от масла беляши, и автобусная остановка. Слева от остановки качала лиловыми гроздьями сирень, а под покровом её шелестящих ветвей ждали автобус две девочки.
На вид им было около двенадцати: волосы у обеих повторяли цветом бархатцы, которые росли у Алины Емельяновны вдоль гаража, глаза скрывались за темными очками, а из коротких шортов торчали неуклюжие подростковые ноги, походившие на макаронины. Девочки жевали беляши, размашисто жестикулировали и заливались отталкивающим хохотом, эхо которого рассыпалось по улице, сливаясь с далеким лязгом трамвая.
Алина Емельяновна улыбнулась. Одна из этих девочек могла в скором времени умереть от её руки, превратиться в задушенную мумию, которую невозможно будет похоронить в открытом гробу… Вероятность была мала, и всё же рыжие девочки, окажись они не в то время и не в том месте, могли не пережить надвигающийся День победы. Ради этого явно стоило отойти от сложившегося сценария.
На приборной панели, слабо рассеивая сумрак салона, светились часы, которые показывали половину десятого. Ольга Рождественская пела о ладонях, на которых не тают снежинки, а глаза Алины Емельяновны вспыхивали синими искрами, словно бенгальские огни. Она улыбалась собственным мыслям и глухо подпевала звонкому голосу, в котором сквозила материнская нежность.
Смородинский микрорайон был сегодня на удивление людным. Всякий раз, когда Алина Емельяновна всматривалась в мембрану, отделяющую Хмарь от Павлозаводска, смутные силуэты живых людей оказывались патрулями ППС, а рубиново-синие всполохи, пробивающиеся сквозь густую тьму, словно разводы акварели, превращались в проблесковые маячки патрульных машин. Следствие уловило закономерность и сузило поле поиска, однако Алина Емельяновна в успехе их действий сомневалась. В мир застывшего прошлого полиция проникнуть не могла.
Решив поводить следствие за нос, Алина Емельяновна изменила маршрут и поехала в Матросовский микрорайон, где соседствовали друг с другом промзона, старый котлован и детская железная дорога, закрывшаяся в конце девяностых. Алина Емельяновна помнила дни, когда эти места еще не пронизывало разложение: именно там проводили выходные её первые подруги, которые еще не знали, что спустя десять лет им предстоит умереть от передозировки.
За окнами автомобиля черной грядой вздыбились заросли камышей, в которых мог затаиться даже взрослый, и в голове Алины Емельяновны отозвался нутряным теплом одинокий огонь чужой жизни, явно принадлежащий девочке. Та лежала на безлюдном пляже, окаймленном топкой почвой и камышами. Подъехать туда не представлялось возможным. Оставив машину возле дороги, Алина Емельяновна сделала музыку громче и скрылась в зарослях.
Громко шуршал болоньевый плащ, соприкасаясь с ланцетами листьев, а под ботинками хлюпала подгнившая вода, сменяясь то кочками, по которым вилась тропинка, то ржавеющими рельсами. Жертва была совсем рядом. Алина Емельяновна вышла из камышей на грязный пляж и поправила медицинские перчатки.
На горизонте вспарывал небо контур промзоны, в стоячей воде котлована жухло отражался полумесяц. Девочка лет четырнадцати, одетая в олимпийку с закатанными рукавами и мешковатую юбку, спала на темных барханах песка, раскинув в стороны изрезанные руки. Черные волосы вились вокруг лица, грудная клетка мерно вздымалась, а голые ноги в лакированных ботинках касались влажной кромки берега.
Алина Емельновна склонилась над девочкой, и та заворочалась во сне, словно почуяв её присутствие даже сквозь толщу времени. Достав из кармана плаща кусок бельевой веревки с узлами на концах, Алина Емельяновна затянула самодельную удавку вокруг хрупкой девичьей шеи. Рефлекторно дернувшись, девочка проснулась. Над ней нависал черный силуэт со светящимися глазами – синими, как цветки кухонного газа, холодными, как колодезная вода. Дернув концы удавки в разные стороны, Алина Емельяновна перекрыла девочке доступ воздуха. Жертва молотила ногами по песку, хваталась за удавку, тяжело хрипела… В разинутом рту поблескивали, словно жемчуг, белые зубы. Из-за камышей доносилось нежное пение Ольги Рождественской.
Смерть наступила через семь минут и наложила на девочку печать трупного уродства. Окруженное космами лицо превратилось в синюшную маску с черным провалом рта, откуда высовывался кончик языка, и белыми прорезями закатившихся глаз. Алина Емельяновна спрятала удавку в карман и вздохнула. Теплый труп, лежащий на грязном песке, не вызывал у неё привычной эйфории. Ощущение праздника поблекло, превратившись в синеватую дымку.
Не без труда оттащив тело к машине, Алина Емельяновна завернула его в полиэтилен и усадила на заднее сиденье. На первом же повороте тело завалилось набок и слепо уставилось в окно, демонстрируя панельным домам искаженное полудетское лицо.
Через полчаса мертвая девочка, переодетая в пионерскую форму, уже висела в петле и роняла на бетонированный пол жгучие капли резины. Лакированные ботинки плевались смрадным дымом и нехотя горели, а мертвый глаз видеокамеры фиксировал каждую секунду глумления, фоном которому служили сухие полевые цветы и советские елочные игрушки. Обходя подвешенный труп по кругу, Алина Емельяновна щелкала затвором «полароида». В объективе плясали желтовато-рыжие языки огня, плавились подошвы и застывали на полу созвездия черных клякс. Гнилой воздух подпола насыщался тягостным теплом. В закрытом платяном шкафу висели на пантографе две мумии в пионерской форме, отличающиеся друг от друга лишь цветом длинных волос - рыжим и голубым.
Фотографией Алина Емельяновна увлеклась на первом курсе музучилища. Её первым фотоаппаратом стал пленочный «Зенит», подаренный родителями, а после бракосочетания Алина Емельяновна приобрела в комиссионке «полароид» и начала фотографировать на школьных мероприятиях. Коллеги не видели в женщине с фотокамерой признаков патологии, и Алина Емельяновна этой привилегией пользовалась, исподтишка снимая Евгения Фишера, если тот где-то выступал.
Его регулярно заставляли читать стихи, и на фотографиях Алины Емельяновны были отображены всего его скучающие гримасы за девять учебных лет. Выступать Фишер не умел и не любил, а после пятого класса стал привносить в декламацию странные обертоны. Алина Емельяновна до сих пор помнила, как пятнадцатилетний Фишер, смущенный и неуклюжий, стоял на сцене актового зала, держал подальше от лица фонящий микрофон и читал наизусть стихотворение Твардовского.
- Нашим прахом по праву овладел чернозем… - бубнил Фишер.
Всякий раз, когда в стихотворении упоминались трупы, могилы или смерть, его монотонный, лишенный интонаций голос обретал неестественную теплоту. Судя по всему, Фишер был из тех детей, которые сидят за партой в одиночестве, не произносят за день ни слова и загадочно улыбаются, если речь заходит об убийствах. Но к прямым действиям Фишер не перешел. Он предпочел сбежать в колледж, где наверняка учел совершённые ошибки и выстроил свой образ с нуля.
«И почему этого не произошло лет двадцать назад? Я бы сделала для этого сопляка исключение и придушила его в кабинете музыки…» - с сожалением подумала Алина Емельяновна, окунув горящие ноги трупа в ведро с водой. Ныне Фишер был мужчиной, а не ребенком, и связываться с ним было рискованно.
Выключив видеокамеру, Алина Емельяновна отрубила мертвой девочке правую ногу и вытащила органокомплекс. Убийство подошло к логическому концу. Алина Емельяновна сидела перед вскрытым телом, держала в руке окровавленный нож, облепленный фрагментами внутренностей, и втягивала ноздрями влажный воздух подпола, в котором угадывался тонкая, едва различимая вонь истлевшего мяса, наполненная нотками старой бумаги, дорожной пыли и бледных лилий.
- Отличный букет. Экстракт плотского существования, - раздался вдруг шипящий мужской голос, проникнутый сарказмом. Подпол окатило загробным холодом и давящим зловонием скотобойни. Алина Емельяновна вскочила и резко обернулась.
Под потолком висел Максим Пряников, одетый в похоронный костюм. Его призрачный силуэт подергивался рябью, а из глаз, запинаясь об очки, шли черные спирали дыма. Пряников уже не был таким очаровательным, как в прошлогодних снах Алины Емельяновны: плечи образовывали косую линию, непропорционально длинные пальцы криво тянулись вперед, словно лапы сольпуги, а туловище было излишне высоким. Ассиметричные пропорции разрушили очарование мертвенного облика, превратив юношескую смазливость в уродство инопланетного организма.
- Здравствуй, - нахмурилась Алина Емельяновна. От того, что Мать Душегубов обошлась без вежливого приветствия и предстала перед ней в столь деформированном виде, ей стало не по себе.
- Ответь мне, Алина, на один вопрос. Ты на сколько жертв рассчитываешь? – холодно поинтересовался Пряников, склонившись над ней. Он горбился, нарушая законы анатомии, и напоминал червя, который надел на себя полый человеческий труп.
- От десяти и больше.
- Тогда тебе придется кое-что переосмыслить. Иначе твоя мечта не воплотится в жизнь.
- Я недостаточно стараюсь? - без обиняков спросила Алина Емельяновна. Она пыталась сохранять уверенность, однако голос неизбежно дрогнул, прозвучав плаксиво и жалко.
- И это еще мягко сказано. Ты повторяешься. Я хочу удивляться, а не наблюдать каждый раз одно и то же, - сурово произнес Пряников.
- Что мне?..
- Разнообразь процесс. Твой ритуал начинает мне надоедать. Если твое следующее убийство будет таким же скучным, я заменю тебя кое-кем другим. Поверь мне, кандидатов больше, чем ты думаешь. Их минимум трое. Так что постарайся и докажи мне, что ты способна на большее.
Алина Емельяновна лихорадочно пыталась подобрать слова, чтобы закончить разговор на хорошей ноте, но Максим Пряников растворился в воздухе, забрав с собой смрад мертвых миров и могильный холод. Уткнувшись лбом в шероховатую стену, Алина Емельяновна стиснула зубы, чтобы не заплакать: то ли от злости, которую нельзя было демонстрировать перед Матерью Душегубов, то ли от страха лишиться нечеловеческой власти. В Павлозаводске оставалось слишком много девочек, существование которых необходимо было прервать.
Выходной день, последовавший за первомайской ночью, выдался по-летнему солнечным. Чтобы отвлечься от панических размышлений, Алина Емельяновна полила герань на веранде, пересадила ирисы в керамические горшки и подкормила розы, которые зацвели по обе стороны от вербного куста. Огород наливался жизнью: голая осина за гаражом покрылась пурпурно-белыми сережками, на зелени клюквенного куста распустились белоснежные бутоны, а по каркасу недостроенной теплицы хищнически тянулся к небу полевой вьюнок. В молодой траве желтели, словно капли гуаши, одуванчики.
Окончательно придя в себя, Алина Емельяновна поехала на южную окраину. Припарковавшись возле аптеки, она повесила на плечо сумку и вышла из машины. Над серым панельным ландшафтом нависал ярко-голубой купол неба, а солнце заливало палящим светом вещевой рынок, невзрачный торговый центр и пыльный тротуар, по которому прохаживались голуби. Вытряхнув из туфли песок, Алина Емельяновна направилась к торговому центру. Ветер всколыхнул черные волны её волос и подхватил складчатый подол красного платья, обдав жаром коренастые голени.
Алина Емельяновна намеревалась сделать покупки, однако её не интересовали ни лакированные ботинки, ни искусственные гвоздики, ни траурные ленты. Десять пар обуви она украла еще в феврале, воспользовавшись для этого калейдоскопом. Таким же манером она украла из цветочного киоска катушку ленты, которой хватило бы на год вперед. Исключение Алина Емельяновна сделала лишь для гвоздик: в начале марта она приобрела шесть штук в цветочном киоске, не снимая кожаных перчаток и заплатив наличными.
Общество до сих пор не уделяло Алине Емельяновне должного внимания. В овдовевшей женщине, покупающей четное количество цветов, не было ничего странного. В женщине, покупающей ткань и нитки, тоже не было ничего странного. Даже женщина, фотографирующая чужих детей, не казалась людям подозрительной. Не раз Алина Емельяновна слышала, как родители девочек, которые посещали секцию «Гармония», внушали своим дочерям, что с незнакомцами разговаривать нельзя. О незнакомках речи не шло. Гендерные стереотипы определенно существовали и играли Алине Емельяновне на руку.
Купив соду, соль и капроновые колготки – всё, что требовалось для мумификации трупов, Алина Емельяновна стала пробираться к выходу. Гудящая толпа покупателей приценивалась к свежим овощам, пестрой россыпи специй и башкирскому меду.
- …изнасиловали и убили девочку. Прям перед воротами хлебозавода, - донеслось со стороны отдела, где продавали на развес корейские салаты.
Алина Емельяновна скосила глаза. Морщинистая дачница в пластмассовой шляпе разговаривала с кем-то по мобильному, который морально устарел еще в нулевых.
- Зачем уходить с рисования? Забирайте её по вечерам, и всё будет нормально. Вы живете возле мечети, это совсем рядом.
Поняв, что речь идет о Дворце пионеров, Алина Емельяновна усмехнулась и ускорила шаг. Ей льстило осознание, что горожане даже не представляют, с кем имеют дело, а её коллеги и соседи, сами того не подозревая, каждый день здороваются с загадочным маньяком, однако лживые слухи лишь коробили. Любовники Алины Емельяновны, мужчины в похоронных костюмах или без одежды вовсе, не были живыми, и юридически секс с ними считался надругательством над трупами. До изнасилования Алина Емельяновна ни за что не опустилась бы.
Выйдя из торгового центра на солнцепек, она окинула взглядом пейзаж, отделенный от неё асфальтовой дорогой. В косой тени бывшего общежития ютились старухи, которые продавали с клеенок дешевые носки, железный киоск, где можно было купить жирные от масла беляши, и автобусная остановка. Слева от остановки качала лиловыми гроздьями сирень, а под покровом её шелестящих ветвей ждали автобус две девочки.
На вид им было около двенадцати: волосы у обеих повторяли цветом бархатцы, которые росли у Алины Емельяновны вдоль гаража, глаза скрывались за темными очками, а из коротких шортов торчали неуклюжие подростковые ноги, походившие на макаронины. Девочки жевали беляши, размашисто жестикулировали и заливались отталкивающим хохотом, эхо которого рассыпалось по улице, сливаясь с далеким лязгом трамвая.
Алина Емельяновна улыбнулась. Одна из этих девочек могла в скором времени умереть от её руки, превратиться в задушенную мумию, которую невозможно будет похоронить в открытом гробу… Вероятность была мала, и всё же рыжие девочки, окажись они не в то время и не в том месте, могли не пережить надвигающийся День победы. Ради этого явно стоило отойти от сложившегося сценария.
Золотистое майское солнце прогревало бывшие общежития и деревянные дома, которые теснились вдоль улицы Розы Люксембург. В палисадниках удушливо цвела сирень, над красочными мальвами гудели шмели, а в теплой траве нежились беспородные кошки. Поднимая облака пыли, Неля ехала на велосипеде вдоль дороги. Поблескивали на свету круглые темные очки и красный рюкзак, переливающийся бензиновыми разводами. Бил в лицо ветер, играя светлыми локонами и складчатым капюшоном черной мантии, однако Неля, не обращая на это внимания, целеустремленно ехала туда, где заканчивался город и начинался лес.
Если бы Неля посещала психотерапевта, он счел бы её страсть к огню искаженным эхом детской травмы, вызванной гибелью отца в шахте, однако более точный вердикт вынес бы психиатр, распознав в Неле социопатку. Пиромания расцвела в период детских шалостей, померкла, когда Неля поступила в фазанку, чтобы выучиться на пищевого технолога, и вновь дала о себе знать после переезда в Петербург. Мужчины, жаждущие страданий, готовы были платить за них приличные деньги, и Неле не составляло труда поливать их воском, стряхивать на них пепел, а иногда даже тушить об их кожу сигареты. Один из её постоянных клиентов, скучающий редактор со склонностью к мазохизму, однажды сказал Неле, что ценит её за пугающие повадки вурдалака. Это был неприкрытый комплимент.
С поиском клиентов Неле помогал мелкотравчатый сутенер по имени Жора – молодой провинциал с телосложением вышибалы, сладострастием перверта и совестью базарного торгаша. Продлилось это сотрудничество около года и завершилось, как криминальная драма: Жора предложил Неле поучаствовать в шантаже обеспеченного сабмиссива, однако заслуженную долю не отдал, а затем и вовсе чуть не задушил Нелю насмерть, заручившись помощью неизвестного сообщника. К счастью, Жора был неопытным душителем и принял глубокий обморок за наступившую смерть, а неизвестный сообщник лишь отмалчивался. Сбежав с места происшествия, Неля в срочном порядке покинула Петербург.
К счастью, в Павлозаводске не нашлось людей, которые заинтересовались бы её прошлым, а его призраки не давали о себе знать. Нелю такой расклад вполне устраивал. Она работала продавщицей на мясном рынке, иногда грезила о мести, а по выходным ездила на велосипеде в лес, где наслаждалась уединением. Иногда в лесу ей встречался Фишер, который жил в десяти линиях от неё: как правило, он держал в руках тяжелый фотоаппарат и с маниакальной сосредоточенностью выслеживал очередную птицу.
Фишер, конечно, был повзрослевшим аутсайдером, состоявшимся убийцей и извращенцем от рождения, но даже он вряд ли бы оценил увлечение Нели, поэтому она отыскала в лесной глуши неприметный буерак, где можно было спокойно любоваться огнем.
Мать всегда утверждала, что вздорный характер Неля унаследовала от прабабушки Доры, которая была убежденной коммунисткой и обучала крестьянских детей грамоте, а после Октябрьской революции бросала в деревенский костер вековые иконы. Неля не возражала, потому что считала это похвалой, а не упреком. Она плохо помнила прабабушку, но уважала её за своеволие и атеизм.
Павлозаводск, напротив, возвращался к корням. В начале десятых годов по приказу городской администрации демонтировали памятники Ленину, пощадив лишь тот, который возвели одним из первых. Он до сих пор стоял в Ленпарке, запущенном и плохо освещенном сквере, справа от которого ветшали развалины гостиницы «Россия». В царскую эпоху она была овеяна флером престижа, при советской власти служила то зданием облисполкома, то общежитием для работников искусства, то детской больницей, а теперь являлась прибежищем бомжей и неформальных подростков. Также администрация Павлозаводска восстановила одну из старых церквей, которая теперь диалектически располагалась на улице Карла Маркса. На этом выделенные деньги подошли к концу, и реставрация православия в Павлозаводске приняла вялотекущий характер.
Неле в ту пору было не до политики. Она вела жизнь типичного маргинального подростка: цепляла на одежду значки и булавки, густо подводила глаза черным и красила волосы в неестественные цвета, а на досуге то выпивала с панкующими ровесниками в Ленпарке, то расписывала баллончиком руины вековой гостиницы. Однако больше всего Неле нравилось гулять в одиночестве и смотреть на пожары. Заметив в небе темный столб дыма, она устремлялась в его сторону, чтобы полюбоваться на голодное море огня, пожирающее очередной аварийный барак.
Легитимной версией спонтанных пожаров были масленичные гуляния, которые каждый год проходили на городской площади. Всякий раз, когда близилась к концу праздничная неделя, Неля совершала привычный ритуал - отправлялась в долгий путь до набережной, чтобы нагулять предвкушение. Дорога лежала через Жуковский микрорайон, где находились кафе «Весна» и парикмахерская «Краля», через дворы, за которыми уже тогда существовал мясной рынок, где Неле в будущем предстояло работать, через слякотный стадион школы №24, в которой на тот момент учился презираемый одноклассниками Фишер…
За полтора часа Неля взвинчивалась, как стальная пружина: зеленые глаза загорались фебрильным блеском, небольшой рот растягивался в улыбке, а пальцы с черными ногтями оживали, впадая в радостный тремор. Когда оранжевые языки пламени охватывали циклопическое чучело Масленицы, кусая сарафан, узорчатую рубаху и венок с пестрыми лентами, Неля напускала на себя серьезный вид, однако ногти всё равно скребли по вспотевшей ладони, а завороженный взгляд становился стеклянным. Огонь глодал соломенную утробу чучела, превращая его в чадящий факел, а над городской площадью кружили золотистые искры и крупные хлопья пепла. После сожжения оставался лишь гротескный каркас из обугленных жердей, походивший на скелет генетического урода.
Поев праздничных блинов, Неля выискивала на площади сани, запряженные кроткими лошадьми, и оплачивала поездку вокруг квартала. Утопая в грубой овчине, она сонно разглядывала проносящиеся мимо клены, светофоры и дорожные знаки. Под дугой пронзительно звенел колокольчик, а на фоне голубого неба трепетали яркие ленты, вплетенные в гривы. Взбивая копытами мокрядь, лошади тащили сани по грязному снегу и закусывали крупными зубами металлические трензеля.
Когда Неле исполнилось двадцать пять, её пиромания приобрела патологическую форму и стала требовать большего. Неля не возражала. Она всегда придерживалась мнения, что собственными желаниями пренебрегать нельзя.
Стрекоча спицами велосипеда, Неля проехала мимо автобусной остановки, рядом с которой отдыхал «икарус», покрытый дорожной пылью, и свернула на широкую тропу, что вела вглубь леса. В воздухе сгущался аромат хвои, по сосновым лапам рыжими искрами скакали белки, а змеевидная тропа медленно растворялась в бледном ковре лишайника. Когда она исчезла в нем окончательно, Неля спешилась и уверенно покатила велосипед сквозь лесной полумрак. Увеличивался и обрастал деталями темный провал буерака, над левым склоном которого перекрещивались сухие клыки старого бурелома, а правый таился под колючим пологом терновника, присыпанного кипенно-белыми цветами.
Неля спустилась в буерак, положила велосипед на землю и сняла темные очки. Она вынула из рюкзака полиэтиленовый пакет, и к её ногам упал свежий кошачий труп.
Серая шерсть на морде слиплась от запекшейся крови, мутные, как лунный камень, глаза, глядели сквозь цветущий терн, а пасть навсегда застыла в кривом посмертном оскале. Несколько часов назад кошку сбил грузовик, расколов ей череп и выплеснув на асфальт вишневую кровь. Неля была единственным свидетелем инцидента. Когда грузовик исчез за поворотом, она остановилась, запихнула кошку в пакет и продолжила велопрогулку.
Достав из рюкзака необходимые компоненты, - стеклянную миску и два кухонных зиплока с белым порошком, - Неля смешала анальгин, измельченный скалкой, с гидроперитом, который шел в комплекте с дешевым осветлителем для волос. Кошачий труп скрылся под кристаллически-белым холмиком. Неля отошла на безопасное расстояние, уселась под бледный каскад терновника и стала ждать. В пальцах, унизанных серебристыми кольцами, дымилась тонкая сигарета. Постукивала по земле нога, обутая в тяжелый ботинок. В голубой вышине качались верхушки сосен, между ними проникновенно гудел ветер, а хрупкие цветы терна пахли горьким миндалем.
Смесь воспламенилась, когда Неля закурила третью по счету сигарету. Под аккомпанемент резкого шипения к иссохшим стволам бурелома устремились, наслаиваясь друг на друга, плотные клубы призрачно-белого дыма. Завоняло паленой шерстью и горелым мясом. Неля оцепенела, будто дымный столб имел над ней потустороннюю власть: почернели неподвижные глаза, плотно сжались жемчужные зубы, осыпался на джинсы столбик табачного пепла. Сигарета тлела вхолостую, её ничтожный огонь подбирался к ухоженным пальцам с накрашенными ногтями, однако Неля этого не видела. Поле зрения сузилось, замылив всё, кроме дымящегося кошачьего трупа. Сигарета обожгла пальцы. Неля лишь поморщилась и машинально отбросила окурок.
Когда последние клочья дыма исчезли без следа, а кошачий труп покрылся грязно-рыжей кашицей, Неля вернулась в привычный мир.
«Ожог третьей степени. Жора с тем мудаком верещали бы, как свиньи. И этот мясник, которого сейчас все ищут. Килограмм смеси на голую спину – и всё, пиздец», - горделиво подумала она.
Неля не понимала, почему её считают жестокой, и предпочитала думать, что движет ей исключительно чувство справедливости. Девочки, которых она травила в школе, напрашивались на издевательства сами, мазохисты считали её кровожадность благом, а Жора с подельником заслуживали медленной пытки по умолчанию. Родственников Неля тоже недолюбливала, но всё же считала их своими, хоть и старалась этого не показывать. К сожалению, сжечь маньяка, который расчленил Жанну, было невозможно: судьба уготовила ему допросы, судебный процесс и этап.
Неля присыпала кошачий труп землей и хрустнула позвоночником. Внутренний пыл, усиленный пылом внешним, стал преходящей теплотой в низу живота. Неля дремотно прищурилась и потянулась в карман за смартфоном.
- Привет, Евгеша, - деловито сказала она, когда тот взял трубку, - не хочешь немного поумирать? Прямо сейчас?
- Я? – с недоумением переспросил он. – Хочу. Только я сейчас не дома…
- Ты можешь сказать мне, когда вернешься. Выберем время.
- Правда?
Неля вздохнула. Фишер был рассеян и задавал глупые вопросы. Скорее всего, ночью его снова мучила бессонница.
- Я вернусь домой через сорок минут. Кое-что улажу и буду полностью в твоем распоряжении, - произнес он.
Неля была уверена, что в этот момент его угольно-карие глаза налились тлеющим блеском, как это обычно бывало в предвкушении страданий. Фишер считал себя интеллектуалом, но мазохистские порывы и похоть весьма упрощали его мыслительную деятельность. Когда же он закатывал глаза и мычал от боли, впиваясь крупными зубами в хлопковый шарф, достучаться до его разума становилось в разы сложнее.
Меры Фишер не знал и готов был на многое. Неля приятно удивилась, когда он спокойно согласился на её условия, которые в уголовном праве классифицировались как истязание, и выдвинул в ответ свои, куда более опасные и наказуемые. Повод для первого удушения выбирали долго, чтобы не испортить момент.
- Оскорбление военнослужащего, - прочла вслух Неля, держа в руке Уголовный кодекс. Она сидела на деревянной табуретке, закинув ногу на ногу, и покачивала тяжелым ботинком. Мутное окошко, сквозь которое в сарай проникал свет июньского дня, было затянуто паутиной. Попавшая в неё муха надрывно жужжала.
- Слишком мелко. Давай что-нибудь другое, - со смешком возразил Фишер.
Бурые пятна крови на его белой рубашке, старый полосатый матрас, постеленный на земляной пол, и стены с осыпающейся побелкой, под которой виднелись перекрестья дранки, вместе образовывали типичный кадр из выпуска «Криминальной России», повествующего о провинциальной ОПГ. Роль Фишера, который сидел на матрасе и жалко шевелил руками, связанными за спиной, пока еще была неясна.
- Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции… - перелистнула Неля на другую страницу, однако на этот раз засмеялась сама.
Выбрали доведение до самоубийства, сочтя эту статью достаточно мрачной. Фишер многозначительно хмыкнул, но объяснять свою эмоцию не стал. Сочтя это призывом к началу, Неля гуманно пнула Фишера по голени. Он зашипел сквозь зубы, вжался в грязную стену и судорожно вздохнул.
«Надо снова затащить его в сарай. Уже достаточно тепло», - решила Неля, окончив разговор. Она выбралась из буерака, села на велосипед, и под его пыльными колесами зашуршала опавшая хвоя. Солнце золотистыми искрами проглядывало сквозь темный сосновый покров, однако не могло достичь сумрачной земли, на которой начинался край безлюдья, помертвевшего сухостоя и торфяных болот.
Если бы Неля посещала психотерапевта, он счел бы её страсть к огню искаженным эхом детской травмы, вызванной гибелью отца в шахте, однако более точный вердикт вынес бы психиатр, распознав в Неле социопатку. Пиромания расцвела в период детских шалостей, померкла, когда Неля поступила в фазанку, чтобы выучиться на пищевого технолога, и вновь дала о себе знать после переезда в Петербург. Мужчины, жаждущие страданий, готовы были платить за них приличные деньги, и Неле не составляло труда поливать их воском, стряхивать на них пепел, а иногда даже тушить об их кожу сигареты. Один из её постоянных клиентов, скучающий редактор со склонностью к мазохизму, однажды сказал Неле, что ценит её за пугающие повадки вурдалака. Это был неприкрытый комплимент.
С поиском клиентов Неле помогал мелкотравчатый сутенер по имени Жора – молодой провинциал с телосложением вышибалы, сладострастием перверта и совестью базарного торгаша. Продлилось это сотрудничество около года и завершилось, как криминальная драма: Жора предложил Неле поучаствовать в шантаже обеспеченного сабмиссива, однако заслуженную долю не отдал, а затем и вовсе чуть не задушил Нелю насмерть, заручившись помощью неизвестного сообщника. К счастью, Жора был неопытным душителем и принял глубокий обморок за наступившую смерть, а неизвестный сообщник лишь отмалчивался. Сбежав с места происшествия, Неля в срочном порядке покинула Петербург.
К счастью, в Павлозаводске не нашлось людей, которые заинтересовались бы её прошлым, а его призраки не давали о себе знать. Нелю такой расклад вполне устраивал. Она работала продавщицей на мясном рынке, иногда грезила о мести, а по выходным ездила на велосипеде в лес, где наслаждалась уединением. Иногда в лесу ей встречался Фишер, который жил в десяти линиях от неё: как правило, он держал в руках тяжелый фотоаппарат и с маниакальной сосредоточенностью выслеживал очередную птицу.
Фишер, конечно, был повзрослевшим аутсайдером, состоявшимся убийцей и извращенцем от рождения, но даже он вряд ли бы оценил увлечение Нели, поэтому она отыскала в лесной глуши неприметный буерак, где можно было спокойно любоваться огнем.
Мать всегда утверждала, что вздорный характер Неля унаследовала от прабабушки Доры, которая была убежденной коммунисткой и обучала крестьянских детей грамоте, а после Октябрьской революции бросала в деревенский костер вековые иконы. Неля не возражала, потому что считала это похвалой, а не упреком. Она плохо помнила прабабушку, но уважала её за своеволие и атеизм.
Павлозаводск, напротив, возвращался к корням. В начале десятых годов по приказу городской администрации демонтировали памятники Ленину, пощадив лишь тот, который возвели одним из первых. Он до сих пор стоял в Ленпарке, запущенном и плохо освещенном сквере, справа от которого ветшали развалины гостиницы «Россия». В царскую эпоху она была овеяна флером престижа, при советской власти служила то зданием облисполкома, то общежитием для работников искусства, то детской больницей, а теперь являлась прибежищем бомжей и неформальных подростков. Также администрация Павлозаводска восстановила одну из старых церквей, которая теперь диалектически располагалась на улице Карла Маркса. На этом выделенные деньги подошли к концу, и реставрация православия в Павлозаводске приняла вялотекущий характер.
Неле в ту пору было не до политики. Она вела жизнь типичного маргинального подростка: цепляла на одежду значки и булавки, густо подводила глаза черным и красила волосы в неестественные цвета, а на досуге то выпивала с панкующими ровесниками в Ленпарке, то расписывала баллончиком руины вековой гостиницы. Однако больше всего Неле нравилось гулять в одиночестве и смотреть на пожары. Заметив в небе темный столб дыма, она устремлялась в его сторону, чтобы полюбоваться на голодное море огня, пожирающее очередной аварийный барак.
Легитимной версией спонтанных пожаров были масленичные гуляния, которые каждый год проходили на городской площади. Всякий раз, когда близилась к концу праздничная неделя, Неля совершала привычный ритуал - отправлялась в долгий путь до набережной, чтобы нагулять предвкушение. Дорога лежала через Жуковский микрорайон, где находились кафе «Весна» и парикмахерская «Краля», через дворы, за которыми уже тогда существовал мясной рынок, где Неле в будущем предстояло работать, через слякотный стадион школы №24, в которой на тот момент учился презираемый одноклассниками Фишер…
За полтора часа Неля взвинчивалась, как стальная пружина: зеленые глаза загорались фебрильным блеском, небольшой рот растягивался в улыбке, а пальцы с черными ногтями оживали, впадая в радостный тремор. Когда оранжевые языки пламени охватывали циклопическое чучело Масленицы, кусая сарафан, узорчатую рубаху и венок с пестрыми лентами, Неля напускала на себя серьезный вид, однако ногти всё равно скребли по вспотевшей ладони, а завороженный взгляд становился стеклянным. Огонь глодал соломенную утробу чучела, превращая его в чадящий факел, а над городской площадью кружили золотистые искры и крупные хлопья пепла. После сожжения оставался лишь гротескный каркас из обугленных жердей, походивший на скелет генетического урода.
Поев праздничных блинов, Неля выискивала на площади сани, запряженные кроткими лошадьми, и оплачивала поездку вокруг квартала. Утопая в грубой овчине, она сонно разглядывала проносящиеся мимо клены, светофоры и дорожные знаки. Под дугой пронзительно звенел колокольчик, а на фоне голубого неба трепетали яркие ленты, вплетенные в гривы. Взбивая копытами мокрядь, лошади тащили сани по грязному снегу и закусывали крупными зубами металлические трензеля.
Когда Неле исполнилось двадцать пять, её пиромания приобрела патологическую форму и стала требовать большего. Неля не возражала. Она всегда придерживалась мнения, что собственными желаниями пренебрегать нельзя.
Стрекоча спицами велосипеда, Неля проехала мимо автобусной остановки, рядом с которой отдыхал «икарус», покрытый дорожной пылью, и свернула на широкую тропу, что вела вглубь леса. В воздухе сгущался аромат хвои, по сосновым лапам рыжими искрами скакали белки, а змеевидная тропа медленно растворялась в бледном ковре лишайника. Когда она исчезла в нем окончательно, Неля спешилась и уверенно покатила велосипед сквозь лесной полумрак. Увеличивался и обрастал деталями темный провал буерака, над левым склоном которого перекрещивались сухие клыки старого бурелома, а правый таился под колючим пологом терновника, присыпанного кипенно-белыми цветами.
Неля спустилась в буерак, положила велосипед на землю и сняла темные очки. Она вынула из рюкзака полиэтиленовый пакет, и к её ногам упал свежий кошачий труп.
Серая шерсть на морде слиплась от запекшейся крови, мутные, как лунный камень, глаза, глядели сквозь цветущий терн, а пасть навсегда застыла в кривом посмертном оскале. Несколько часов назад кошку сбил грузовик, расколов ей череп и выплеснув на асфальт вишневую кровь. Неля была единственным свидетелем инцидента. Когда грузовик исчез за поворотом, она остановилась, запихнула кошку в пакет и продолжила велопрогулку.
Достав из рюкзака необходимые компоненты, - стеклянную миску и два кухонных зиплока с белым порошком, - Неля смешала анальгин, измельченный скалкой, с гидроперитом, который шел в комплекте с дешевым осветлителем для волос. Кошачий труп скрылся под кристаллически-белым холмиком. Неля отошла на безопасное расстояние, уселась под бледный каскад терновника и стала ждать. В пальцах, унизанных серебристыми кольцами, дымилась тонкая сигарета. Постукивала по земле нога, обутая в тяжелый ботинок. В голубой вышине качались верхушки сосен, между ними проникновенно гудел ветер, а хрупкие цветы терна пахли горьким миндалем.
Смесь воспламенилась, когда Неля закурила третью по счету сигарету. Под аккомпанемент резкого шипения к иссохшим стволам бурелома устремились, наслаиваясь друг на друга, плотные клубы призрачно-белого дыма. Завоняло паленой шерстью и горелым мясом. Неля оцепенела, будто дымный столб имел над ней потустороннюю власть: почернели неподвижные глаза, плотно сжались жемчужные зубы, осыпался на джинсы столбик табачного пепла. Сигарета тлела вхолостую, её ничтожный огонь подбирался к ухоженным пальцам с накрашенными ногтями, однако Неля этого не видела. Поле зрения сузилось, замылив всё, кроме дымящегося кошачьего трупа. Сигарета обожгла пальцы. Неля лишь поморщилась и машинально отбросила окурок.
Когда последние клочья дыма исчезли без следа, а кошачий труп покрылся грязно-рыжей кашицей, Неля вернулась в привычный мир.
«Ожог третьей степени. Жора с тем мудаком верещали бы, как свиньи. И этот мясник, которого сейчас все ищут. Килограмм смеси на голую спину – и всё, пиздец», - горделиво подумала она.
Неля не понимала, почему её считают жестокой, и предпочитала думать, что движет ей исключительно чувство справедливости. Девочки, которых она травила в школе, напрашивались на издевательства сами, мазохисты считали её кровожадность благом, а Жора с подельником заслуживали медленной пытки по умолчанию. Родственников Неля тоже недолюбливала, но всё же считала их своими, хоть и старалась этого не показывать. К сожалению, сжечь маньяка, который расчленил Жанну, было невозможно: судьба уготовила ему допросы, судебный процесс и этап.
Неля присыпала кошачий труп землей и хрустнула позвоночником. Внутренний пыл, усиленный пылом внешним, стал преходящей теплотой в низу живота. Неля дремотно прищурилась и потянулась в карман за смартфоном.
- Привет, Евгеша, - деловито сказала она, когда тот взял трубку, - не хочешь немного поумирать? Прямо сейчас?
- Я? – с недоумением переспросил он. – Хочу. Только я сейчас не дома…
- Ты можешь сказать мне, когда вернешься. Выберем время.
- Правда?
Неля вздохнула. Фишер был рассеян и задавал глупые вопросы. Скорее всего, ночью его снова мучила бессонница.
- Я вернусь домой через сорок минут. Кое-что улажу и буду полностью в твоем распоряжении, - произнес он.
Неля была уверена, что в этот момент его угольно-карие глаза налились тлеющим блеском, как это обычно бывало в предвкушении страданий. Фишер считал себя интеллектуалом, но мазохистские порывы и похоть весьма упрощали его мыслительную деятельность. Когда же он закатывал глаза и мычал от боли, впиваясь крупными зубами в хлопковый шарф, достучаться до его разума становилось в разы сложнее.
Меры Фишер не знал и готов был на многое. Неля приятно удивилась, когда он спокойно согласился на её условия, которые в уголовном праве классифицировались как истязание, и выдвинул в ответ свои, куда более опасные и наказуемые. Повод для первого удушения выбирали долго, чтобы не испортить момент.
- Оскорбление военнослужащего, - прочла вслух Неля, держа в руке Уголовный кодекс. Она сидела на деревянной табуретке, закинув ногу на ногу, и покачивала тяжелым ботинком. Мутное окошко, сквозь которое в сарай проникал свет июньского дня, было затянуто паутиной. Попавшая в неё муха надрывно жужжала.
- Слишком мелко. Давай что-нибудь другое, - со смешком возразил Фишер.
Бурые пятна крови на его белой рубашке, старый полосатый матрас, постеленный на земляной пол, и стены с осыпающейся побелкой, под которой виднелись перекрестья дранки, вместе образовывали типичный кадр из выпуска «Криминальной России», повествующего о провинциальной ОПГ. Роль Фишера, который сидел на матрасе и жалко шевелил руками, связанными за спиной, пока еще была неясна.
- Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции… - перелистнула Неля на другую страницу, однако на этот раз засмеялась сама.
Выбрали доведение до самоубийства, сочтя эту статью достаточно мрачной. Фишер многозначительно хмыкнул, но объяснять свою эмоцию не стал. Сочтя это призывом к началу, Неля гуманно пнула Фишера по голени. Он зашипел сквозь зубы, вжался в грязную стену и судорожно вздохнул.
«Надо снова затащить его в сарай. Уже достаточно тепло», - решила Неля, окончив разговор. Она выбралась из буерака, села на велосипед, и под его пыльными колесами зашуршала опавшая хвоя. Солнце золотистыми искрами проглядывало сквозь темный сосновый покров, однако не могло достичь сумрачной земли, на которой начинался край безлюдья, помертвевшего сухостоя и торфяных болот.
Фишер сидел на стуле и сутуло склонялся над мусорным ведром. Старая рожковая люстра заливала желтоватым светом опущенную голову, синюю клетку рубашки и небольшой нож для овощей, шевелящийся в узловатых пальцах. За кухонным окном бесновалась природа, озаряя фиолетовыми молниями свинцово-серое небо, по крыше двухэтажного сарая и цветущему дереву калины барабанил ливень, а на поверхности темных луж лопались крупные пузыри.
Бездумно орудуя ножом, Фишер чистил картошку для гуляша и пытался отвлечься от изощренных желаний, которые не ослабли даже после обеденного визита Нели. Фишер позволил ей оставить у него на груди глубокий порез, который теперь саднил, однако успокоение не приходило. Перед мысленным взором кружился навязчивый калейдоскоп образов: пальцы на мужском горле, блеск заточенных лезвий и кровоточащие шматы сырой плоти. Фишер сдерживался. Некоторые фантазии не следовало выпускать наружу.
В юности он, конечно, поступил бы совсем иначе. В ту пору Фишер был безалаберным молодым человеком, которому недоставало хладнокровия и с избытком хватало гнева. Пребывая в подобном умонастроении, он отметил совершеннолетие и переехал из индустриального Павлозаводска прямиком в заснеженный Петербург, который встретил его величественной архитектурой, испещренной пятнами сырости, трубами водостока, в которых выл балтийский ветер, и газетными киосками, где без стеснения продавался журнал «Флирт».
Сняв в Купчино однушку, которая своими габаритами напоминала ячейку колумбария, Фишер устроился на работу в банк и нехотя смирился с должностью заурядного консультанта. Каждый будний день он просыпался в шесть утра, нехотя сползал с дивана и выходил курить на захламленный балкон, за окнами которого таял сумеречный рассвет. Атонально гудел клаксонами проспект Ленина, обретали трехмерность панельные дома, а окурки, которые Фишер выкидывал в окно, падали на гудронную крышу универсама «1000 мелочей».
Надев корпоративный галстук в черно-красную полоску, Фишер выходил из подъезда, исчезал в чреве метро и полчаса добирался до Лиговского проспекта. Крашеные стены исторических зданий пестрели яркими граффити, на фонарных столбах подрагивали розовые объявления, обещающие похоть, а Фишер консультировал клиентов банка и вымученно решал их проблемы. Календарь майя предвещал апокалипсис – один из множества, обреченных на забвение.
Выцветшие обои купчинской квартиры, запах старости и лекарств, впитавшийся в стены зала, и продавленный диван-раскладушка, на котором Фишер излишне чутко спал, лишь подчеркивали нелепость переезда. Приятелями Фишер тоже не обзавелся: выходные он проводил в рюмочных, а когда те закрывались, перемещался на ближайшее кладбище. Иногда он переходил сразу ко второму пункту и являлся на кладбище со своим алкоголем, который там же и распивал. Фишеру было восемнадцать лет, коллеги считали его странным, а перспектива стать успешным финансистом медленно растворялась в зыбких потемках будущего.
Весна принесла с собой тяжелые сны, после которых Фишер просыпался разбитым. Поддавшись смутной тревоге, которая взялась из ниоткуда и пустила в его разуме жирные корни, он совершил нетипичный для себя поступок: набил на левой руке татуировку, остановив выбор на монохромном изображении поварского ножа. Туман частично рассеялся, однако свой сужающийся круг не разомкнул.
Наперекосяк всё пошло в одну из июньских суббот. Суматошно очнувшись от полуденной дремы, Фишер увидел за окном алое пятно на сером холсте – вечернее солнце, сползающее за панельные дома. В спину впивалась диванная пружина, которая объясняла сюжет сна: связанный Фишер лежал в потрескавшейся ванне, старый каннибал с синевой в лице перебирал кухонные ножи, а ванную павлозаводского дома, где до сих пор жила Лора Генриховна, покрывал перестроечный налет безысходности. Фишер перекатился на бок, потер руками заспанное лицо и надел очки. Его снедало желание как можно скорее оказаться на свежем воздухе.
Один из последних поездов метро довез Фишера до Васильевского острова. Ночной проспект поджидал за массивными дверями станции, словно неповоротливый зверь: моргали желтушные огни фар, тлели неоновые вывески, висели в полумраке колючие искры фонарей. Не соблазнившись пестрой иллюминацией, Фишер свернул на близлежащую улицу, где шуршали темно-зеленые кроны. Он брел сквозь полумрак и размышлял о сновидении, которое заставило его покинуть квартиру. Оно не было кошмаром. Воспоминание о нем приятно щекотало нервы.
Улицы сужались, плавно переходя в подворотни, редкий свет окон шел на убыль, а темнота сгущалась, как застывающая кровь. Фишер слышал лишь шарканье собственных ботинок, ощущал лишь стылые прикосновения ветра, который пробирался под вельветовый пиджак. Телесность ускользала от Фишера, будто с каждым шагом он всё сильнее растворялся во мгле. В унисон с ним дышал кто-то еще, и от этого нездорового дыхания сердце Фишера наполнялось беспредметной злобой, которую не представлялось возможным удержать внутри.
- Да хватит меня лапать! Пошел на хуй! – раздался где-то впереди негодующий женский крик.
Фишер остановился и, насколько позволяло зрение, всмотрелся во тьму. Из небольшого дворика, который примыкал к подворотне и смотрел на нее глухой стеной, доносился шум потасовки. В бледном конусе фонаря мелькнули две человеческие фигуры. Вновь раздался женский крик, но на этот раз без слов и уже с нотками паники.
Восстановить ход событий, которые за этим последовали, удалось далеко не сразу. Фишер побежал на звук. Мелькнуло перед глазами пористое лицо с колтуном бороды, послышался костный хруст, эхом повис в воздухе пьяный вопль. Ярость жгуче вспыхнула электрической искрой, и Фишер увяз в лабиринте из сквозных дворов, коричнево-желтых стен и гулких лестничных клеток. Время исказилось, нарушив свой ход.
Когда аффект ослаб, Фишер обнаружил себя в хорошо обставленной, но несколько грязной кухне. За пыльным окном недвижимо спал двор-колодец, полный вязких теней и латунно-желтых световых клякс, перед открытой форточкой колыхалась ситцевая занавеска, а в метре от Фишера сидела за столом девушка. На её округлом лице жирно блестел нос картошкой, покачивался при каждом движении неряшливый пучок, собранный из темных волос, а полосатая пижама была усыпана катышками. Поблескивая серыми глазами, девушка ела вареные брокколи и беззвучно что-то произносила. Опустив взгляд, Фишер увидел перед собой чашку кофе и понял, что тоже сидит за кухонным столом.
- …ты ему, конечно, руку сломал, но вряд ли он к ментам пойдет. Он же бомж, кто его станет слушать? – сказал девушка, облизав вилку. - Да и вряд ли он нас запомнил. Он был пьяный, как скотина.
«Рита. Её зовут Рита. Я у неё в гостях», - с трудом припомнил Фишер. Он понемногу приходил в себя и надеялся, что это не слишком бросается в глаза. Тело ломило, будто он несколько часов подряд колол дрова.
- Что с тобой? Что-то болит? – спросила Рита.
Фишер облегченно выдохнул. То ли он, оставшись под управлением автопилота, вел себя относительно адекватно, то ли Рита плохо разбиралась в людях и почему-то сочла его достойным доверия.
- Висок кольнуло. Ничего страшного, у меня это с детства, - солгал он.
Память возвращалась, и теперь Фишер знал, что неподалеку бродит пьяный бомж со сломанной рукой, который выбрал сегодня неправильный маршрут. Похожий сюжет имел место в «Заводном апельсине», который Фишер время от времени пересматривал. Особенно его впечатляла сцена, в которой Алекса ДеЛарджа, закованного в наручники и неспособного оказать сопротивление, притапливали в корыте бывшие друзья. Когда Фишер узнал, что задыхался актер по-настоящему, эта сцена полюбилась ему еще сильнее: документальные съемки такого характера эстетичностью не отличались, найти что-нибудь стоящее было проблемой, а до обнародования киноархива Сливко, который знал толк в постановке кадра, еще нужно было дожить.
- Скоро придут мои друзья. Хочешь посидеть с нами? – предложила вдруг Рита, широко улыбнувшись.
- Если только они не будут возражать, - ответил Фишер вежливой формулой.
Рите Казаковой, коренной петербурженке и круглой сироте, было чуть за двадцать, однако она нигде не училась, занимаясь вместо этого фотографией и прячась от мира в романах Алексея Толстого. Проживала она в двухкомнатной квартире, которая своим убранством наводила на мысли о купеческих мавзолеях. В длинном, как кишка, коридоре, висело тяжелое зеркало в бронзовой раме, а справа от него располагался монументальный платяной шкаф, пахнущий апельсиновыми корками. Прокуренный зал некогда выглядел роскошно, но теперь лишь ветшал: зеленый ковер выгорел, красная скатерть на круглом столе поблекла, а свет хрустальной люстры зыбко оседал в воздухе, не добираясь до темных углов. Санузел линял, как рептилия, сбрасывая осколки потрескавшегося кафеля и струпья синей краски. В квартире явно не хватало хозяйской руки.
Но Фишера это не смутило, и впервые за полгода он провел выходные в компании живых людей, а не обомшелых надгробий. Меланхолично пела Лана Дель Рей, под поблескивающим цветком люстры вился дым сигарет, а в хрустальной пепельнице дотлевали окурки. Жора, гоповатый и широкоплечий парень в спортивном костюме, играл в покер весьма топорно. Щеголеватый Роман, чья костлявость наводила на мысли о нездоровье, путался в комбинациях, безостановочно курил, щелкая золотистой зажигалкой, и нервно поправлял воротник рубашки. Его темные глаза сверкали, словно от сока белладонны, а челюсть мелко подрагивала. Не удержавшись от соблазна, Фишер обыграл обоих: и Жору, уроженца Стерлитамака, который учился в техникуме, и Романа, интеллигентного студента-филолога. По какой-то причине они восприняли это с одобрением. Фишер не удивился: к тому моменту он уже умел пользоваться своей харизмой.
Человека, который лишь прикидывался порядочным, новые знакомые разглядели в Фишере уже через несколько встреч, однако отреагировали на это нетривиально. Рита больше не утаивала своей любви к рецептурному коделаку, который погружал её в дремотную прострацию, Роман без стеснения жаловался на драгдилеров, которым был должен, а Жора спокойно вел по мобильному деловые разговоры. Оба были сутенерами, однако Жора добился в этом деле больших успехов, чем Роман. В отличие от последнего, который часто переезжал, а в периоды крайнего безденежья жил за счет Риты, и впрямь не разбирающейся в людях, Жора снимал дом в Девяткино, водил серый «ниссан» и употреблял только спиртное.
Впрочем, Фишера тоже ничего не смутило. Он спокойно отнесся и к образу жизни новоявленных друзей, и к прозвищу, которым его наградил Жора, исказив его инициалы на американский манер. Напор внутренней агрессии ослаб и теперь мучил Фишера лишь изредка, однако работа стала вгонять его в такую тоску, что в сентябре он взял отпуск и отправился с бутылкой кагора к Рите, надеясь застать её дома.
Дома Рита была, однако блаженно дремала в спальне. Фишер решил не ломать ей кайф и обосновался в зале. Развалившись на стуле, он курил и безучастно слушал, как спорят Жора и Роман. Стриженый под машинку Жора сидел на диване и молча выслушивал Романа, который суетливо бродил по комнате, умоляя подвезти его на Сенную площадь. Жора буравил его взглядом и хмурил брови, которые и без того нависали над немигающими глазами. Было очевидно, что ехать он никуда не собирается, однако Роман не унимался.
- Никуда я тебя не повезу. Это исключительно твои проблемы, и решить ты их можешь, вернув всем долги, пока тебе не проломили башку, - веско возразил Жора.
Разговаривал он интеллектуальнее, чем выглядел. Из-за мускулатуры, которую не скрадывал даже мешковатый спортивный костюм, и крупной головы, сидящей на бычьей шее, Жора смахивал то ли на боксера, то ли на мясника.
- Да пойми ты, я не собираюсь устраивать мордобой. Мне всего лишь нужно, чтобы они увидели, что я не один. Они ничего не сделают, если со мной будет кто-то еще. Особенно ты.
Фишер рассеянно ткнул окурком в пепельницу. Из головы не шел вчерашний садоэротический сон: жаркий полдень плавил окна панельного дома, Фишер лежал с пробитой головой около подъезда, заливая кровью пыльный асфальт, а порноактриса, чей французский псевдоним переводился как «Черное Удушье», болезненно целовала его в пересохший рот. Этот гротескный сценарий, насквозь пропитанный либидозным влечением, отдаленно напоминал детские мечты Фишера о медленной смерти.
- Почему каждый раз, когда я прошу помощи?..
- Помощи в чем? – вмешался Фишер. Он не понимал, о чем идет речь.
Повернувшись на его голос, Роман с облегчением вздохнул:
- Ничего серьезного, дело на полчаса. Я хочу съездить к Лавровским, на Сенную, но одному мне туда ехать нежелательно.
- Не ввязывайся в это, Джей Пи, он косячник, - сказал Жора, презрительно изогнув мясистый рот, - пусть сам разгребает свое говно.
- Я не косячник. Просто сложились такие обстоятельства, что…
- А других обстоятельств у тебя никогда не складывается.
- Я съезжу с тобой. Собирайся, - лаконично произнес Фишер.
Не потрудившись даже поблагодарить его, Роман метнулся к платяному шкафу и принялся торопливо натягивать короткое пальто, которое вкупе с острыми лакированными ботинками придавало ему вид мелкого афериста.
Вопреки своему финансовому положению, Роман вызвал такси и оплатил поездку в обе стороны. Всю дорогу он рассказывал Фишеру о Лавровских, братьях-погодках, которые торговали стимуляторами и жили в одном из переулков близ Сенной площади. Фишер не слушал. Прислонившись виском к стеклу, он вглядывался в вечернюю синь, которая пестрела неоновыми созвездиями. За каменным парапетом набережной колыхались свинцовые волны Невы, а на другом берегу возвышался Исаакиевский собор, окруженный хрупким ореолом золотистого свечения. Фонари блестели в гуще мрака, словно глаза блокадных людоедов. Фишер нутром чувствовал, как нарастает тихий, всепоглощающий гул, слышимый лишь ему одному, и не понимал, зачем он вообще вызвался помочь Роману.
Дом, в котором проживали Лавровские, до революции был доходным, а ныне, пережив советский период и первые годы демократии, производил удручающее впечатление. В плохо освещенной парадной пахло скисшим борщом, бледно-зеленые стены шелушились, а лестница с коваными перилами угловатой спиралью уходила в темноту. Остановившись на третьем этаже, Роман принялся звонить в одну из квартир. За железной дверью послышались шаги, лязгнул замок, и над цепочкой возникло отечное лицо, увенчанное кучерявой шевелюрой. Роман заискивающе улыбнулся.
- Ты кого с собой притащил? – грубо спросил кудрявый мужчина, одетый в банный халат.
Улыбка Романа стала такой кислой, что он приобрел совсем уж несчастный вид:
- Это мой друг. Миша, не сердись, я встретил его возле…
Тот повел ладонью, и Роман оборвал речь на полуслове. Фишер вскинул бровь: он еще ни разу не видел, чтобы Роман до такой степени перед кем-то лебезил.
- Ладно, пусть тоже заходит, - буркнул Миша, говоря о Фишере в третьем лице, - Саня в Краснодар уехал, без него можно.
Стоило двери открыться полностью, как Роман очутился в квартире, сбросил начищенные ботинки на полосатый дверной коврик и скрылся в зале, который носил на себе отпечаток ушедшего века. Вполсилы горела каскадная люстра, со стен свисали клочья полосатых обоев, а в темном углу блестело лаком советское пианино.
Фишер вошел следом и нерешительно замер возле мутного зеркала, которое висело над грудой обуви. Звонко щелкнул замок запираемой двери.
- А ты подождешь здесь, - безапелляционно заявил Миша, повернувшись к Фишеру, - тебя наши дела не касаются. Ясно?
Фишер потупился и молча закивал. Миша повел челюстью, прошел в зал и исчез за рамкой дверного проема. Началась тихая беседа, слова которой нельзя было разобрать. Фишер решил не разуваться. Он посмотрелся в зеркало, тронутое патиной, но увидел лишь темноту, в которой едва просматривалась закрытая дверь ванной – предназначение комнаты объясняла табличка с черным силуэтом девочки под душем. В очках Фишера отражались грязно-желтые блики люстры. Он вскинул подбородок и невольно залюбовался собой. Рефлексы перемещались по линзам, словно отблески далекого костра.
- Значит, долги ты выплачивать не хочешь, а нюхать хочешь, - неожиданно громко произнес Миша, - может, тебе лучше в больнице полежать, Рома? Месяца три? Чтобы мозги на место встали?
Скрипнули дверные петли, темнота в зеркале зашевелилась, и Фишера обдало запахом сырости. Из ванной выскользнул небритый мужчина, весьма похожий на хозяина квартиры.
- Саня, придержи этого задрота, чтобы не мешал, - приказал из зала Миша. С грохотом что-то упало, раздался протяжный вой Романа.
Едва Фишер успел осознать смысл происходящего, как его мысли слиплись в несвязный ком, гул в голове стал нестерпимо давящим, а рассудок уступил место холодному гневу. Не ощущая собственных рук, Фишер ударил нападавшего сначала в солнечное сплетение, а затем в челюсть. Тот вскрикнул, качнулся и повалился навзничь. Фишер рванулся к двери. Он надеялся, что успеет открыть замок.
К счастью, удача была на его стороне. Толкнув дверь плечом, Фишер вывалился в темную парадную и побежал вниз по спиральной лестнице. За ним с топотом кто-то гнался. Не желая встречаться ни с Мишей, ни с его пострадавшим братом, Фишер прибавил скорость. Нужно было всего лишь добраться до такси.
- Да погоди ты, это я! – донесся сверху нервно-веселый голос Романа, эхом отразившийся от облупленных стен.
Роман был настолько взбудоражен, что оказался возле такси первым. Повалившись вслед за ним на заднее сиденье, Фишер заметил, как Роман нервно покосился на арку, за которой жили Лавровские, и лихорадочным движением спрятал что-то в карман пальто. Желтое авто тронулось с места, и изысканно-ветхий пейзаж, затянутый сетью проводов, пополз назад. Фишер оглянулся. На улице не было ни души. Ночь была на удивление спокойной и элегической. Фишер ощутил, как ноет правое запястье, предвещая несколько дней боли, и поморщился: если бы он носил с собой нож, этого можно было избежать.
- А ты сильнее, чем кажешься, - сказал Роман, переводя дыхание, - внешне ты…
- Он жив? – прагматично поинтересовался Фишер.
- Жив, куда он денется. Просто немного… обескуражен.
Остаток вечера прошел в ожидании недоброго. Рита сонно раздавала карты, Жора проигрывал и сдержанно злился, а Роман то и дело бегал в ванную, откуда возвращался с блестящими глазами и маниакальной улыбкой. Фишеру казалось, что вот-вот раздастся звонок в дверь и продолжится фантасмагория, начавшаяся на задворках Сенной площади, однако этого не произошло.
Зима вытянула из Фишера последние крохи организованности. Работал он, пересиливая желание сбежать в ближайшую рюмочную, а выходные проводил у Риты, которая за прошедший год весьма переменилась. Нужда в кодеине придала её осунувшемуся лицу кратковременный опиатный шарм и требовала теперь бо́льших затрат. Не доверяя ни Жоре, ни Роману, рискуя быть ограбленной и убитой, Рита стала принимать в собственной квартире скучающих мужчин. Свое настоящее имя она от них скрывала, называясь Аэлитой, и некоторым её клиентам, родившимся в интеллигентных семьях, этот псевдоним даже был знаком.
Впервые за долгое время Фишер нашел её поведение разумным. Роман едва справлялся с Элен, хамоватой женщиной, которая выглядела старше своих лет, курила сигареты без фильтра и по паспорту была Людмилой, а к Жоре обращались лишь мужчины с весьма специфическими запросами, от которых отказывались даже плечевые. Сотрудничество с Романом было бессмысленным, сотрудничество с Жорой – травмоопасным. Положиться Рите оказалось не на кого, и она предпочла работать в одиночку.
В марте Фишера уволили за нарушение дисциплины, но его это даже обрадовало. Чтобы как-то отметить увольнение, он поехал на Апраксин двор и после часа блужданий по лабиринту рынка купил себе в подарок складной нож с узким клинком и перламутрово-черной рукоятью, за который узбек, плохо понимающий по-русски, попросил пятьсот рублей. На Васильевский остров Фишер прибыл с блаженным выражением лица.
Жора встретил новость об увольнении Фишера с таким спокойствием, будто только этого и ожидал. Роман кинул на Фишера оценивающий взгляд, но ничего не сказал.
- Давно бы так. Тебя всё равно на треть зарплаты штрафовали, - подытожила Рита, тасуя карты. На её заострившемся подбородке заживал разодранный прыщ.
Когда Рита начала клевать носом, Роман отнес её на руках в спальню, положил на кровать и заботливо укрыл одеялом. Засыпающая Рита была беззащитной и хрупкой, как птица с вывихнутым крылом. Жора посмотрел на часы, сдержанно попрощался и ушел. Роман вальяжно плюхнулся на диван и щелкнул золотистой зажигалкой. Выдохнув в потолок облако дыма, он заинтересованно осмотрел Фишера, который сидел в кресле, с головы до ног и загадочным тоном спросил:
- Работа нужна?
- Смотря какая, - деловито уточнил Фишер.
- Несложная. Охранять меня и Люду.
- Ты предлагаешь это мне, потому что не согласились остальные?
- Если вкратце, то да. Все считают, что я ненадежный человек, - признался Роман. Видимо, он решил, что честность будет лучшей политикой.
- Сколько собираешься платить? - спросил Фишер.
- Треть с каждого клиента. А если конкретнее, то около семидесяти косарей в месяц.
Фишер неопределенно хмыкнул. Для нелегальной деятельности цифра выходила скромная.
- Эксцессов возникнуть не должно. Если ты будешь маячить перед клиентами с монтировкой в руках и мрачной рожей, это уже отсеет больший процент неадекватов. Ты и сам на маньячину похож, когда нердом не прикидываешься.
- Это, конечно, очень хорошо. Но смогу ли я их бить? – поинтересовался Фишер, отогнав от себя мысль о меньшем проценте.
- В пределах разумного. Чтобы заяв не было, сам понимаешь, - ощерился Роман.
Взглянув на него из-под очков, Фишер полушутя произнес:
- Я согласен, но при одном условии. Если ты не будешь платить мне вовремя, я испытаю на тебе мой любимый удушающий прием. У меня сильные руки, и лучше тебе не узнавать, до какой степени мне нравится душить людей.
Роман сник и поклялся платить вовремя. Фишер не поверил, но решил дать ему шанс.
Бордель Романа располагался на Выборгском шоссе, в мыльно-бежевом панельном доме с неряшливыми рядами балконов. Клиенту-бюджетнику, который желал встретиться с Элен, открывал Фишер, вооруженный монтировкой – неприветливый и угрюмый, как балабановский антагонист. Пустой коридор, освещенный голой лампочкой, вызывал у клиента желание как можно скорее покинуть этот клоповник, однако из спальни выходила Элен, и гулящий супруг, очарованный её рыжими локонами и перламутровым платьем, отдавал Роману заготовленные деньги.
Пропуская мимо ушей хриплые стоны, напоминающие дыхание астматика, Фишер перекусывал на кухне, где кисла в раковине жирная посуда, или курил в форточку, пока его не отвлекала говорливая Людмила. В свободные минуты он дремал на разложенном диване, созерцая туманные обрывки сновидений, и временами ему мерещились жестокие грёзы, от которых становилось тепло на душе.
Женатые мужчины проявляли агрессию крайне редко, однако студентов, наркоманов и гастарбайтеров, возомнивших себя хозяевами жизни, приходилось выпроваживать. Иногда происходило то, ради чего Фишер согласился на предложение Романа: несогласный клиент получал монтировкой по мясу, после чего ретировался. Тех, кто не понимал даже такие намеки, Фишер слегка придушивал локтем и выставлял за порог, а в особо тяжелых случаях доставал нож. До кровопролития, как правило, дело не доходило.
Лора Генриховна считала, что Фишер, которого уволили из банка, временно работает охранником на складе. Вряд ли она могла представить, что её любимец Енюша отметил двадцатилетие, встретил Новый год и провел майские выходные в Финляндии, будучи помощником сутенера. Он и дальше лгал бы ей про склад, вот только ранним летом Роман исчез: на звонки он не отвечал, у Элен не появлялся, а дома отсутствовал.
Через неделю разлагающийся труп Романа обнаружили в мусорном баке возле Финбана. У трупа были сломаны ноги и перерезано горло.
Жора, узнав о трагической гибели приятеля, помрачнел, но всё же отметил, что Роман уже давно рыл себе яму. Рита впала в психическое оцепенение и долго рыдала в объятиях Фишера, сбитого с толку таким проявлением доверия. Однако на его решение эта истерика не повлияла: чтобы не попасть под горячую руку неизвестных убийц, Фишер, который при жизни Романа был его постоянным подельником, залег на дно в Сестрорецке.
За смертью Романа последовали серьезные перемены, и Фишер, вернувшийся из пригорода в августе, долго ничего не понимал. Рита не пускала Жору к себе домой, кололась героином и весила меньше пятидесяти килограммов, а из её квартиры, которая теперь еще больше походила на усыпальницу, исчезли телевизор и микроволновка. Жора в свою очередь тоже избегал Риты, испытывая к ней необъяснимое отвращение, а вот Фишера теперь оценивал высоко. Видимо, Жора наконец разглядел в нем отвагу, которую считал главным мужским качеством.
Фишер тем временем искал легальную работу, но увольнение по статье и годичный перерыв в трудовом стаже закрывали ему доступ к вакансиям с достойной зарплатой. Бессмысленная череда собеседований, после которых Фишеру обещали перезвонить, тянулась до октября, пока Рита не предложила ему встретиться и обсудить, как она расплывчато выразилась в вайбере, «деловой вопрос».
В прокуренном зале слабо пахло уксусом, а жестяную банку из-под кофе переполняли окурки. Костистое лицо Риты было желтовато-серым, как суглинок, и слабый свет люстры лишь подчеркивал её щуплость. Тому, что предложение Риты ничем не отличалось от просьбы покойного Романа, Фишер не удивился. Этого следовало ожидать.
- Почему ты предлагаешь это именно мне? Почему, например, не Жоре? – поинтересовался он, откинувшись на спинку стула.
- Жора неадекватный. Совсем неадекватный. Лучше бы ты тоже держался от него подальше, - таинственно сказала Рита.
Фишер хмыкнул и стряхнул пепел в кофейную банку.
- У него встает только на ампуташек, прикинь? Я ему доверюсь, а он что сделает? Ногу мне отрубит, пока я сплю? Нет уж, спасибо. Я ищу сутенера, на которого можно положиться. Иначе вся эта затея теряет смысл.
Фишер глубоко затянулся. Он знал, что Жора, выпив лишнего, становится конфликтным ксенофобом, знал, что его дядя, профессиональный коллектор, недавно угодил в колонию строгого режима, получив семь лет за убийство, однако про тягу к калекам слышал впервые. Об этом Жора не проговаривался, даже будучи пьяным, и Фишер его прекрасно понимал: к сексуальным девиациям люди относились с настороженностью, а их обладателей считали как минимум странными.
- Он находит на трассе инвалидок и везет к себе. Платит им копейки, а они на всё соглашаются, хотя за такое должны требовать доплату! – сорвалась на крик Рита, нехорошо сверкнув глазами.
Фишер решил не уточнять, что именно из допуслуг так нравится Жоре и откуда Рите это известно. Кажется, пока он отсиживался в Сестрорецке, произошло нечто из ряда вон выходящее.
- Сколько ты будешь мне платить? – спросил он. Его денежная подушка истощалась. Не желая волновать Лору Генриховну, он питался продуктами «Красная цена» и курил «Приму» вместо «Marlboro». На квартплату за ноябрь денег уже не оставалось.
- Половину. В день у меня выходит тысяч пять-десять. Как пойдет.
Фишер подсчитал потенциальную выгоду. Схема, рассчитанная только на двух человек, была явно выгоднее предыдущей и уж точно выгоднее многочисленных вакансий грузчиков.
- Я доверяю тебе, потому что ты мой самый близкий друг. Ты ко мне даже подкатывать не пытался, а это уже кое-что значит, - серьезно произнесла Рита, глядя ему в глаза.
Фишер скромно приподнял уголки губ. Он не сближался с Ритой лишь потому, что она вряд ли разделила бы его любовь к мазохизму, однако результат превзошел все ожидания. Обычно, чтобы сойти за хорошего парня, нужно было что-то предпринимать, но Рита предъявляла к мужчинам настолько низкие требования, что достаточно было одной лишь вежливости.
Недолго думая, Фишер согласился. Лоре Генриховне он сообщил, что снова работает в банке, и выслал ей снимок, сделанный Ритой, которая еще не успела отнести в ломбард фотоаппарат: Фишер улыбался, как прилежный студент, на черном вельвете пиджака играло бледное солнце, а в синей вышине искрились многоцветьем витые купола Спаса-на-Крови.
Зависимость пожирала Риту заживо, осыпая её желтеющую кожу кавернами от инъекций, и Рита, изображая перед клиентами порочную декадентскую деву, скрывала признаки болезни под узорчатыми чулками и длинным пеньюаром. После фотоаппарата пришел черед деревянной шкатулки, где хранились золотые кольца и серьги с драгоценными камнями, оставшиеся после смерти Казаковых-старших.
Фишер деловито принимал деньги от женатых мужчин, заскучавших юзеров выходного дня и стеснительных студентов, неспособных кого-либо впечатлить, а Рите тактично советовал снизить дозировку. Фишер хотел оттянуть её смерть, чтобы как можно дольше не искать новую работу, однако в ноябре, после его двадцать первого дня рождения надобность в этом чуть не отпала.
Ничто не предвещало беды. Рита, которая из-за черного пеньюара, завитых волос и донельзя запудренного лица выглядела неестественно, как викторианский труп, встала возле двери на цыпочки, посмотрела в глазок и впустила клиента в квартиру. Дверь резко распахнулась, и сильный удар по лицу отбросил Фишера назад. Затылок взорвался болью, мир накрыло мутно-белым звоном, а вопль Риты затерялся в грохоте быстрых шагов. Фишер моргнул и похолодел. Он видел над собой лишь цветные кляксы и два гротескных силуэта, которые напоминали людей лишь отдаленно. Надеясь отыскать слетевшие очки, Фишер провел рукой по полу, однако нащупал только занозистый паркет. Дверь со скрипом закрылась, отрезав путь к отступлению.
Но для ударов по корпусу затуманенное зрение помехой не являлось. Фишер вскочил, выхватил из кармана щелкнувший лезвием нож и устремил его в живот темного силуэта, который находился ближе всего. Противник увернулся. Фишера схватили за запястье и заломили руку за спину, силой развернув его лицом в противоположную сторону. Вскрикнув от боли, Фишер выронил нож. Получив мощный удар в живот, он сдавленно выдохнул и обмяк. Когда его колени коснулись пола, Фишер понял, что его уже никто не держит, но его тут же ударили снова, разогнав последние связные мысли. Фишер отстраненно ощутил, как потекла по губам горячая кровь, и ничком рухнул к паре берцев.
Непонимающе водя расфокусированным взглядом, Фишер едва чувствовал, как затягивается на запястьях веревка, гадостно холодит щеку паркет, а в затылок смрадно дышит смерть, готовая опутать Фишера липким страхом и столкнуть его в небытие, сделав все прижизненные усилия тотально бессмысленными.
- Я не смогу вас опознать, у меня сильная близорукость… - из последних сил промямлил Фишер.
Чьи-то пальцы обыскали его карманы и забрали семь тысяч рублей, которые Рита заработала за сегодняшний день. К шее прижалось прохладное лезвие. Фишер решил молчать и на всякий случай не шевелиться.
- Неплохой нож. Только пользоваться им ты не умеешь. Опыта маловато, - раздался над Фишером простуженный мужской голос. - Как тебя зовут, пацан?
- Евгений.
- Ценные вещи в квартире есть, Евгений?
- Шкатулка с золотом. В спальне, под зеркалом…
Собственный голос казался Фишеру чужим, в носоглотке стоял металлический привкус крови. Вспоминались репортажи об убитых жертвах ограблений, казенные фотографии, на которых были запечатлены их связанные трупы, и беспристрастные комментарии Полянского. Грабитель убрал нож. Фишер сглотнул ком, подступивший к горлу. Клейкая, словно смола, тишина обволакивала тяжелые шаги зыбким эхом.
- Чего ты такая желтая? Чем ты болеешь? – прозвучал второй голос, уже не такой сиплый и немного гнусавый.
- Гепатитом, циститом, гонореей… - всхлипнула Рита.
«Возможно, не убьют…» - безучастно подумал Фишер, будто гибель грозила не ему.
- Если не хочешь, чтобы я перерезал тебе горло твоим же ножом, то сиди где скажут и помалкивай, - вновь раздался простуженный голос, и Фишера встряхнули, ухватив за шиворот пиджака, - мы скоро уйдем, и эта блядь тебя вытащит. Наверное. А нож я заберу, тебе от него никакого толку.
Фишер слепо закивал. Скрипнула створка шкафа, по лицу скользнул шершавый подол плаща, и в кровоточащий нос набился сухой запах апельсиновых корок. Упершись в стенку шкафа саднящим затылком, Фишер согнул ноги в коленях, чтобы поместиться полностью. Створки захлопнулись, оставив его в кромешной тьме.
Сглатывая кровавые сопли, Фишер изнывал от боли в скрюченном теле, головокружения и предчувствия тошноты. Время растянулось до предела и перестало существовать, превратившись в один бесконечный миг. Ощутив в гортани слабую дрожь, Фишер утомленно закрыл глаза, беззвучно заплакал и провалился в обморочную круговерть. Изредка сквозь неё пробивался плеск воды, шум кухонного чайника и звон посуды.
Придя в себя окончательно, Фишер осознал, что если Рита и жива, то помогать ему явно не собирается. Завалившись набок, он со стоном рухнул на затоптанный пол коридора. Онемевшее туловище пронзило болезненным спазмом. Голова кружилась, в горле стоял тошнотный ком, а яркий свет резал глаза.
- Да-а, Джей Пи, ну ты и скотина… - протянула где-то далеко Рита. Заслонив собой лампу, она наклонилась и стала развязывать ему руки.
Молча стерпев это замечание, Фишер растер затекшие запястья и схватился за протянутые очки. Мир вновь стал различимым. Рита, переодевшаяся в пижаму, стояла над Фишером, сложив руки на груди, и кривилась так, словно пересиливала желание вцепиться ему в горло. Её умытое лицо кривилось от неприкрытой злобы.
- И почему я только сегодня узнала, что ты такой эгоист? – издевательским тоном спросила она. – За меня вступиться было никак?
- Я растерялся, - наугад ляпнул Фишер. Он надеялся, что его заплаканное лицо вызовет у Риты хотя бы толику сочувствия, но она лишь смерила его мрачным взглядом.
- Пиздуй отсюда, пока я добрая.
- Мне нехорошо, - пробормотал он, заслоняясь от света ладонью, - у меня, кажется, сотряс…
- Умывайся и пиздуй отсюда, козел, - сжалилась Рита.
Делать было нечего. Кое-как встав на ноги, Фишер поковылял в санузел. Когда в сливе раковины исчезла розоватая вуаль крови, он насухо вытер лицо полотенцем и посмотрелся в зеркало. Бледно-красное пятно под левым глазом обещало превратиться в полноценный бланш, ястребиный нос припух, а на горле виднелся тонкий порез. Землисто-белое лицо и вспотевший лоб придавали Фишеру сходство с молодым Освальдом Кобблпотом в особенно печальные моменты его вымышленной жизни.
«Точно сотряс», - убедился Фишер и поплелся к шкафу, где висел его пуховик. Просунуть дрожащие руки в рукава удалось не сразу.
На выходе из парадной Фишера вырвало в лужу, где под тонким слоем льда догнивала опавшая листва. Вытерев подбородок, испачканный желчью, вязаной перчаткой, Фишер выбросил её в урну и машинально потянулся за сигаретами. Быть убитым собственным же оружием было бы несправедливо, глупо, обидно… Фишер делал торопливые затяжки, но не замечал этого. В промозглой тьме горели темно-желтым окна коммунальных квартир, и казалось, что в их засаленных комнатах бушует беззвучный пожар.
Рита позвонила через неделю, застав болеющего Фишера врасплох.
- С тобой, конечно, работать так себе, но без тебя вообще хреново, - сдержанно сообщила она.
Не выказывая злорадства, Фишер немного поломался, но в итоге согласился вернуться. Придя к молчаливому согласию, ограбление они больше никогда друг с другом не обсуждали.
Бездумно орудуя ножом, Фишер чистил картошку для гуляша и пытался отвлечься от изощренных желаний, которые не ослабли даже после обеденного визита Нели. Фишер позволил ей оставить у него на груди глубокий порез, который теперь саднил, однако успокоение не приходило. Перед мысленным взором кружился навязчивый калейдоскоп образов: пальцы на мужском горле, блеск заточенных лезвий и кровоточащие шматы сырой плоти. Фишер сдерживался. Некоторые фантазии не следовало выпускать наружу.
В юности он, конечно, поступил бы совсем иначе. В ту пору Фишер был безалаберным молодым человеком, которому недоставало хладнокровия и с избытком хватало гнева. Пребывая в подобном умонастроении, он отметил совершеннолетие и переехал из индустриального Павлозаводска прямиком в заснеженный Петербург, который встретил его величественной архитектурой, испещренной пятнами сырости, трубами водостока, в которых выл балтийский ветер, и газетными киосками, где без стеснения продавался журнал «Флирт».
Сняв в Купчино однушку, которая своими габаритами напоминала ячейку колумбария, Фишер устроился на работу в банк и нехотя смирился с должностью заурядного консультанта. Каждый будний день он просыпался в шесть утра, нехотя сползал с дивана и выходил курить на захламленный балкон, за окнами которого таял сумеречный рассвет. Атонально гудел клаксонами проспект Ленина, обретали трехмерность панельные дома, а окурки, которые Фишер выкидывал в окно, падали на гудронную крышу универсама «1000 мелочей».
Надев корпоративный галстук в черно-красную полоску, Фишер выходил из подъезда, исчезал в чреве метро и полчаса добирался до Лиговского проспекта. Крашеные стены исторических зданий пестрели яркими граффити, на фонарных столбах подрагивали розовые объявления, обещающие похоть, а Фишер консультировал клиентов банка и вымученно решал их проблемы. Календарь майя предвещал апокалипсис – один из множества, обреченных на забвение.
Выцветшие обои купчинской квартиры, запах старости и лекарств, впитавшийся в стены зала, и продавленный диван-раскладушка, на котором Фишер излишне чутко спал, лишь подчеркивали нелепость переезда. Приятелями Фишер тоже не обзавелся: выходные он проводил в рюмочных, а когда те закрывались, перемещался на ближайшее кладбище. Иногда он переходил сразу ко второму пункту и являлся на кладбище со своим алкоголем, который там же и распивал. Фишеру было восемнадцать лет, коллеги считали его странным, а перспектива стать успешным финансистом медленно растворялась в зыбких потемках будущего.
Весна принесла с собой тяжелые сны, после которых Фишер просыпался разбитым. Поддавшись смутной тревоге, которая взялась из ниоткуда и пустила в его разуме жирные корни, он совершил нетипичный для себя поступок: набил на левой руке татуировку, остановив выбор на монохромном изображении поварского ножа. Туман частично рассеялся, однако свой сужающийся круг не разомкнул.
Наперекосяк всё пошло в одну из июньских суббот. Суматошно очнувшись от полуденной дремы, Фишер увидел за окном алое пятно на сером холсте – вечернее солнце, сползающее за панельные дома. В спину впивалась диванная пружина, которая объясняла сюжет сна: связанный Фишер лежал в потрескавшейся ванне, старый каннибал с синевой в лице перебирал кухонные ножи, а ванную павлозаводского дома, где до сих пор жила Лора Генриховна, покрывал перестроечный налет безысходности. Фишер перекатился на бок, потер руками заспанное лицо и надел очки. Его снедало желание как можно скорее оказаться на свежем воздухе.
Один из последних поездов метро довез Фишера до Васильевского острова. Ночной проспект поджидал за массивными дверями станции, словно неповоротливый зверь: моргали желтушные огни фар, тлели неоновые вывески, висели в полумраке колючие искры фонарей. Не соблазнившись пестрой иллюминацией, Фишер свернул на близлежащую улицу, где шуршали темно-зеленые кроны. Он брел сквозь полумрак и размышлял о сновидении, которое заставило его покинуть квартиру. Оно не было кошмаром. Воспоминание о нем приятно щекотало нервы.
Улицы сужались, плавно переходя в подворотни, редкий свет окон шел на убыль, а темнота сгущалась, как застывающая кровь. Фишер слышал лишь шарканье собственных ботинок, ощущал лишь стылые прикосновения ветра, который пробирался под вельветовый пиджак. Телесность ускользала от Фишера, будто с каждым шагом он всё сильнее растворялся во мгле. В унисон с ним дышал кто-то еще, и от этого нездорового дыхания сердце Фишера наполнялось беспредметной злобой, которую не представлялось возможным удержать внутри.
- Да хватит меня лапать! Пошел на хуй! – раздался где-то впереди негодующий женский крик.
Фишер остановился и, насколько позволяло зрение, всмотрелся во тьму. Из небольшого дворика, который примыкал к подворотне и смотрел на нее глухой стеной, доносился шум потасовки. В бледном конусе фонаря мелькнули две человеческие фигуры. Вновь раздался женский крик, но на этот раз без слов и уже с нотками паники.
Восстановить ход событий, которые за этим последовали, удалось далеко не сразу. Фишер побежал на звук. Мелькнуло перед глазами пористое лицо с колтуном бороды, послышался костный хруст, эхом повис в воздухе пьяный вопль. Ярость жгуче вспыхнула электрической искрой, и Фишер увяз в лабиринте из сквозных дворов, коричнево-желтых стен и гулких лестничных клеток. Время исказилось, нарушив свой ход.
Когда аффект ослаб, Фишер обнаружил себя в хорошо обставленной, но несколько грязной кухне. За пыльным окном недвижимо спал двор-колодец, полный вязких теней и латунно-желтых световых клякс, перед открытой форточкой колыхалась ситцевая занавеска, а в метре от Фишера сидела за столом девушка. На её округлом лице жирно блестел нос картошкой, покачивался при каждом движении неряшливый пучок, собранный из темных волос, а полосатая пижама была усыпана катышками. Поблескивая серыми глазами, девушка ела вареные брокколи и беззвучно что-то произносила. Опустив взгляд, Фишер увидел перед собой чашку кофе и понял, что тоже сидит за кухонным столом.
- …ты ему, конечно, руку сломал, но вряд ли он к ментам пойдет. Он же бомж, кто его станет слушать? – сказал девушка, облизав вилку. - Да и вряд ли он нас запомнил. Он был пьяный, как скотина.
«Рита. Её зовут Рита. Я у неё в гостях», - с трудом припомнил Фишер. Он понемногу приходил в себя и надеялся, что это не слишком бросается в глаза. Тело ломило, будто он несколько часов подряд колол дрова.
- Что с тобой? Что-то болит? – спросила Рита.
Фишер облегченно выдохнул. То ли он, оставшись под управлением автопилота, вел себя относительно адекватно, то ли Рита плохо разбиралась в людях и почему-то сочла его достойным доверия.
- Висок кольнуло. Ничего страшного, у меня это с детства, - солгал он.
Память возвращалась, и теперь Фишер знал, что неподалеку бродит пьяный бомж со сломанной рукой, который выбрал сегодня неправильный маршрут. Похожий сюжет имел место в «Заводном апельсине», который Фишер время от времени пересматривал. Особенно его впечатляла сцена, в которой Алекса ДеЛарджа, закованного в наручники и неспособного оказать сопротивление, притапливали в корыте бывшие друзья. Когда Фишер узнал, что задыхался актер по-настоящему, эта сцена полюбилась ему еще сильнее: документальные съемки такого характера эстетичностью не отличались, найти что-нибудь стоящее было проблемой, а до обнародования киноархива Сливко, который знал толк в постановке кадра, еще нужно было дожить.
- Скоро придут мои друзья. Хочешь посидеть с нами? – предложила вдруг Рита, широко улыбнувшись.
- Если только они не будут возражать, - ответил Фишер вежливой формулой.
Рите Казаковой, коренной петербурженке и круглой сироте, было чуть за двадцать, однако она нигде не училась, занимаясь вместо этого фотографией и прячась от мира в романах Алексея Толстого. Проживала она в двухкомнатной квартире, которая своим убранством наводила на мысли о купеческих мавзолеях. В длинном, как кишка, коридоре, висело тяжелое зеркало в бронзовой раме, а справа от него располагался монументальный платяной шкаф, пахнущий апельсиновыми корками. Прокуренный зал некогда выглядел роскошно, но теперь лишь ветшал: зеленый ковер выгорел, красная скатерть на круглом столе поблекла, а свет хрустальной люстры зыбко оседал в воздухе, не добираясь до темных углов. Санузел линял, как рептилия, сбрасывая осколки потрескавшегося кафеля и струпья синей краски. В квартире явно не хватало хозяйской руки.
Но Фишера это не смутило, и впервые за полгода он провел выходные в компании живых людей, а не обомшелых надгробий. Меланхолично пела Лана Дель Рей, под поблескивающим цветком люстры вился дым сигарет, а в хрустальной пепельнице дотлевали окурки. Жора, гоповатый и широкоплечий парень в спортивном костюме, играл в покер весьма топорно. Щеголеватый Роман, чья костлявость наводила на мысли о нездоровье, путался в комбинациях, безостановочно курил, щелкая золотистой зажигалкой, и нервно поправлял воротник рубашки. Его темные глаза сверкали, словно от сока белладонны, а челюсть мелко подрагивала. Не удержавшись от соблазна, Фишер обыграл обоих: и Жору, уроженца Стерлитамака, который учился в техникуме, и Романа, интеллигентного студента-филолога. По какой-то причине они восприняли это с одобрением. Фишер не удивился: к тому моменту он уже умел пользоваться своей харизмой.
Человека, который лишь прикидывался порядочным, новые знакомые разглядели в Фишере уже через несколько встреч, однако отреагировали на это нетривиально. Рита больше не утаивала своей любви к рецептурному коделаку, который погружал её в дремотную прострацию, Роман без стеснения жаловался на драгдилеров, которым был должен, а Жора спокойно вел по мобильному деловые разговоры. Оба были сутенерами, однако Жора добился в этом деле больших успехов, чем Роман. В отличие от последнего, который часто переезжал, а в периоды крайнего безденежья жил за счет Риты, и впрямь не разбирающейся в людях, Жора снимал дом в Девяткино, водил серый «ниссан» и употреблял только спиртное.
Впрочем, Фишера тоже ничего не смутило. Он спокойно отнесся и к образу жизни новоявленных друзей, и к прозвищу, которым его наградил Жора, исказив его инициалы на американский манер. Напор внутренней агрессии ослаб и теперь мучил Фишера лишь изредка, однако работа стала вгонять его в такую тоску, что в сентябре он взял отпуск и отправился с бутылкой кагора к Рите, надеясь застать её дома.
Дома Рита была, однако блаженно дремала в спальне. Фишер решил не ломать ей кайф и обосновался в зале. Развалившись на стуле, он курил и безучастно слушал, как спорят Жора и Роман. Стриженый под машинку Жора сидел на диване и молча выслушивал Романа, который суетливо бродил по комнате, умоляя подвезти его на Сенную площадь. Жора буравил его взглядом и хмурил брови, которые и без того нависали над немигающими глазами. Было очевидно, что ехать он никуда не собирается, однако Роман не унимался.
- Никуда я тебя не повезу. Это исключительно твои проблемы, и решить ты их можешь, вернув всем долги, пока тебе не проломили башку, - веско возразил Жора.
Разговаривал он интеллектуальнее, чем выглядел. Из-за мускулатуры, которую не скрадывал даже мешковатый спортивный костюм, и крупной головы, сидящей на бычьей шее, Жора смахивал то ли на боксера, то ли на мясника.
- Да пойми ты, я не собираюсь устраивать мордобой. Мне всего лишь нужно, чтобы они увидели, что я не один. Они ничего не сделают, если со мной будет кто-то еще. Особенно ты.
Фишер рассеянно ткнул окурком в пепельницу. Из головы не шел вчерашний садоэротический сон: жаркий полдень плавил окна панельного дома, Фишер лежал с пробитой головой около подъезда, заливая кровью пыльный асфальт, а порноактриса, чей французский псевдоним переводился как «Черное Удушье», болезненно целовала его в пересохший рот. Этот гротескный сценарий, насквозь пропитанный либидозным влечением, отдаленно напоминал детские мечты Фишера о медленной смерти.
- Почему каждый раз, когда я прошу помощи?..
- Помощи в чем? – вмешался Фишер. Он не понимал, о чем идет речь.
Повернувшись на его голос, Роман с облегчением вздохнул:
- Ничего серьезного, дело на полчаса. Я хочу съездить к Лавровским, на Сенную, но одному мне туда ехать нежелательно.
- Не ввязывайся в это, Джей Пи, он косячник, - сказал Жора, презрительно изогнув мясистый рот, - пусть сам разгребает свое говно.
- Я не косячник. Просто сложились такие обстоятельства, что…
- А других обстоятельств у тебя никогда не складывается.
- Я съезжу с тобой. Собирайся, - лаконично произнес Фишер.
Не потрудившись даже поблагодарить его, Роман метнулся к платяному шкафу и принялся торопливо натягивать короткое пальто, которое вкупе с острыми лакированными ботинками придавало ему вид мелкого афериста.
Вопреки своему финансовому положению, Роман вызвал такси и оплатил поездку в обе стороны. Всю дорогу он рассказывал Фишеру о Лавровских, братьях-погодках, которые торговали стимуляторами и жили в одном из переулков близ Сенной площади. Фишер не слушал. Прислонившись виском к стеклу, он вглядывался в вечернюю синь, которая пестрела неоновыми созвездиями. За каменным парапетом набережной колыхались свинцовые волны Невы, а на другом берегу возвышался Исаакиевский собор, окруженный хрупким ореолом золотистого свечения. Фонари блестели в гуще мрака, словно глаза блокадных людоедов. Фишер нутром чувствовал, как нарастает тихий, всепоглощающий гул, слышимый лишь ему одному, и не понимал, зачем он вообще вызвался помочь Роману.
Дом, в котором проживали Лавровские, до революции был доходным, а ныне, пережив советский период и первые годы демократии, производил удручающее впечатление. В плохо освещенной парадной пахло скисшим борщом, бледно-зеленые стены шелушились, а лестница с коваными перилами угловатой спиралью уходила в темноту. Остановившись на третьем этаже, Роман принялся звонить в одну из квартир. За железной дверью послышались шаги, лязгнул замок, и над цепочкой возникло отечное лицо, увенчанное кучерявой шевелюрой. Роман заискивающе улыбнулся.
- Ты кого с собой притащил? – грубо спросил кудрявый мужчина, одетый в банный халат.
Улыбка Романа стала такой кислой, что он приобрел совсем уж несчастный вид:
- Это мой друг. Миша, не сердись, я встретил его возле…
Тот повел ладонью, и Роман оборвал речь на полуслове. Фишер вскинул бровь: он еще ни разу не видел, чтобы Роман до такой степени перед кем-то лебезил.
- Ладно, пусть тоже заходит, - буркнул Миша, говоря о Фишере в третьем лице, - Саня в Краснодар уехал, без него можно.
Стоило двери открыться полностью, как Роман очутился в квартире, сбросил начищенные ботинки на полосатый дверной коврик и скрылся в зале, который носил на себе отпечаток ушедшего века. Вполсилы горела каскадная люстра, со стен свисали клочья полосатых обоев, а в темном углу блестело лаком советское пианино.
Фишер вошел следом и нерешительно замер возле мутного зеркала, которое висело над грудой обуви. Звонко щелкнул замок запираемой двери.
- А ты подождешь здесь, - безапелляционно заявил Миша, повернувшись к Фишеру, - тебя наши дела не касаются. Ясно?
Фишер потупился и молча закивал. Миша повел челюстью, прошел в зал и исчез за рамкой дверного проема. Началась тихая беседа, слова которой нельзя было разобрать. Фишер решил не разуваться. Он посмотрелся в зеркало, тронутое патиной, но увидел лишь темноту, в которой едва просматривалась закрытая дверь ванной – предназначение комнаты объясняла табличка с черным силуэтом девочки под душем. В очках Фишера отражались грязно-желтые блики люстры. Он вскинул подбородок и невольно залюбовался собой. Рефлексы перемещались по линзам, словно отблески далекого костра.
- Значит, долги ты выплачивать не хочешь, а нюхать хочешь, - неожиданно громко произнес Миша, - может, тебе лучше в больнице полежать, Рома? Месяца три? Чтобы мозги на место встали?
Скрипнули дверные петли, темнота в зеркале зашевелилась, и Фишера обдало запахом сырости. Из ванной выскользнул небритый мужчина, весьма похожий на хозяина квартиры.
- Саня, придержи этого задрота, чтобы не мешал, - приказал из зала Миша. С грохотом что-то упало, раздался протяжный вой Романа.
Едва Фишер успел осознать смысл происходящего, как его мысли слиплись в несвязный ком, гул в голове стал нестерпимо давящим, а рассудок уступил место холодному гневу. Не ощущая собственных рук, Фишер ударил нападавшего сначала в солнечное сплетение, а затем в челюсть. Тот вскрикнул, качнулся и повалился навзничь. Фишер рванулся к двери. Он надеялся, что успеет открыть замок.
К счастью, удача была на его стороне. Толкнув дверь плечом, Фишер вывалился в темную парадную и побежал вниз по спиральной лестнице. За ним с топотом кто-то гнался. Не желая встречаться ни с Мишей, ни с его пострадавшим братом, Фишер прибавил скорость. Нужно было всего лишь добраться до такси.
- Да погоди ты, это я! – донесся сверху нервно-веселый голос Романа, эхом отразившийся от облупленных стен.
Роман был настолько взбудоражен, что оказался возле такси первым. Повалившись вслед за ним на заднее сиденье, Фишер заметил, как Роман нервно покосился на арку, за которой жили Лавровские, и лихорадочным движением спрятал что-то в карман пальто. Желтое авто тронулось с места, и изысканно-ветхий пейзаж, затянутый сетью проводов, пополз назад. Фишер оглянулся. На улице не было ни души. Ночь была на удивление спокойной и элегической. Фишер ощутил, как ноет правое запястье, предвещая несколько дней боли, и поморщился: если бы он носил с собой нож, этого можно было избежать.
- А ты сильнее, чем кажешься, - сказал Роман, переводя дыхание, - внешне ты…
- Он жив? – прагматично поинтересовался Фишер.
- Жив, куда он денется. Просто немного… обескуражен.
Остаток вечера прошел в ожидании недоброго. Рита сонно раздавала карты, Жора проигрывал и сдержанно злился, а Роман то и дело бегал в ванную, откуда возвращался с блестящими глазами и маниакальной улыбкой. Фишеру казалось, что вот-вот раздастся звонок в дверь и продолжится фантасмагория, начавшаяся на задворках Сенной площади, однако этого не произошло.
Зима вытянула из Фишера последние крохи организованности. Работал он, пересиливая желание сбежать в ближайшую рюмочную, а выходные проводил у Риты, которая за прошедший год весьма переменилась. Нужда в кодеине придала её осунувшемуся лицу кратковременный опиатный шарм и требовала теперь бо́льших затрат. Не доверяя ни Жоре, ни Роману, рискуя быть ограбленной и убитой, Рита стала принимать в собственной квартире скучающих мужчин. Свое настоящее имя она от них скрывала, называясь Аэлитой, и некоторым её клиентам, родившимся в интеллигентных семьях, этот псевдоним даже был знаком.
Впервые за долгое время Фишер нашел её поведение разумным. Роман едва справлялся с Элен, хамоватой женщиной, которая выглядела старше своих лет, курила сигареты без фильтра и по паспорту была Людмилой, а к Жоре обращались лишь мужчины с весьма специфическими запросами, от которых отказывались даже плечевые. Сотрудничество с Романом было бессмысленным, сотрудничество с Жорой – травмоопасным. Положиться Рите оказалось не на кого, и она предпочла работать в одиночку.
В марте Фишера уволили за нарушение дисциплины, но его это даже обрадовало. Чтобы как-то отметить увольнение, он поехал на Апраксин двор и после часа блужданий по лабиринту рынка купил себе в подарок складной нож с узким клинком и перламутрово-черной рукоятью, за который узбек, плохо понимающий по-русски, попросил пятьсот рублей. На Васильевский остров Фишер прибыл с блаженным выражением лица.
Жора встретил новость об увольнении Фишера с таким спокойствием, будто только этого и ожидал. Роман кинул на Фишера оценивающий взгляд, но ничего не сказал.
- Давно бы так. Тебя всё равно на треть зарплаты штрафовали, - подытожила Рита, тасуя карты. На её заострившемся подбородке заживал разодранный прыщ.
Когда Рита начала клевать носом, Роман отнес её на руках в спальню, положил на кровать и заботливо укрыл одеялом. Засыпающая Рита была беззащитной и хрупкой, как птица с вывихнутым крылом. Жора посмотрел на часы, сдержанно попрощался и ушел. Роман вальяжно плюхнулся на диван и щелкнул золотистой зажигалкой. Выдохнув в потолок облако дыма, он заинтересованно осмотрел Фишера, который сидел в кресле, с головы до ног и загадочным тоном спросил:
- Работа нужна?
- Смотря какая, - деловито уточнил Фишер.
- Несложная. Охранять меня и Люду.
- Ты предлагаешь это мне, потому что не согласились остальные?
- Если вкратце, то да. Все считают, что я ненадежный человек, - признался Роман. Видимо, он решил, что честность будет лучшей политикой.
- Сколько собираешься платить? - спросил Фишер.
- Треть с каждого клиента. А если конкретнее, то около семидесяти косарей в месяц.
Фишер неопределенно хмыкнул. Для нелегальной деятельности цифра выходила скромная.
- Эксцессов возникнуть не должно. Если ты будешь маячить перед клиентами с монтировкой в руках и мрачной рожей, это уже отсеет больший процент неадекватов. Ты и сам на маньячину похож, когда нердом не прикидываешься.
- Это, конечно, очень хорошо. Но смогу ли я их бить? – поинтересовался Фишер, отогнав от себя мысль о меньшем проценте.
- В пределах разумного. Чтобы заяв не было, сам понимаешь, - ощерился Роман.
Взглянув на него из-под очков, Фишер полушутя произнес:
- Я согласен, но при одном условии. Если ты не будешь платить мне вовремя, я испытаю на тебе мой любимый удушающий прием. У меня сильные руки, и лучше тебе не узнавать, до какой степени мне нравится душить людей.
Роман сник и поклялся платить вовремя. Фишер не поверил, но решил дать ему шанс.
Бордель Романа располагался на Выборгском шоссе, в мыльно-бежевом панельном доме с неряшливыми рядами балконов. Клиенту-бюджетнику, который желал встретиться с Элен, открывал Фишер, вооруженный монтировкой – неприветливый и угрюмый, как балабановский антагонист. Пустой коридор, освещенный голой лампочкой, вызывал у клиента желание как можно скорее покинуть этот клоповник, однако из спальни выходила Элен, и гулящий супруг, очарованный её рыжими локонами и перламутровым платьем, отдавал Роману заготовленные деньги.
Пропуская мимо ушей хриплые стоны, напоминающие дыхание астматика, Фишер перекусывал на кухне, где кисла в раковине жирная посуда, или курил в форточку, пока его не отвлекала говорливая Людмила. В свободные минуты он дремал на разложенном диване, созерцая туманные обрывки сновидений, и временами ему мерещились жестокие грёзы, от которых становилось тепло на душе.
Женатые мужчины проявляли агрессию крайне редко, однако студентов, наркоманов и гастарбайтеров, возомнивших себя хозяевами жизни, приходилось выпроваживать. Иногда происходило то, ради чего Фишер согласился на предложение Романа: несогласный клиент получал монтировкой по мясу, после чего ретировался. Тех, кто не понимал даже такие намеки, Фишер слегка придушивал локтем и выставлял за порог, а в особо тяжелых случаях доставал нож. До кровопролития, как правило, дело не доходило.
Лора Генриховна считала, что Фишер, которого уволили из банка, временно работает охранником на складе. Вряд ли она могла представить, что её любимец Енюша отметил двадцатилетие, встретил Новый год и провел майские выходные в Финляндии, будучи помощником сутенера. Он и дальше лгал бы ей про склад, вот только ранним летом Роман исчез: на звонки он не отвечал, у Элен не появлялся, а дома отсутствовал.
Через неделю разлагающийся труп Романа обнаружили в мусорном баке возле Финбана. У трупа были сломаны ноги и перерезано горло.
Жора, узнав о трагической гибели приятеля, помрачнел, но всё же отметил, что Роман уже давно рыл себе яму. Рита впала в психическое оцепенение и долго рыдала в объятиях Фишера, сбитого с толку таким проявлением доверия. Однако на его решение эта истерика не повлияла: чтобы не попасть под горячую руку неизвестных убийц, Фишер, который при жизни Романа был его постоянным подельником, залег на дно в Сестрорецке.
За смертью Романа последовали серьезные перемены, и Фишер, вернувшийся из пригорода в августе, долго ничего не понимал. Рита не пускала Жору к себе домой, кололась героином и весила меньше пятидесяти килограммов, а из её квартиры, которая теперь еще больше походила на усыпальницу, исчезли телевизор и микроволновка. Жора в свою очередь тоже избегал Риты, испытывая к ней необъяснимое отвращение, а вот Фишера теперь оценивал высоко. Видимо, Жора наконец разглядел в нем отвагу, которую считал главным мужским качеством.
Фишер тем временем искал легальную работу, но увольнение по статье и годичный перерыв в трудовом стаже закрывали ему доступ к вакансиям с достойной зарплатой. Бессмысленная череда собеседований, после которых Фишеру обещали перезвонить, тянулась до октября, пока Рита не предложила ему встретиться и обсудить, как она расплывчато выразилась в вайбере, «деловой вопрос».
В прокуренном зале слабо пахло уксусом, а жестяную банку из-под кофе переполняли окурки. Костистое лицо Риты было желтовато-серым, как суглинок, и слабый свет люстры лишь подчеркивал её щуплость. Тому, что предложение Риты ничем не отличалось от просьбы покойного Романа, Фишер не удивился. Этого следовало ожидать.
- Почему ты предлагаешь это именно мне? Почему, например, не Жоре? – поинтересовался он, откинувшись на спинку стула.
- Жора неадекватный. Совсем неадекватный. Лучше бы ты тоже держался от него подальше, - таинственно сказала Рита.
Фишер хмыкнул и стряхнул пепел в кофейную банку.
- У него встает только на ампуташек, прикинь? Я ему доверюсь, а он что сделает? Ногу мне отрубит, пока я сплю? Нет уж, спасибо. Я ищу сутенера, на которого можно положиться. Иначе вся эта затея теряет смысл.
Фишер глубоко затянулся. Он знал, что Жора, выпив лишнего, становится конфликтным ксенофобом, знал, что его дядя, профессиональный коллектор, недавно угодил в колонию строгого режима, получив семь лет за убийство, однако про тягу к калекам слышал впервые. Об этом Жора не проговаривался, даже будучи пьяным, и Фишер его прекрасно понимал: к сексуальным девиациям люди относились с настороженностью, а их обладателей считали как минимум странными.
- Он находит на трассе инвалидок и везет к себе. Платит им копейки, а они на всё соглашаются, хотя за такое должны требовать доплату! – сорвалась на крик Рита, нехорошо сверкнув глазами.
Фишер решил не уточнять, что именно из допуслуг так нравится Жоре и откуда Рите это известно. Кажется, пока он отсиживался в Сестрорецке, произошло нечто из ряда вон выходящее.
- Сколько ты будешь мне платить? – спросил он. Его денежная подушка истощалась. Не желая волновать Лору Генриховну, он питался продуктами «Красная цена» и курил «Приму» вместо «Marlboro». На квартплату за ноябрь денег уже не оставалось.
- Половину. В день у меня выходит тысяч пять-десять. Как пойдет.
Фишер подсчитал потенциальную выгоду. Схема, рассчитанная только на двух человек, была явно выгоднее предыдущей и уж точно выгоднее многочисленных вакансий грузчиков.
- Я доверяю тебе, потому что ты мой самый близкий друг. Ты ко мне даже подкатывать не пытался, а это уже кое-что значит, - серьезно произнесла Рита, глядя ему в глаза.
Фишер скромно приподнял уголки губ. Он не сближался с Ритой лишь потому, что она вряд ли разделила бы его любовь к мазохизму, однако результат превзошел все ожидания. Обычно, чтобы сойти за хорошего парня, нужно было что-то предпринимать, но Рита предъявляла к мужчинам настолько низкие требования, что достаточно было одной лишь вежливости.
Недолго думая, Фишер согласился. Лоре Генриховне он сообщил, что снова работает в банке, и выслал ей снимок, сделанный Ритой, которая еще не успела отнести в ломбард фотоаппарат: Фишер улыбался, как прилежный студент, на черном вельвете пиджака играло бледное солнце, а в синей вышине искрились многоцветьем витые купола Спаса-на-Крови.
Зависимость пожирала Риту заживо, осыпая её желтеющую кожу кавернами от инъекций, и Рита, изображая перед клиентами порочную декадентскую деву, скрывала признаки болезни под узорчатыми чулками и длинным пеньюаром. После фотоаппарата пришел черед деревянной шкатулки, где хранились золотые кольца и серьги с драгоценными камнями, оставшиеся после смерти Казаковых-старших.
Фишер деловито принимал деньги от женатых мужчин, заскучавших юзеров выходного дня и стеснительных студентов, неспособных кого-либо впечатлить, а Рите тактично советовал снизить дозировку. Фишер хотел оттянуть её смерть, чтобы как можно дольше не искать новую работу, однако в ноябре, после его двадцать первого дня рождения надобность в этом чуть не отпала.
Ничто не предвещало беды. Рита, которая из-за черного пеньюара, завитых волос и донельзя запудренного лица выглядела неестественно, как викторианский труп, встала возле двери на цыпочки, посмотрела в глазок и впустила клиента в квартиру. Дверь резко распахнулась, и сильный удар по лицу отбросил Фишера назад. Затылок взорвался болью, мир накрыло мутно-белым звоном, а вопль Риты затерялся в грохоте быстрых шагов. Фишер моргнул и похолодел. Он видел над собой лишь цветные кляксы и два гротескных силуэта, которые напоминали людей лишь отдаленно. Надеясь отыскать слетевшие очки, Фишер провел рукой по полу, однако нащупал только занозистый паркет. Дверь со скрипом закрылась, отрезав путь к отступлению.
Но для ударов по корпусу затуманенное зрение помехой не являлось. Фишер вскочил, выхватил из кармана щелкнувший лезвием нож и устремил его в живот темного силуэта, который находился ближе всего. Противник увернулся. Фишера схватили за запястье и заломили руку за спину, силой развернув его лицом в противоположную сторону. Вскрикнув от боли, Фишер выронил нож. Получив мощный удар в живот, он сдавленно выдохнул и обмяк. Когда его колени коснулись пола, Фишер понял, что его уже никто не держит, но его тут же ударили снова, разогнав последние связные мысли. Фишер отстраненно ощутил, как потекла по губам горячая кровь, и ничком рухнул к паре берцев.
Непонимающе водя расфокусированным взглядом, Фишер едва чувствовал, как затягивается на запястьях веревка, гадостно холодит щеку паркет, а в затылок смрадно дышит смерть, готовая опутать Фишера липким страхом и столкнуть его в небытие, сделав все прижизненные усилия тотально бессмысленными.
- Я не смогу вас опознать, у меня сильная близорукость… - из последних сил промямлил Фишер.
Чьи-то пальцы обыскали его карманы и забрали семь тысяч рублей, которые Рита заработала за сегодняшний день. К шее прижалось прохладное лезвие. Фишер решил молчать и на всякий случай не шевелиться.
- Неплохой нож. Только пользоваться им ты не умеешь. Опыта маловато, - раздался над Фишером простуженный мужской голос. - Как тебя зовут, пацан?
- Евгений.
- Ценные вещи в квартире есть, Евгений?
- Шкатулка с золотом. В спальне, под зеркалом…
Собственный голос казался Фишеру чужим, в носоглотке стоял металлический привкус крови. Вспоминались репортажи об убитых жертвах ограблений, казенные фотографии, на которых были запечатлены их связанные трупы, и беспристрастные комментарии Полянского. Грабитель убрал нож. Фишер сглотнул ком, подступивший к горлу. Клейкая, словно смола, тишина обволакивала тяжелые шаги зыбким эхом.
- Чего ты такая желтая? Чем ты болеешь? – прозвучал второй голос, уже не такой сиплый и немного гнусавый.
- Гепатитом, циститом, гонореей… - всхлипнула Рита.
«Возможно, не убьют…» - безучастно подумал Фишер, будто гибель грозила не ему.
- Если не хочешь, чтобы я перерезал тебе горло твоим же ножом, то сиди где скажут и помалкивай, - вновь раздался простуженный голос, и Фишера встряхнули, ухватив за шиворот пиджака, - мы скоро уйдем, и эта блядь тебя вытащит. Наверное. А нож я заберу, тебе от него никакого толку.
Фишер слепо закивал. Скрипнула створка шкафа, по лицу скользнул шершавый подол плаща, и в кровоточащий нос набился сухой запах апельсиновых корок. Упершись в стенку шкафа саднящим затылком, Фишер согнул ноги в коленях, чтобы поместиться полностью. Створки захлопнулись, оставив его в кромешной тьме.
Сглатывая кровавые сопли, Фишер изнывал от боли в скрюченном теле, головокружения и предчувствия тошноты. Время растянулось до предела и перестало существовать, превратившись в один бесконечный миг. Ощутив в гортани слабую дрожь, Фишер утомленно закрыл глаза, беззвучно заплакал и провалился в обморочную круговерть. Изредка сквозь неё пробивался плеск воды, шум кухонного чайника и звон посуды.
Придя в себя окончательно, Фишер осознал, что если Рита и жива, то помогать ему явно не собирается. Завалившись набок, он со стоном рухнул на затоптанный пол коридора. Онемевшее туловище пронзило болезненным спазмом. Голова кружилась, в горле стоял тошнотный ком, а яркий свет резал глаза.
- Да-а, Джей Пи, ну ты и скотина… - протянула где-то далеко Рита. Заслонив собой лампу, она наклонилась и стала развязывать ему руки.
Молча стерпев это замечание, Фишер растер затекшие запястья и схватился за протянутые очки. Мир вновь стал различимым. Рита, переодевшаяся в пижаму, стояла над Фишером, сложив руки на груди, и кривилась так, словно пересиливала желание вцепиться ему в горло. Её умытое лицо кривилось от неприкрытой злобы.
- И почему я только сегодня узнала, что ты такой эгоист? – издевательским тоном спросила она. – За меня вступиться было никак?
- Я растерялся, - наугад ляпнул Фишер. Он надеялся, что его заплаканное лицо вызовет у Риты хотя бы толику сочувствия, но она лишь смерила его мрачным взглядом.
- Пиздуй отсюда, пока я добрая.
- Мне нехорошо, - пробормотал он, заслоняясь от света ладонью, - у меня, кажется, сотряс…
- Умывайся и пиздуй отсюда, козел, - сжалилась Рита.
Делать было нечего. Кое-как встав на ноги, Фишер поковылял в санузел. Когда в сливе раковины исчезла розоватая вуаль крови, он насухо вытер лицо полотенцем и посмотрелся в зеркало. Бледно-красное пятно под левым глазом обещало превратиться в полноценный бланш, ястребиный нос припух, а на горле виднелся тонкий порез. Землисто-белое лицо и вспотевший лоб придавали Фишеру сходство с молодым Освальдом Кобблпотом в особенно печальные моменты его вымышленной жизни.
«Точно сотряс», - убедился Фишер и поплелся к шкафу, где висел его пуховик. Просунуть дрожащие руки в рукава удалось не сразу.
На выходе из парадной Фишера вырвало в лужу, где под тонким слоем льда догнивала опавшая листва. Вытерев подбородок, испачканный желчью, вязаной перчаткой, Фишер выбросил её в урну и машинально потянулся за сигаретами. Быть убитым собственным же оружием было бы несправедливо, глупо, обидно… Фишер делал торопливые затяжки, но не замечал этого. В промозглой тьме горели темно-желтым окна коммунальных квартир, и казалось, что в их засаленных комнатах бушует беззвучный пожар.
Рита позвонила через неделю, застав болеющего Фишера врасплох.
- С тобой, конечно, работать так себе, но без тебя вообще хреново, - сдержанно сообщила она.
Не выказывая злорадства, Фишер немного поломался, но в итоге согласился вернуться. Придя к молчаливому согласию, ограбление они больше никогда друг с другом не обсуждали.
Рита сильно сдала, но трудилась с прежним постоянством, а Фишер с таким же постоянством забирал половину её дохода. Клиентов с совсем уж жуткими фантазиями, от которых Рита отказывалась, даже находясь в столь плачевном положении, Фишер направлял к Жоре. Сутенерство наконец стало приносить плоды, и весной Фишер приобрел первый в его жизни автомобиль – подержанную «ладу» темно-синего цвета. Рита отощала до сорока килограммов и утратила желание жить. На нотации Фишера она теперь реагировала совсем иначе.
- Думаешь, до меня не доходит, зачем ты это каждый день талдычишь?! – кричала она, впадая в бессильную ярость. – Тебе нужны деньги, чтобы кататься в Финляндию! Тебе меня не жалко! Тебе никого не жалко! Лицемерная гнида!
Внешний мир тоже не вызывал восторга. Общество радикализировалось и теперь вовсю обсуждало украинский майдан. После аннексии Крыма всеобщей истерии поддался даже Жора: он придерживался мнения, что Крым все-таки российский, и пытался внушить это Фишеру, а когда тот уклонялся от диалога, называл его пропащим человеком. Если же опьянение достигало наивысшей точки, то в Жоре просыпался русский националист.
- В тебе нет патриотического чувства, но это неудивительно, - говорил он, - твои предки проживали везде и для всех были чужими. Если бы ты был русским, ты бы меня понял.
- Херню ты несешь, Горняк, - хмуро отвечал в таких случаях Фишер. Он не желал оправдываться перед Жорой, унизительно пересказывая свое сумбурное генеалогическое древо.
Майский день, который стал началом последнего акта, выдался на удивление погожим. Приехав к Рите без предупреждения, Фишер обнаружил её в спальне. Желтые обои в цветочек, трюмо с фарфоровыми собачками и кровать, застеленная пестрым покрывалом, казались нелепыми декорациями для состоявшейся смерти. Сбоку от кровати, уткнувшись лбом в ножку туалетного столика, валялся по-бухенвальдски тощий труп Риты. В солнечных лучах переливался черный шелк длинного платья, а возле неестественно вывернутой голени с гниющим колодцем лежал пустой шприц. Фишер осторожно подошел к трупу. Под темной паутиной волос просматривался фиолетово-синий ком – некогда округлое, затем костлявое, а теперь деформированное лицо Риты. На туалетном столике лежала открытка с изображением белых хризантем и лаконичным посланием:
«Георгий Горняк – сволочь и насильник, Евгений Фишер – сутенер и психопат. Остальные просто дебилы. До встречи».
Фишер спрятал открытку, которая его компрометировала, в карман пиджака и покинул квартиру незамеченным. На похоронах Риты, смерть которой сочли банальной передозировкой, он не присутствовал.
И все-таки сбежать от опасности ему не удалось. По иронии судьбы, зарезать Фишера пытался именно Жора. Выздоравливая после удачной операции, Фишер переваривал осознание того, что все приятели, которых он обрел в Петербурге, погибли один за другим: Романа убили за долги, Рита свела счеты с жизнью, а Жора превзошел их всех, приняв смерть непосредственно от руки Фишера. Очередная попытка начать жизнь с чистого листа закончилась поножовщиной и уголовным делом.
Из колонии в Павлозаводск вернулся уже не импульсивный юноша, а скупой на слова мужчина, не желающий сближаться с людьми. Когда скончалась от старости Лора Генриховна, Фишер остался совершенно один, и лишь близость смерти, будь то искусственные цветы, фантазии об асфиксии или больничный морг, помогали ему примириться с реальностью, удерживая взаперти затаённый гнев.
Сквозь мглистую пелену воспоминаний и шум ливня прорвался истошный лай Шерхана. Фишер настороженно замер и прислушался. Шерхан не унимался, ему начали вторить соседские собаки. Фишер положил картофелину на пол и, сжимая в руке острый нож для овощей, прокрался на темную веранду.
За широким окном, рамы которого бугрились наслоениями краски, бродил по огороду черный пес – даже не пес, а скорее живой скелет, обтянутый мокрой шкурой. Он мелькал в прорехах бледно-зеленого виноградника, словно карликовый сгусток мрака, извивался в невольных судорогах и путался лапами в зарослях крапивы. Шуршал ливень, приглушая надрывное гавканье сторожевых собак. Из чьего-то огорода доносились рваные переливы свирели: дисгармоничная, мучительно-липкая музыка детского кошмара напоминала скорее утробные смешки, нежели мелодию.
Фишер облегченно выдохнул. Справиться с бешеным псом было на порядок проще, чем с человеком, и требовался для этого, конечно же, не нож. Решив не задаваться вопросом, как именно бешеный пес проник к нему во двор, Фишер надел кепку, напоминающую цветом и формой головной убор вермахта, и отправился в спальню за ружьем.
Когда он вышел на резное крыльцо, с крыши которого струились дождевые потоки, за виноградником пса уже не было. Вымокший Шерхан хрипло лаял и натягивал цепь, душа себя ошейником.
- Шерхан, фу! – скомандовал Фишер. Тот успокоился и забился в будку, сверкнув напоследок фосфорическими зрачками.
Поудобнее перехватив ружье, Фишер осторожно прошел под сводом винограда и выглянул из-за угла дома на задний двор. Бешеный пес ковылял к сараю, прокладывая себе путь сквозь высокую поросль укропа. Фишер подошел к дереву красной калины, встал на изготовку и вскинул ружье. Промокшая одежда липла к телу, в старых ботинках хлюпала вода, а на стеклах очков подрагивали крохотные капли.
Черный пес приближался к сараю, где Неля несколько часов назад пытала Фишера за торговлю людьми. Костлявые лапы скользили в грязи, а из раскрытой пасти вываливались пузырящиеся клочья пены. Взяв пса на мушку, Фишер прицелился в висок, над которым покачивалось рваное ухо. Сверкнула кривая молния, и грохот выстрела слился с ударом грома. Бешеный пес рухнул, стукнувшись головой о бетонированную дорожку, из черепа, развороченного дробью, брызнула рубиновая кровь, а пузырящиеся лужи приобрели красноватый оттенок. Терпко запахло порохом.
Фишер повесил ружье на плечо и вернулся в дом. Чтобы не слечь с обострением бронхита, нужно было переодеться в сухую одежду и хорошенько прогреть кости.
Дождь закончился поздним вечером, когда глаз солнца, налитый темной кровью, закатился за горизонт. Опираясь на туристическую трость с крючковатой рукоятью, Фишер брел сквозь сгущающийся лесной сумрак. Мокрые ветви березняка с шорохом прикасались к черному дождевику, а под резиновыми сапогами хлюпала грязь. За спиной у Фишера висел потертый рюкзак, найденный на чердаке.
Когда в полумраке обозначилась кривая поросль молодых берез, а размокшая земля уступила место затхлой воде, над которой возвышались кочки, Фишер стал осторожнее. Перед каждым шагом он пробовал глубину болота заостренным концом трости, погружая металлический штырь до самого дна. Шелестела осока, гортанно хохотали выпи, а в далеком тумане блуждали бледно-зеленые огоньки. Фишер не был суеверным. Он считал, что если на болотах и можно встретить мертвецов, то лишь тех, которые до сих пор числились пропавшими без вести и были законсервированы в толще вязкого ила. Бояться их было глупо.
Трость по середину ушла в малахитово-черный ковер сфагнума и увязла. Остановившись на сухой кочке, Фишер несколько раз ткнул тростью в жидкую грязь, обманчиво прикрытую мхом. Глубина трясины составляла более метра. Фишер снял рюкзак, в котором лежал труп застреленного пса, и утопил его в болоте – подальше от чужих глаз и водолазных багров.
Дело было сделано. Влажно покашливая в кулак, Фишер направился домой. Трость погружалась в топкую почву, словно нож в человеческую плоть.
Фишер уже не был юным глупцом, который ломал руки бездомным, избивал незнакомцев и сводил в могилу тех, кто принимал его за друга. Случайно подметив, что внутренняя агрессия с равным успехом направляется как на других, так и на самого себя, Фишер решил совместить приятное с полезным и отказался от недобрых желаний, которые роились в его голове, как мухи над требухой. Мазохистская радость, - тлеющая, темная и вязкая, - свою функцию успешно выполняла. Нужно было всего лишь не переходить грань, чтобы избежать участи Дэвида Кэррадайна.
И всё же садистский восторг был совсем иного характера: жгучий, как электрическая искра, яркий, как вспышка магния… Фишер брел по мокрой траве, и в его памяти прокручивалось на повторе мгновение: раз за разом валился наземь бешеный пес, выплескивая в дождевую воду брызги горячей крови.
«Полезно иногда выпустить пар», - подумал Фишер, обнажив в десневой улыбке крупные зубы. Торфяные болота за его спиной тускло мигали трупными искрами, а очки бликовали под светом луны, скрывая сытый блеск осоловелых глаз.
- Думаешь, до меня не доходит, зачем ты это каждый день талдычишь?! – кричала она, впадая в бессильную ярость. – Тебе нужны деньги, чтобы кататься в Финляндию! Тебе меня не жалко! Тебе никого не жалко! Лицемерная гнида!
Внешний мир тоже не вызывал восторга. Общество радикализировалось и теперь вовсю обсуждало украинский майдан. После аннексии Крыма всеобщей истерии поддался даже Жора: он придерживался мнения, что Крым все-таки российский, и пытался внушить это Фишеру, а когда тот уклонялся от диалога, называл его пропащим человеком. Если же опьянение достигало наивысшей точки, то в Жоре просыпался русский националист.
- В тебе нет патриотического чувства, но это неудивительно, - говорил он, - твои предки проживали везде и для всех были чужими. Если бы ты был русским, ты бы меня понял.
- Херню ты несешь, Горняк, - хмуро отвечал в таких случаях Фишер. Он не желал оправдываться перед Жорой, унизительно пересказывая свое сумбурное генеалогическое древо.
Майский день, который стал началом последнего акта, выдался на удивление погожим. Приехав к Рите без предупреждения, Фишер обнаружил её в спальне. Желтые обои в цветочек, трюмо с фарфоровыми собачками и кровать, застеленная пестрым покрывалом, казались нелепыми декорациями для состоявшейся смерти. Сбоку от кровати, уткнувшись лбом в ножку туалетного столика, валялся по-бухенвальдски тощий труп Риты. В солнечных лучах переливался черный шелк длинного платья, а возле неестественно вывернутой голени с гниющим колодцем лежал пустой шприц. Фишер осторожно подошел к трупу. Под темной паутиной волос просматривался фиолетово-синий ком – некогда округлое, затем костлявое, а теперь деформированное лицо Риты. На туалетном столике лежала открытка с изображением белых хризантем и лаконичным посланием:
«Георгий Горняк – сволочь и насильник, Евгений Фишер – сутенер и психопат. Остальные просто дебилы. До встречи».
Фишер спрятал открытку, которая его компрометировала, в карман пиджака и покинул квартиру незамеченным. На похоронах Риты, смерть которой сочли банальной передозировкой, он не присутствовал.
И все-таки сбежать от опасности ему не удалось. По иронии судьбы, зарезать Фишера пытался именно Жора. Выздоравливая после удачной операции, Фишер переваривал осознание того, что все приятели, которых он обрел в Петербурге, погибли один за другим: Романа убили за долги, Рита свела счеты с жизнью, а Жора превзошел их всех, приняв смерть непосредственно от руки Фишера. Очередная попытка начать жизнь с чистого листа закончилась поножовщиной и уголовным делом.
Из колонии в Павлозаводск вернулся уже не импульсивный юноша, а скупой на слова мужчина, не желающий сближаться с людьми. Когда скончалась от старости Лора Генриховна, Фишер остался совершенно один, и лишь близость смерти, будь то искусственные цветы, фантазии об асфиксии или больничный морг, помогали ему примириться с реальностью, удерживая взаперти затаённый гнев.
Сквозь мглистую пелену воспоминаний и шум ливня прорвался истошный лай Шерхана. Фишер настороженно замер и прислушался. Шерхан не унимался, ему начали вторить соседские собаки. Фишер положил картофелину на пол и, сжимая в руке острый нож для овощей, прокрался на темную веранду.
За широким окном, рамы которого бугрились наслоениями краски, бродил по огороду черный пес – даже не пес, а скорее живой скелет, обтянутый мокрой шкурой. Он мелькал в прорехах бледно-зеленого виноградника, словно карликовый сгусток мрака, извивался в невольных судорогах и путался лапами в зарослях крапивы. Шуршал ливень, приглушая надрывное гавканье сторожевых собак. Из чьего-то огорода доносились рваные переливы свирели: дисгармоничная, мучительно-липкая музыка детского кошмара напоминала скорее утробные смешки, нежели мелодию.
Фишер облегченно выдохнул. Справиться с бешеным псом было на порядок проще, чем с человеком, и требовался для этого, конечно же, не нож. Решив не задаваться вопросом, как именно бешеный пес проник к нему во двор, Фишер надел кепку, напоминающую цветом и формой головной убор вермахта, и отправился в спальню за ружьем.
Когда он вышел на резное крыльцо, с крыши которого струились дождевые потоки, за виноградником пса уже не было. Вымокший Шерхан хрипло лаял и натягивал цепь, душа себя ошейником.
- Шерхан, фу! – скомандовал Фишер. Тот успокоился и забился в будку, сверкнув напоследок фосфорическими зрачками.
Поудобнее перехватив ружье, Фишер осторожно прошел под сводом винограда и выглянул из-за угла дома на задний двор. Бешеный пес ковылял к сараю, прокладывая себе путь сквозь высокую поросль укропа. Фишер подошел к дереву красной калины, встал на изготовку и вскинул ружье. Промокшая одежда липла к телу, в старых ботинках хлюпала вода, а на стеклах очков подрагивали крохотные капли.
Черный пес приближался к сараю, где Неля несколько часов назад пытала Фишера за торговлю людьми. Костлявые лапы скользили в грязи, а из раскрытой пасти вываливались пузырящиеся клочья пены. Взяв пса на мушку, Фишер прицелился в висок, над которым покачивалось рваное ухо. Сверкнула кривая молния, и грохот выстрела слился с ударом грома. Бешеный пес рухнул, стукнувшись головой о бетонированную дорожку, из черепа, развороченного дробью, брызнула рубиновая кровь, а пузырящиеся лужи приобрели красноватый оттенок. Терпко запахло порохом.
Фишер повесил ружье на плечо и вернулся в дом. Чтобы не слечь с обострением бронхита, нужно было переодеться в сухую одежду и хорошенько прогреть кости.
Дождь закончился поздним вечером, когда глаз солнца, налитый темной кровью, закатился за горизонт. Опираясь на туристическую трость с крючковатой рукоятью, Фишер брел сквозь сгущающийся лесной сумрак. Мокрые ветви березняка с шорохом прикасались к черному дождевику, а под резиновыми сапогами хлюпала грязь. За спиной у Фишера висел потертый рюкзак, найденный на чердаке.
Когда в полумраке обозначилась кривая поросль молодых берез, а размокшая земля уступила место затхлой воде, над которой возвышались кочки, Фишер стал осторожнее. Перед каждым шагом он пробовал глубину болота заостренным концом трости, погружая металлический штырь до самого дна. Шелестела осока, гортанно хохотали выпи, а в далеком тумане блуждали бледно-зеленые огоньки. Фишер не был суеверным. Он считал, что если на болотах и можно встретить мертвецов, то лишь тех, которые до сих пор числились пропавшими без вести и были законсервированы в толще вязкого ила. Бояться их было глупо.
Трость по середину ушла в малахитово-черный ковер сфагнума и увязла. Остановившись на сухой кочке, Фишер несколько раз ткнул тростью в жидкую грязь, обманчиво прикрытую мхом. Глубина трясины составляла более метра. Фишер снял рюкзак, в котором лежал труп застреленного пса, и утопил его в болоте – подальше от чужих глаз и водолазных багров.
Дело было сделано. Влажно покашливая в кулак, Фишер направился домой. Трость погружалась в топкую почву, словно нож в человеческую плоть.
Фишер уже не был юным глупцом, который ломал руки бездомным, избивал незнакомцев и сводил в могилу тех, кто принимал его за друга. Случайно подметив, что внутренняя агрессия с равным успехом направляется как на других, так и на самого себя, Фишер решил совместить приятное с полезным и отказался от недобрых желаний, которые роились в его голове, как мухи над требухой. Мазохистская радость, - тлеющая, темная и вязкая, - свою функцию успешно выполняла. Нужно было всего лишь не переходить грань, чтобы избежать участи Дэвида Кэррадайна.
И всё же садистский восторг был совсем иного характера: жгучий, как электрическая искра, яркий, как вспышка магния… Фишер брел по мокрой траве, и в его памяти прокручивалось на повторе мгновение: раз за разом валился наземь бешеный пес, выплескивая в дождевую воду брызги горячей крови.
«Полезно иногда выпустить пар», - подумал Фишер, обнажив в десневой улыбке крупные зубы. Торфяные болота за его спиной тускло мигали трупными искрами, а очки бликовали под светом луны, скрывая сытый блеск осоловелых глаз.
Глава 6
Рессентимент
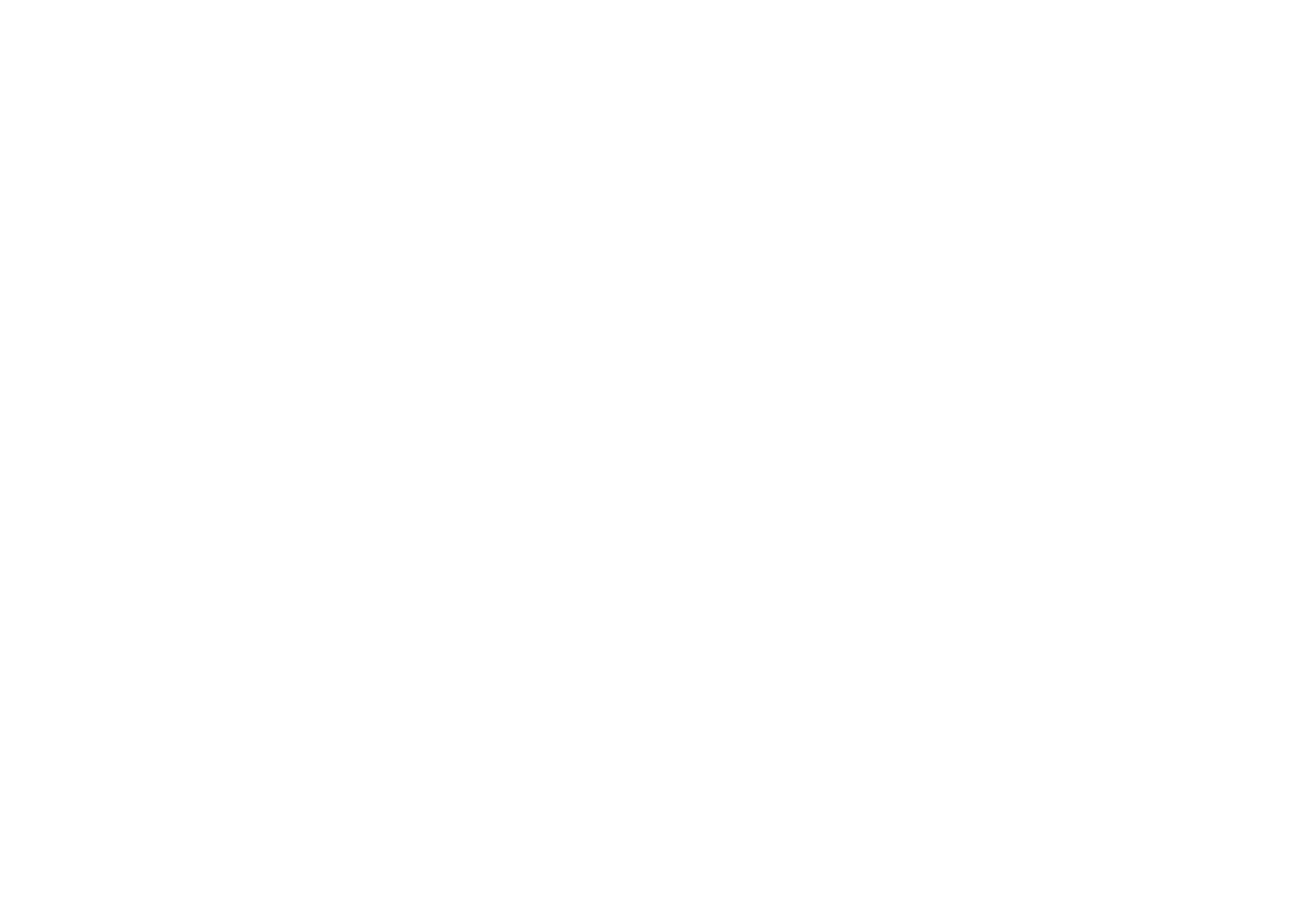
1969 год, 25 января
Пробуждение заставило Рудольфа устыдиться своих пьяных замыслов. Взглянув на них со здоровым скепсисом, он пришел к выводу, что штурмманна Страшко лучше не вешать и уж точно не сжигать – надо было всего лишь собрать доказательства его дегенеративных наклонностей и доложить обо всем в ВФХА, соблюдя тем самым законность процедуры.
Съездив на кладбище, возле которого его ночью рвало, Рудольф убедился, что похоронены там солдаты вермахта. Пышные еловые венки жались к гранитным надгробьям, отмеченным свастикой, на голых ветвях березовой аллеи сидели красногрудые снегири, а в хрустальном воздухе несмело подрагивал снегопад. Преодолев скрипящие сугробы, Рудольф выбрался с кладбища, отряхнул фуражку от снега и принял еще одно мудрое решение: больше никогда с Менгеле не пить. Декадентские речи коменданта действовали на пьяное сознание Рудольфа не лучшим образом, внося в его мысли неприличествующий офицеру СС хаос.
Паульмунд тем временем продолжал свое флегматичное существование, и даже надвигающийся День космонавтики не мог ничего изменить. Концлагерь "Сибирь-2" буднично функционировал, снабжая гау Гитлерштадт мебелью, спецодеждой и гробами, а под апатичными лучами зимнего солнца тускло поблескивали спирали колючей проволоки и зарешеченные окна кирпичных бараков. Эсэсовцы в черных шинелях, придурки с белыми повязками и заключенные в полосатых робах перемещались по территории лагеря, как сонные мухи, и разговаривали на особом волапюке, который сочетал в себе немецкую грамматику, русскую брань и криминальное арго, перенятое от евреев-ашкенази. Лагерфюрер[47] еженедельно проводил всеобщий шмон, капо[48] старались избегать кипиша, чтобы не лишиться с трудом добытых привилегий, а идейные воры с символикой Советской России на желтушной коже снисходительно отзывались о фраерах. Пребывание в восточном концлагере плохо сказывалось и на охраняемых, и на охраняющих.
[47] заместитель коменданта
[48] старосты из числа заключенных
Однако ранним утром следующего дня Паульмунд было уже не узнать. То, с чем не справился государственный праздник, оказалось под силу убийству. Жители одного из бараков, скопление которых гнездилось около пожарной части, обнаружили у себя во дворе труп задушенного гитлерюнге, онемеченного прибалта двенадцати лет. Правая нога отсутствовала, а на синюшном лбу темнела цифра "3", небрежно написанная химическим карандашом. В свежем выпуске региональной газеты "Паульмундер адлер", который появился в киосках Остпресс наряду с "Фолькишер беобахтер" и геббельсовской "Ангрифф", убийство упомянуто не было.
- Не хочу казаться пораженцем, барон, но я прожил здесь достаточно долго и могу с уверенностью сказать, что раскроют это дело нескоро, - с равнодушием философа констатировал Менгеле, которого Рудольф отыскал в комендатуре. - В прошлом году, например, когда началась распутица, в лесу нашли труп слесаря. Убит еще до зимы, семнадцать ножевых ранений в области груди, бумажника нет. И что вы думаете? Убийцу так и не нашли.
- Хотел бы я иметь вашу память, - без тени улыбки произнес Рудольф.
- Не язвите, барон. В Паульмунде всего три достопримечательности: театр, набережная и мой концлагерь. Здесь что угодно может стать поводом для пересудов. Особенно нераскрытое убийство. Скучно тут.
Завершением и без того нервозного дня стало ЧП: на вечерней перекличке недосчитались политического заключенного, который убирался в лазарете. На территории лагеря его не обнаружили, однако взяли след натасканные овчарки, с которыми прочесывали заснеженный лес эсэсовцы, и незадолго до полуночи избитого беглеца доставили обратно.
В инспекторские обязанности Рудольфа входила лишь хозяйственная часть, однако Менгеле предложил ему понаблюдать за допросом, и Рудольф согласился. Ему хотелось приобрести хотя бы жалкое подобие опыта, с которым вернулся в Германию дядюшка Альберт.
- Так и знал, что вы не откажетесь. В вас течет прусская кровь, - весело оскалился Менгеле и приказал следовать за ним.
Проходил допрос в подвале политического отдела – узкого здания из серого кирпича, которое тянулось вверх на три этажа и возвышалось над административным сектором, как готическая капелла. Сам подвал имел казенный вид, пробуждающий в посетителях низменные страхи: горели неестественной белизной галогеновые лампы, стены были выкрашены темно-синей эмалью, а охристый кафельный пол дышал холодом. Шевеля искаженными конечностями, по кафелю ползали семь черных теней.
Одна из них принадлежала сутуловатому гестаповцу в штатском, который вышагивал из стороны в сторону и по-русски задавал беглецу вопросы. Тот висел под потолочной балкой и отчаянно выл от боли, терзающей вывернутые руки. Босые ноги едва касались пола, простоватое юношеское лицо пестрело гематомами, а в грязных волосах неопределенного цвета засыхала кровь. На груди полосатой куртки виднелась бирка с красным винкелем.
Похлопывая по ладони резиновой дубинкой, перед беглецом стоял оберштурмфюрер Олендорф, нарциссичного вида брюнет с холодными глазами и заломленной набок фуражкой. В углу флегматично курили две надзирательницы, одетые в юбки, жакеты и пилотки цвета фельдграу. Штурмманн Страшко ходил по подвалу кругами и снимал происходящее на фотоаппарат "Лейка". Рудольф с недовольством осознал, что попадал в кадр уже не раз.
- Взгрей эту скотину, Олендорф! – выкрикнул гестаповец, услышав вместо ответа сдавленный плач.
Олендорф с равнодушным видом ударил беглеца по почкам. Тот задергался на веревке и едва не потерял сознание. Фрау Вольф, чванливая надзирательница с пепельно-белым каре, бросила окурок на пол и раздавила его сапогом. Фройляйн Магалл, напоминавшая телосложением подростка, убрала за ухо золотистый локон и скучающе вздохнула, будто стояла в длинной очереди за льготным мясом.
Менгеле сидел на крашеной скамье, которая тянулась вдоль стены, и постукивал кончиком хлыста по сапогу, скорее успокаивая себя, нежели запугивая других, а его безразличный взгляд, отягощенный странной осоловелостью, увязал в прокуренном воздухе подвала. Рудольф занимал другой конец лавки, с которого открывался хороший обзор, и тактично делал вид, что не замечает смятения коменданта.
- Следующий, - сухо приказал Менгеле.
Олендорф отступил в угол, и к беглецу тяжелыми шагами подошла фрау Вольф. Сняв с ремня дубинку, она грубо ткнула его в живот. Гестаповец повторил свой вопрос, однако ответа не дождался. Фрау Вольф сноровисто взмахнула дубинкой, и беглец, получив удар в пах, вновь задергался на веревке и принялся выть, как раненое животное. Штурмманн Страшко улыбнулся и щелкнул фотоаппаратом.
Незатейливый садизм фрау Вольф не казался Рудольфу чем-то аномальным: надзирательницы, родившиеся в маргинальных семьях, относились к заключенным с большей жестокостью, чем их порядочные сослуживцы. Страшко же заочно был для Рудольфа отталкивающей фигурой, пусть даже его жертвами становились только заключенные. То, что прощалось немцу, для славянского коллаборанта было пороком. Глядя на широкоскулое лицо Страшко с мясистым длинным носом и чуть выпуклыми серо-голубыми глазами, Рудольф замечал признаки вырождения и холодный рыбий взгляд, который никак не мог принадлежать здоровому человеку.
Сознаваться беглец начал, когда за дело взялась фройляйн Магалл. Выслушав признание до конца, Менгеле сообщил Рудольфу, что сбежал заключенный, спрятавшись в грузовике с гробами, которые нужно было доставить в паульмундское похоронное бюро. Судьба беглеца была очевидна. Теперь он мог покинуть концлагерь лишь через трубу крематория.
Когда измученное тело сняли с балки и унесли в лазарет, где ему предстояло скончаться от сердечной недостаточности, Рудольф застегнул шинель и побрел обратно в офицерское общежитие. Он намеревался поспать хотя бы несколько часов, а после завтрака побеседовать о Страшко с кем-нибудь из хозобслуги. Недопонимания Рудольф не опасался: в придурки обычно брали заключенных, которые говорили по-немецки.
Проснувшись незадолго до рассвета, Рудольф с неохотой выполз из-под пары стеганых одеял. От чугунной батареи исходил жар, противостоящий колючему холоду северных пространств, а чернильно-синие сумерки за окном медленно выцветали до серой прозрачности. В коридоре шаркала шваброй уборщица, а в соседней комнате громко говорил по телефону чиновник из управления СС, который прибыл в концлагерь пару часов назад – на это указывали его недовольные реплики. С аппельплаца доносилось гулкое эхо собачьего лая.
- Застряли в снегу. Нет, он еще жив. Слушаюсь, штурмбаннфюрер, - чеканил за стеной гнусавый голос, но потом перешел на бытовой тон. – Комендант говорил про какие-то гробы, у них договор с похоронным бюро…
Позевывая, Рудольф выглянул в окно. Под одним из фонарей стоял оберштурмфюрер Олендорф и держал на поводке овчарку, которая лаяла вслед грузовику, исчезающему за воротами КПП.
"Едут на фабрику", - догадался Рудольф и отошел от окна.
Сделав зарядку и побрившись, он с облегчением подметил, что выглядеть стал бодрее. Впечатление портили лишь залегшие под глазами тени, однако свежая рубашка табачного цвета, выглаженное галифе и начищенные сапоги исправили положение, придав облику Рудольфа плакатную суровость. Расстегнув на рубашке одну пуговицу, он положил в карман галифе пачку сигарет "Нордманн", которые считались дорогими даже в Берлине, и на этом приготовления закончились. Рудольф подошел к телефону и заказал в комнату завтрак: омлет с ветчиной и чашку кофе. Еду пообещали принести через двадцать минут.
Не находя себе места от смутной тревоги, Рудольф погрузился в кресло и задумался. Олендорф и Магалл, которых упоминал в своем рассказе Октав, пытали беглеца с бюрократическим равнодушием, а вот Страшко своего довольства не скрывал и вел себя, как ребенок, дорвавшийся до йольских подарков. Выводы напрашивались неутешительные: либо Страшко, находясь в одном помещении с инспектором из Берлина, не притворялся нормальным, либо притворялся - по мере своих психических возможностей.
Осторожный стук в дверь заставил Рудольфа вздрогнуть. Принесли завтрак, и сделала это Татьяна Нобель – темноволосая горничная с несуразным лицом, в котором сочетались внешние признаки множества низших народов.
- Благодарю, фройляйн, - изобразил Рудольф ласковую улыбку.
Нобель беззвучно прошла к столу, где блестела черным лаком пишущая машинка, и поставила поднос с едой в бледный квадрат света, отбрасываемый окном. Пахло подгоревшим мясом, и перебить этот запах не мог даже терпкий аромат кофе. Неодобрительно покосившись на Нобель, Рудольф заметил на рукаве её полосатого платья небольшое пятно от яичного желтка, однако свои претензии решил не озвучивать.
Когда Нобель учтиво поклонилась и приготовилась уходить, Рудольф поймал её взгляд, вынул из кармана пачку сигарет, отливающую синим, и молча её продемонстрировал. Нобель застыла на месте, как ледяная фигура. Вежливое выражение смугловатого лица сменилось натужной гримасой, а обветренные губы нервно дрогнули.
- Мне запрещено принимать подарки, герр гауптштурмфюрер, - сказала она по-немецки.
Рудольф поморщился, услышав грубое русское произношение, однако Нобель этого не заметила. Она с нескрываемой жадностью смотрела на пачку сигарет и явно подсчитывала в уме, на какие роскошества лагерной жизни её можно было обменять.
- А это не подарок. Я хочу задать вам несколько вопросов, - серьезно произнес Рудольф.
Хлопнула дверь соседней комнаты, и по коридору, трубно сморкаясь, прошел эсэсовский чиновник. Нобель дождалась, пока шаги утихнут, и лишь затем нерешительно протянула руку. Рудольф положил на подставленную ладонь пачку сигарет, и та мгновенно скрылась под широким поясом передника, тонущего в пышных рюшах.
- Что вы хотите знать, герр гауптштурмфюрер? – спросила Нобель, подавшись вперед.
- У вас в библиотеке когда-нибудь работал мишлинг из Франции? Асоциал, картавый, в очках? – небрежно поинтересовался Рудольф. Следовало начать издалека, чтобы не выдать своего истинного интереса.
- Я здесь всего полгода. При мне таких не было.
- Дело в том, фройляйн, что недавно этот мишлинг подал на оберштурмфюрера Олендорфа официальную жалобу, - солгал Рудольф. – И не только он. К сожалению, им следовало жаловаться, пока они находились в лагере, чтобы можно было зафиксировать травмы, но я прекрасно понимаю, чем это было бы чревато.
Потупившись, Нобель вцепилась ломкими пальцами в передник и перешла на шепот:
- Я с герром Олендорфом не сталкивалась, но соседка по комнате видела, как он запугивал хозрабочего, который с ним не поздоровался. Герр Олендорф оскорблял его и делал вид, что собирается натравить на него собаку…
- Очень хорошо, - кивнул Рудольф. - Также этот мишлинг упоминал штурмманна Страшко, который избивал его и фотографировал.
Нобель вскинула голову. Её карие глаза желчно блеснули, а на щеках заиграл бледный румянец гнева. Рудольф насторожился.
- В чем дело, фройляйн?
- Наш нынешний библиотекарь – тоже мишлинг, - многозначительно произнесла она, - он постоянно ходит в синяках, а иногда хрипит. Он говорит всем, что простужен. Но я в это не верю. К тому же, у Бори начал дергаться глаз…
- О ком вы говорите?
- О библиотекаре. Его зовут Борис Рубинштейн, он из советских евреев. Попал сюда в начале осени, за убийство. Он убил мясника-колониста, который переехал сюда из Пруссии. Мясник спал, а Борис дважды выстрелил в него из ружья. В туловище и в голову.
Рудольф холодно нахмурился. Ему не очень-то хотелось приближаться к мишлингу, который возомнил себя бытовым мстителем, однако благо отечества было превыше личных антипатий.
- Вы свободны, фройляйн. В ваших же интересах никому о нашем разговоре не сообщать. Если я доложу, что вы приняли от меня сигареты, то поверят мне, а не вам.
- Конечно, герр гауптштурмфюрер. Хорошего вам дня, - натянуто улыбнулась Нобель. Отвесив еще один поклон, она вышла из комнаты так быстро, словно её кто-то преследовал. Дверь закрылась, и в тишине коридора растворился лихорадочный стук каблуков.
Наскоро съев пережаренный омлет с хрустящими угольками бекона, Рудольф подавил в себе желание проветрить номер, надел полный комплект униформы и отправился с рабочим блокнотом в культурхауз. Заключенные разбрелись по цехам еще два часа назад, так что библиотекарь Рубинштейн был обречен на одиночество до самого вечера, и помешать доверительной беседе с ним мог разве что лагерный персонал.
Придерживаясь прежней тактики, Рудольф не пошел прямиком на второй этаж, где располагалась библиотека, а заглянул перед этим в актовый зал, где удачно застал старосту культурхауза – седеющего русского в годах, осужденного за политическое преступление. Владимир Исаев, бывший главред "Паульмундер адлер", получил красный винкель и шесть лет концлагеря за тираж еженедельного номера, один из заголовков которого приписывал Германии истерическую миссию вместо исторической. Где-то с полчаса Рудольф задавал Исаеву каверзные вопросы о художественной самодеятельности, а тот, сбиваясь с литературного немецкого на лагерный диалект, расхваливал трудолюбие музыкантов и драматические таланты актеров. Когда Рудольф направился к лестнице, ведущей на второй этаж, Исаев облегченно выдохнул и даже не стал узнавать, куда Рудольф идет и зачем.
Чтобы попасть в библиотеку, нужно было миновать узкую лестничную клетку, выкрашенную в дымчато-серый цвет, и длинный коридор такой же унылой палитры. Бетонный пол с коричневым крошевом мозаики, гармошки батарей, покрытые коростой эмали, и узорчатый тюль на широких окнах лишь подчеркивали неживую пустоту коридора. За одной из трех железных дверей отрывисто стучали барабанные палочки и бравурно гудели трубы, наигрывая марш, отдаленно напоминающий "Эрику". Заметив на дверях таблички, Рудольф вчитался в остроконечные готические буквы. Театральная секция, музыкальная секция… Библиотека располагалась в самом конце коридора, и её дверь была распахнута настежь.
Рудольф расстегнул зимнюю шинель, тепло которой становилось в помещении невыносимым, и под оглушительный треск барабана прошел вперед. Переступив металлический порожек, Рудольф оказался в читальном зале, наполненном студенистым светом январского утра. Казенную серость помещения сглаживали потертый линолеум цвета сухой пшеницы и неказистая мебель лагерного производства. Со стены взирал на читательские столы портрет Геббельса, а возле окна, занавешенного всё тем же узорчатым тюлем, ютился стол библиотекаря. Проход, зияющий в дальнем углу, вел в смежную комнату с книжными шкафами. Слабо пахло хлоркой для мытья полов и дешевым одеколоном "Альпы", который можно было купить на любой станции Остбанна. В читальном зале не было никого, даже Рубинштейна.
"Отлынивает, свинья", - не без злорадства подумал Рудольф и подошел к библиотекарскому столу.
За белесой паутиной тюля возвышалась труба крематория, из неё валил черный дым. Рудольф понял, что вчерашний беглец скончался от естественных причин, и осмотрел лежащие на столе предметы. Ящичек с читательскими билетами, заполненными от руки, тюбик канцелярского клея, застиранный носовой платок, в темной клетке которого угадывались следы крови… Рудольф недоуменно моргнул. За стеной раскатисто громыхнула медь, и лагерный оркестр заиграл "Лору". В смежной комнате мягко зашуршали шаги.
Выпрямившись, Рудольф приготовился к встрече с Рубинштейном. Шорох валенок, ступавших по линолеуму, становился всё громче, и наконец в проходе показался худосочный мишлинг, который прижимал к груди стопку истрепанных книг. Заметив постороннего, мишлинг вскрикнул и непроизвольно отшатнулся.
- Имя-фамилия, - лаконично поинтересовался Рудольф.
- Борис Рубинштейн, - с хрипотцой ответил мишлинг. Положил книги на стол, он накрыл ими окровавленный платок и запоздало стянул с головы полосатый мютцен. На выцветших корешках слабо просматривались фамилии Зайдель и Беренс-Тотеноль[49].
[49] писательницы, которые были популярны в Третьем Рейхе в 30-ых годах
Рубинштейн стоял в потоке бледного света, как одеревенелый, и бесцельно поправлял темно-русые волосы, волнистой прядью ссыпающиеся на лоб. Худое землистое лицо, настороженные серые глаза и заостренный нос делали его похожим на галку, а полосатая роба и черный пиджак с нарукавной повязкой были новыми, но сидели на Рубинштейне мешковато, как на садовом пугале. Бирка с зеленым винкелем и личными данными лишь усиливала отталкивающее впечатление: восемнадцатилетнему убийце предстояло прожить в концлагере до конца семидесятых.
Рудольф осмотрел голую шею Рубинштейна, однако не заметил ни синяков, ни царапин, ни странгуляционной борозды.
- Ты почему такой напряженный? – прямо спросил он. Допрашивая мишлинга, можно было не ходить вокруг да около.
- Сложности адаптации, герр гауптштурмфюрер, - ответил тот по-немецки, и его левый глаз нервно дернулся.
- Какие, например? Штурмманн Страшко?
- Герр штурмманн? – опасливо переспросил Рубинштейн. – А что он такого сделал, что им интересуются в Берлине? И как я могу об этом знать, если сделал?
- Ты мне вопросом на вопрос не отвечай. Я, между прочим, ради тебя стараюсь. Не совсем, конечно, но если ты не будешь мне лгать, то твоя жизнь тоже станет намного приятнее.
- То есть, вы доложите обо всём начальству, герр штурмманн получит выговор, а я сразу же после этого вылечу в трубу, - сардонически усмехнулся Рубинштейн.
- Если не начнешь говорить сейчас, то администрация узнает, что ты пытался на меня напасть. Понятно тебе, сволочь? – парировал Рудольф. Он еле сдерживался, чтобы не выбить наглому мишлингу пару зубов.
Ход оказался удачным. Рубинштейн поник, словно ему на плечи взвалили тяжелую шпалу, и уставился на свои валенки.
- Мне всё понятно, герр гауптштурмфюрер, я расскажу… - пробормотал он.
Рудольф довольно хмыкнул, однако ему тут же представилось, как Рубинштейн деловито перезаряжает ружье, чтобы выстрелить в голову теплого трупа. Чувство превосходства испарилось, как стеклянная роса под зноем полудня. Оркестр за стеной сбился на атональную какофонию, вслед за которой раздался многоголосый смех.
"Как бы этот жиденок не добрался до Страшко раньше меня…" – засосало у Рудольфа под ложечкой. Отцу нужно было предъявить арестованного дегенерата, а не мертвого.
Сдвинув левый рукав пиджака, Рубинштейн продемонстрировал Рудольфу щуплое запястье, изуродованное мелкими ожогами. Розоватые рубцы, темные бляшки коросты и лопнувшие волдыри теснились друг к другу, как клопы в непотревоженном гнезде.
- Что это такое? – поморщился Рудольф. Раны неряшливый мишлинг не бинтовал, и самые свежие из них окружала красноватая кайма раздражения.
- Каждый понедельник, после банного дня герр штурмманн приходит в библиотеку, избивает меня, а потом придушивает локтем… - отрешенно заговорил Рубинштейн, удерживая на весу дрожащую руку. – Около пяти минут я нахожусь без сознания, и в это время герр штурмманн меня фотографирует. Когда я прихожу в себя, он тушит об мою руку окурок и уходит. Это было уже двенадцать раз.
Завершив свой краткий, но обстоятельный рассказ, Рубинштейн вернул рукав на место и снова поправил волосы. Рудольф сел на ближайший стул и попытался собрать из полученных показаний складную версию. Первым пришло осознание, что Октав, скорее всего, пережил нечто подобное и каким-то чудом вернулся в Европу уравновешенным – пожалуй, даже слишком уравновешенным. Затем возникло непрошеное подозрение: о наиболее постыдных моментах Рубинштейн вполне мог умолчать, справедливо полагая, что ему не поверят или вовсе сочтут виновным. Следовательно, и Октав…
- То есть, он тебя только душит и фотографирует? Больше ничего? – спросил Рудольф. Его голос прозвучал скорее обескураженно, чем веско.
- Больше ничего, - мрачным эхом повторил Рубинштейн.
- Почему ты так в этом уверен? Пока ты находишься без сознания…
- Господи, да нет же! Вы думаете, что я умственно отсталый? – вскинулся Рубинштейн, и его глаза почернели от злобы. - Неужели вы не понимаете, что всё гораздо хуже? Герр штурмманн говорит, что не собирается меня убивать, потому что сюда редко этапируют мишлингов, но…
- …он может убить тебя случайно, не рассчитав силу, - продолжил за него Рудольф и задумался. Чем больше он узнавал, тем запутаннее становилась ситуация.
- Именно так, - кивнул Рубинштейн.
- Ты видел фотографии?
- Да. Герр штурмманн иногда их мне показывает. Синяки, кровь, ноги в башмаках… Ничего эротического. Он снимает, как криминалист в морге.
Пытаясь игнорировать нестройный гул оркестра, доносившийся из-за стены, Рудольф тяжело вздохнул и помассировал пальцами переносицу. Рубинштейн, судя по его живой реакции, говорил правду. Страшко был не просто первертом, а весьма осторожным первертом с купированной совестью и искаженным эстетическим чувством. Нельзя было допустить, чтобы подобный психопат, к тому же, славянского происхождения, продолжал службу в рядах СС.
- Герр штурмманн однажды сказал мне, что я хороший эрзац, - обронил вдруг Рубинштейн.
- Эрзац чего? – занервничал Рудольф. Аморфное подозрение не желало облачаться в слова, оставаясь мучительным фантомом.
- Я не спрашивал. Возможно, это была шутка, - буркнул Рубинштейн. – Можете не волноваться, герр гауптштурмфюрер, о ваших вопросах никто не узнает. Я убийца, а не идиот.
Ощущение нереальности обволакивало Рудольфа, погружая его в абсурдистский спектакль по мотивам Кафки, насквозь невротичного еврейского писателя, которому повезло умереть до большой чистки. На первый этаж Рудольф вернулся, спустившись по лестнице чуть ли не бегом, а раболепное прощание Исаева, который нес в актовый зал охапку праздничных венков, не вызвало у него ожидаемой улыбки.
Остановившись на бетонном крыльце культурхауза, Рудольф стряхнул с себя вяжущий морок и вновь увидел мир, пронизанный порядком. На крышах мужских бараков серебрился снег, монотонно лязгали ломы хозобслуги, а промозглый ветер сносил в сторону административного сектора темные клочья крематорского дыма. Учуяв в воздухе сладковатый смрад, Рудольф порадовался тому, что форточку перед уходом все-таки не открыл.
День космонавтики прошел в рабочих хлопотах. Сопровождаемый Гельмутом, Рудольф бродил по мужскому сектору, вызывая нервозность то у блокфюреров[50], пытающихся выставить лагерную жизнь в лучшем свете, то у сосредоточенных капо, под показным оптимизмом которых проступал глубокий бытийный страх. Заключительным аккордом стал праздничный концерт в культурхаузе, после которого Рудольф вернулся в офицерское общежитие и занялся отчетами.
[50] староста блока из числа эсэсовцев
На смену мареновому закату пришла тяжелая мгла. В беззвездном небе заворочались лучи прожекторов, а студеный воздух наполнился хриплым лаем собак, который отдаленно напоминал придушенный голос Рубинштейна. Включив телевизор, Рудольф переоделся в теплую пижаму и забрался под одеяла. Сумрак скрадывал углы комнаты, искажая его дневные пропорции, а светло-коричневый колер стен казался в темноте грязно-рыжим, как размокшая глина.
По выпуклому экрану телевизора ползали серые волны помех. Они накатывались то на угловатый логотип регионального канала "Ост-Сибирь", то на танцующих в круге прожектора сестер Фляйш – двух молодых певиц нордического типажа, которые целомудренно покачивали складками баварских сарафанов и пели о первой любви. За музыкальной передачей последовал выпуск местных новостей. Улыбающаяся дикторша с пышным начесом докладывала об экономических достижениях Рейха, и её округлое балтийское лицо поминутно сменяли кадры, на которых золотились хлебные степи Туркестана, сверкали солнечным светом курорты Украины, мерно покачивались сизые волны Остланда…
Рудольф медленно сползал в омут сновидений, где дробились на фарфоровые осколки нефтеносный Кавказ, индустриальные гау Московии и шумящие леса Сибири. Подергивались яркие кадры, на которых поседевший Геббельс, профессионально играя старческим голосом, обращался к переполненному Дворцу спорта. Изможденный патриарх, некогда бывший юным провинциалом из Рейнланда, обеими руками опирался на трибуну с имперским орлом и предрекал Германии освоение Луны. На старомодном пиджаке Геббельса поблескивал золотой партийный значок.
Одеяла навалились на Рудольфа, как мерзлая земля. Слабо взмахнув трясущейся рукой, Геббельс констатировал паралич американской демократии, и праздничная речь затерялась в хаосе нутряного шума. Гремел медью торжественный марш, монотонно выла, как монструозный орган, артиллерийская канонада, крепли грубые инородные голоса. Исполненный достоинства баритон пел о Европе, а радиодиктор, гудящий, как иерихонская труба, зачитывал новостные сводки, в которых упоминались Берлин, капитуляция и Сталин.
Тяжело простонав, Рудольф перекатился набок и зарылся лицом в подушку. Геббельс окинул взглядом восторженную толпу и стал выше ростом, превратившись в грузного чернобрового старика, увешанного орденами и медалями. Сквозь суматошный хор шумов прорвался шамкающий голос, звуки которого смешивались в славянскую абракадабру.
Рудольф страдальчески промычал во сне. На пиджаке грузного старика недобро блестели золотисто-желтым пятиконечные звезды.
Пробуждение заставило Рудольфа устыдиться своих пьяных замыслов. Взглянув на них со здоровым скепсисом, он пришел к выводу, что штурмманна Страшко лучше не вешать и уж точно не сжигать – надо было всего лишь собрать доказательства его дегенеративных наклонностей и доложить обо всем в ВФХА, соблюдя тем самым законность процедуры.
Съездив на кладбище, возле которого его ночью рвало, Рудольф убедился, что похоронены там солдаты вермахта. Пышные еловые венки жались к гранитным надгробьям, отмеченным свастикой, на голых ветвях березовой аллеи сидели красногрудые снегири, а в хрустальном воздухе несмело подрагивал снегопад. Преодолев скрипящие сугробы, Рудольф выбрался с кладбища, отряхнул фуражку от снега и принял еще одно мудрое решение: больше никогда с Менгеле не пить. Декадентские речи коменданта действовали на пьяное сознание Рудольфа не лучшим образом, внося в его мысли неприличествующий офицеру СС хаос.
Паульмунд тем временем продолжал свое флегматичное существование, и даже надвигающийся День космонавтики не мог ничего изменить. Концлагерь "Сибирь-2" буднично функционировал, снабжая гау Гитлерштадт мебелью, спецодеждой и гробами, а под апатичными лучами зимнего солнца тускло поблескивали спирали колючей проволоки и зарешеченные окна кирпичных бараков. Эсэсовцы в черных шинелях, придурки с белыми повязками и заключенные в полосатых робах перемещались по территории лагеря, как сонные мухи, и разговаривали на особом волапюке, который сочетал в себе немецкую грамматику, русскую брань и криминальное арго, перенятое от евреев-ашкенази. Лагерфюрер[47] еженедельно проводил всеобщий шмон, капо[48] старались избегать кипиша, чтобы не лишиться с трудом добытых привилегий, а идейные воры с символикой Советской России на желтушной коже снисходительно отзывались о фраерах. Пребывание в восточном концлагере плохо сказывалось и на охраняемых, и на охраняющих.
[47] заместитель коменданта
[48] старосты из числа заключенных
Однако ранним утром следующего дня Паульмунд было уже не узнать. То, с чем не справился государственный праздник, оказалось под силу убийству. Жители одного из бараков, скопление которых гнездилось около пожарной части, обнаружили у себя во дворе труп задушенного гитлерюнге, онемеченного прибалта двенадцати лет. Правая нога отсутствовала, а на синюшном лбу темнела цифра "3", небрежно написанная химическим карандашом. В свежем выпуске региональной газеты "Паульмундер адлер", который появился в киосках Остпресс наряду с "Фолькишер беобахтер" и геббельсовской "Ангрифф", убийство упомянуто не было.
- Не хочу казаться пораженцем, барон, но я прожил здесь достаточно долго и могу с уверенностью сказать, что раскроют это дело нескоро, - с равнодушием философа констатировал Менгеле, которого Рудольф отыскал в комендатуре. - В прошлом году, например, когда началась распутица, в лесу нашли труп слесаря. Убит еще до зимы, семнадцать ножевых ранений в области груди, бумажника нет. И что вы думаете? Убийцу так и не нашли.
- Хотел бы я иметь вашу память, - без тени улыбки произнес Рудольф.
- Не язвите, барон. В Паульмунде всего три достопримечательности: театр, набережная и мой концлагерь. Здесь что угодно может стать поводом для пересудов. Особенно нераскрытое убийство. Скучно тут.
Завершением и без того нервозного дня стало ЧП: на вечерней перекличке недосчитались политического заключенного, который убирался в лазарете. На территории лагеря его не обнаружили, однако взяли след натасканные овчарки, с которыми прочесывали заснеженный лес эсэсовцы, и незадолго до полуночи избитого беглеца доставили обратно.
В инспекторские обязанности Рудольфа входила лишь хозяйственная часть, однако Менгеле предложил ему понаблюдать за допросом, и Рудольф согласился. Ему хотелось приобрести хотя бы жалкое подобие опыта, с которым вернулся в Германию дядюшка Альберт.
- Так и знал, что вы не откажетесь. В вас течет прусская кровь, - весело оскалился Менгеле и приказал следовать за ним.
Проходил допрос в подвале политического отдела – узкого здания из серого кирпича, которое тянулось вверх на три этажа и возвышалось над административным сектором, как готическая капелла. Сам подвал имел казенный вид, пробуждающий в посетителях низменные страхи: горели неестественной белизной галогеновые лампы, стены были выкрашены темно-синей эмалью, а охристый кафельный пол дышал холодом. Шевеля искаженными конечностями, по кафелю ползали семь черных теней.
Одна из них принадлежала сутуловатому гестаповцу в штатском, который вышагивал из стороны в сторону и по-русски задавал беглецу вопросы. Тот висел под потолочной балкой и отчаянно выл от боли, терзающей вывернутые руки. Босые ноги едва касались пола, простоватое юношеское лицо пестрело гематомами, а в грязных волосах неопределенного цвета засыхала кровь. На груди полосатой куртки виднелась бирка с красным винкелем.
Похлопывая по ладони резиновой дубинкой, перед беглецом стоял оберштурмфюрер Олендорф, нарциссичного вида брюнет с холодными глазами и заломленной набок фуражкой. В углу флегматично курили две надзирательницы, одетые в юбки, жакеты и пилотки цвета фельдграу. Штурмманн Страшко ходил по подвалу кругами и снимал происходящее на фотоаппарат "Лейка". Рудольф с недовольством осознал, что попадал в кадр уже не раз.
- Взгрей эту скотину, Олендорф! – выкрикнул гестаповец, услышав вместо ответа сдавленный плач.
Олендорф с равнодушным видом ударил беглеца по почкам. Тот задергался на веревке и едва не потерял сознание. Фрау Вольф, чванливая надзирательница с пепельно-белым каре, бросила окурок на пол и раздавила его сапогом. Фройляйн Магалл, напоминавшая телосложением подростка, убрала за ухо золотистый локон и скучающе вздохнула, будто стояла в длинной очереди за льготным мясом.
Менгеле сидел на крашеной скамье, которая тянулась вдоль стены, и постукивал кончиком хлыста по сапогу, скорее успокаивая себя, нежели запугивая других, а его безразличный взгляд, отягощенный странной осоловелостью, увязал в прокуренном воздухе подвала. Рудольф занимал другой конец лавки, с которого открывался хороший обзор, и тактично делал вид, что не замечает смятения коменданта.
- Следующий, - сухо приказал Менгеле.
Олендорф отступил в угол, и к беглецу тяжелыми шагами подошла фрау Вольф. Сняв с ремня дубинку, она грубо ткнула его в живот. Гестаповец повторил свой вопрос, однако ответа не дождался. Фрау Вольф сноровисто взмахнула дубинкой, и беглец, получив удар в пах, вновь задергался на веревке и принялся выть, как раненое животное. Штурмманн Страшко улыбнулся и щелкнул фотоаппаратом.
Незатейливый садизм фрау Вольф не казался Рудольфу чем-то аномальным: надзирательницы, родившиеся в маргинальных семьях, относились к заключенным с большей жестокостью, чем их порядочные сослуживцы. Страшко же заочно был для Рудольфа отталкивающей фигурой, пусть даже его жертвами становились только заключенные. То, что прощалось немцу, для славянского коллаборанта было пороком. Глядя на широкоскулое лицо Страшко с мясистым длинным носом и чуть выпуклыми серо-голубыми глазами, Рудольф замечал признаки вырождения и холодный рыбий взгляд, который никак не мог принадлежать здоровому человеку.
Сознаваться беглец начал, когда за дело взялась фройляйн Магалл. Выслушав признание до конца, Менгеле сообщил Рудольфу, что сбежал заключенный, спрятавшись в грузовике с гробами, которые нужно было доставить в паульмундское похоронное бюро. Судьба беглеца была очевидна. Теперь он мог покинуть концлагерь лишь через трубу крематория.
Когда измученное тело сняли с балки и унесли в лазарет, где ему предстояло скончаться от сердечной недостаточности, Рудольф застегнул шинель и побрел обратно в офицерское общежитие. Он намеревался поспать хотя бы несколько часов, а после завтрака побеседовать о Страшко с кем-нибудь из хозобслуги. Недопонимания Рудольф не опасался: в придурки обычно брали заключенных, которые говорили по-немецки.
Проснувшись незадолго до рассвета, Рудольф с неохотой выполз из-под пары стеганых одеял. От чугунной батареи исходил жар, противостоящий колючему холоду северных пространств, а чернильно-синие сумерки за окном медленно выцветали до серой прозрачности. В коридоре шаркала шваброй уборщица, а в соседней комнате громко говорил по телефону чиновник из управления СС, который прибыл в концлагерь пару часов назад – на это указывали его недовольные реплики. С аппельплаца доносилось гулкое эхо собачьего лая.
- Застряли в снегу. Нет, он еще жив. Слушаюсь, штурмбаннфюрер, - чеканил за стеной гнусавый голос, но потом перешел на бытовой тон. – Комендант говорил про какие-то гробы, у них договор с похоронным бюро…
Позевывая, Рудольф выглянул в окно. Под одним из фонарей стоял оберштурмфюрер Олендорф и держал на поводке овчарку, которая лаяла вслед грузовику, исчезающему за воротами КПП.
"Едут на фабрику", - догадался Рудольф и отошел от окна.
Сделав зарядку и побрившись, он с облегчением подметил, что выглядеть стал бодрее. Впечатление портили лишь залегшие под глазами тени, однако свежая рубашка табачного цвета, выглаженное галифе и начищенные сапоги исправили положение, придав облику Рудольфа плакатную суровость. Расстегнув на рубашке одну пуговицу, он положил в карман галифе пачку сигарет "Нордманн", которые считались дорогими даже в Берлине, и на этом приготовления закончились. Рудольф подошел к телефону и заказал в комнату завтрак: омлет с ветчиной и чашку кофе. Еду пообещали принести через двадцать минут.
Не находя себе места от смутной тревоги, Рудольф погрузился в кресло и задумался. Олендорф и Магалл, которых упоминал в своем рассказе Октав, пытали беглеца с бюрократическим равнодушием, а вот Страшко своего довольства не скрывал и вел себя, как ребенок, дорвавшийся до йольских подарков. Выводы напрашивались неутешительные: либо Страшко, находясь в одном помещении с инспектором из Берлина, не притворялся нормальным, либо притворялся - по мере своих психических возможностей.
Осторожный стук в дверь заставил Рудольфа вздрогнуть. Принесли завтрак, и сделала это Татьяна Нобель – темноволосая горничная с несуразным лицом, в котором сочетались внешние признаки множества низших народов.
- Благодарю, фройляйн, - изобразил Рудольф ласковую улыбку.
Нобель беззвучно прошла к столу, где блестела черным лаком пишущая машинка, и поставила поднос с едой в бледный квадрат света, отбрасываемый окном. Пахло подгоревшим мясом, и перебить этот запах не мог даже терпкий аромат кофе. Неодобрительно покосившись на Нобель, Рудольф заметил на рукаве её полосатого платья небольшое пятно от яичного желтка, однако свои претензии решил не озвучивать.
Когда Нобель учтиво поклонилась и приготовилась уходить, Рудольф поймал её взгляд, вынул из кармана пачку сигарет, отливающую синим, и молча её продемонстрировал. Нобель застыла на месте, как ледяная фигура. Вежливое выражение смугловатого лица сменилось натужной гримасой, а обветренные губы нервно дрогнули.
- Мне запрещено принимать подарки, герр гауптштурмфюрер, - сказала она по-немецки.
Рудольф поморщился, услышав грубое русское произношение, однако Нобель этого не заметила. Она с нескрываемой жадностью смотрела на пачку сигарет и явно подсчитывала в уме, на какие роскошества лагерной жизни её можно было обменять.
- А это не подарок. Я хочу задать вам несколько вопросов, - серьезно произнес Рудольф.
Хлопнула дверь соседней комнаты, и по коридору, трубно сморкаясь, прошел эсэсовский чиновник. Нобель дождалась, пока шаги утихнут, и лишь затем нерешительно протянула руку. Рудольф положил на подставленную ладонь пачку сигарет, и та мгновенно скрылась под широким поясом передника, тонущего в пышных рюшах.
- Что вы хотите знать, герр гауптштурмфюрер? – спросила Нобель, подавшись вперед.
- У вас в библиотеке когда-нибудь работал мишлинг из Франции? Асоциал, картавый, в очках? – небрежно поинтересовался Рудольф. Следовало начать издалека, чтобы не выдать своего истинного интереса.
- Я здесь всего полгода. При мне таких не было.
- Дело в том, фройляйн, что недавно этот мишлинг подал на оберштурмфюрера Олендорфа официальную жалобу, - солгал Рудольф. – И не только он. К сожалению, им следовало жаловаться, пока они находились в лагере, чтобы можно было зафиксировать травмы, но я прекрасно понимаю, чем это было бы чревато.
Потупившись, Нобель вцепилась ломкими пальцами в передник и перешла на шепот:
- Я с герром Олендорфом не сталкивалась, но соседка по комнате видела, как он запугивал хозрабочего, который с ним не поздоровался. Герр Олендорф оскорблял его и делал вид, что собирается натравить на него собаку…
- Очень хорошо, - кивнул Рудольф. - Также этот мишлинг упоминал штурмманна Страшко, который избивал его и фотографировал.
Нобель вскинула голову. Её карие глаза желчно блеснули, а на щеках заиграл бледный румянец гнева. Рудольф насторожился.
- В чем дело, фройляйн?
- Наш нынешний библиотекарь – тоже мишлинг, - многозначительно произнесла она, - он постоянно ходит в синяках, а иногда хрипит. Он говорит всем, что простужен. Но я в это не верю. К тому же, у Бори начал дергаться глаз…
- О ком вы говорите?
- О библиотекаре. Его зовут Борис Рубинштейн, он из советских евреев. Попал сюда в начале осени, за убийство. Он убил мясника-колониста, который переехал сюда из Пруссии. Мясник спал, а Борис дважды выстрелил в него из ружья. В туловище и в голову.
Рудольф холодно нахмурился. Ему не очень-то хотелось приближаться к мишлингу, который возомнил себя бытовым мстителем, однако благо отечества было превыше личных антипатий.
- Вы свободны, фройляйн. В ваших же интересах никому о нашем разговоре не сообщать. Если я доложу, что вы приняли от меня сигареты, то поверят мне, а не вам.
- Конечно, герр гауптштурмфюрер. Хорошего вам дня, - натянуто улыбнулась Нобель. Отвесив еще один поклон, она вышла из комнаты так быстро, словно её кто-то преследовал. Дверь закрылась, и в тишине коридора растворился лихорадочный стук каблуков.
Наскоро съев пережаренный омлет с хрустящими угольками бекона, Рудольф подавил в себе желание проветрить номер, надел полный комплект униформы и отправился с рабочим блокнотом в культурхауз. Заключенные разбрелись по цехам еще два часа назад, так что библиотекарь Рубинштейн был обречен на одиночество до самого вечера, и помешать доверительной беседе с ним мог разве что лагерный персонал.
Придерживаясь прежней тактики, Рудольф не пошел прямиком на второй этаж, где располагалась библиотека, а заглянул перед этим в актовый зал, где удачно застал старосту культурхауза – седеющего русского в годах, осужденного за политическое преступление. Владимир Исаев, бывший главред "Паульмундер адлер", получил красный винкель и шесть лет концлагеря за тираж еженедельного номера, один из заголовков которого приписывал Германии истерическую миссию вместо исторической. Где-то с полчаса Рудольф задавал Исаеву каверзные вопросы о художественной самодеятельности, а тот, сбиваясь с литературного немецкого на лагерный диалект, расхваливал трудолюбие музыкантов и драматические таланты актеров. Когда Рудольф направился к лестнице, ведущей на второй этаж, Исаев облегченно выдохнул и даже не стал узнавать, куда Рудольф идет и зачем.
Чтобы попасть в библиотеку, нужно было миновать узкую лестничную клетку, выкрашенную в дымчато-серый цвет, и длинный коридор такой же унылой палитры. Бетонный пол с коричневым крошевом мозаики, гармошки батарей, покрытые коростой эмали, и узорчатый тюль на широких окнах лишь подчеркивали неживую пустоту коридора. За одной из трех железных дверей отрывисто стучали барабанные палочки и бравурно гудели трубы, наигрывая марш, отдаленно напоминающий "Эрику". Заметив на дверях таблички, Рудольф вчитался в остроконечные готические буквы. Театральная секция, музыкальная секция… Библиотека располагалась в самом конце коридора, и её дверь была распахнута настежь.
Рудольф расстегнул зимнюю шинель, тепло которой становилось в помещении невыносимым, и под оглушительный треск барабана прошел вперед. Переступив металлический порожек, Рудольф оказался в читальном зале, наполненном студенистым светом январского утра. Казенную серость помещения сглаживали потертый линолеум цвета сухой пшеницы и неказистая мебель лагерного производства. Со стены взирал на читательские столы портрет Геббельса, а возле окна, занавешенного всё тем же узорчатым тюлем, ютился стол библиотекаря. Проход, зияющий в дальнем углу, вел в смежную комнату с книжными шкафами. Слабо пахло хлоркой для мытья полов и дешевым одеколоном "Альпы", который можно было купить на любой станции Остбанна. В читальном зале не было никого, даже Рубинштейна.
"Отлынивает, свинья", - не без злорадства подумал Рудольф и подошел к библиотекарскому столу.
За белесой паутиной тюля возвышалась труба крематория, из неё валил черный дым. Рудольф понял, что вчерашний беглец скончался от естественных причин, и осмотрел лежащие на столе предметы. Ящичек с читательскими билетами, заполненными от руки, тюбик канцелярского клея, застиранный носовой платок, в темной клетке которого угадывались следы крови… Рудольф недоуменно моргнул. За стеной раскатисто громыхнула медь, и лагерный оркестр заиграл "Лору". В смежной комнате мягко зашуршали шаги.
Выпрямившись, Рудольф приготовился к встрече с Рубинштейном. Шорох валенок, ступавших по линолеуму, становился всё громче, и наконец в проходе показался худосочный мишлинг, который прижимал к груди стопку истрепанных книг. Заметив постороннего, мишлинг вскрикнул и непроизвольно отшатнулся.
- Имя-фамилия, - лаконично поинтересовался Рудольф.
- Борис Рубинштейн, - с хрипотцой ответил мишлинг. Положил книги на стол, он накрыл ими окровавленный платок и запоздало стянул с головы полосатый мютцен. На выцветших корешках слабо просматривались фамилии Зайдель и Беренс-Тотеноль[49].
[49] писательницы, которые были популярны в Третьем Рейхе в 30-ых годах
Рубинштейн стоял в потоке бледного света, как одеревенелый, и бесцельно поправлял темно-русые волосы, волнистой прядью ссыпающиеся на лоб. Худое землистое лицо, настороженные серые глаза и заостренный нос делали его похожим на галку, а полосатая роба и черный пиджак с нарукавной повязкой были новыми, но сидели на Рубинштейне мешковато, как на садовом пугале. Бирка с зеленым винкелем и личными данными лишь усиливала отталкивающее впечатление: восемнадцатилетнему убийце предстояло прожить в концлагере до конца семидесятых.
Рудольф осмотрел голую шею Рубинштейна, однако не заметил ни синяков, ни царапин, ни странгуляционной борозды.
- Ты почему такой напряженный? – прямо спросил он. Допрашивая мишлинга, можно было не ходить вокруг да около.
- Сложности адаптации, герр гауптштурмфюрер, - ответил тот по-немецки, и его левый глаз нервно дернулся.
- Какие, например? Штурмманн Страшко?
- Герр штурмманн? – опасливо переспросил Рубинштейн. – А что он такого сделал, что им интересуются в Берлине? И как я могу об этом знать, если сделал?
- Ты мне вопросом на вопрос не отвечай. Я, между прочим, ради тебя стараюсь. Не совсем, конечно, но если ты не будешь мне лгать, то твоя жизнь тоже станет намного приятнее.
- То есть, вы доложите обо всём начальству, герр штурмманн получит выговор, а я сразу же после этого вылечу в трубу, - сардонически усмехнулся Рубинштейн.
- Если не начнешь говорить сейчас, то администрация узнает, что ты пытался на меня напасть. Понятно тебе, сволочь? – парировал Рудольф. Он еле сдерживался, чтобы не выбить наглому мишлингу пару зубов.
Ход оказался удачным. Рубинштейн поник, словно ему на плечи взвалили тяжелую шпалу, и уставился на свои валенки.
- Мне всё понятно, герр гауптштурмфюрер, я расскажу… - пробормотал он.
Рудольф довольно хмыкнул, однако ему тут же представилось, как Рубинштейн деловито перезаряжает ружье, чтобы выстрелить в голову теплого трупа. Чувство превосходства испарилось, как стеклянная роса под зноем полудня. Оркестр за стеной сбился на атональную какофонию, вслед за которой раздался многоголосый смех.
"Как бы этот жиденок не добрался до Страшко раньше меня…" – засосало у Рудольфа под ложечкой. Отцу нужно было предъявить арестованного дегенерата, а не мертвого.
Сдвинув левый рукав пиджака, Рубинштейн продемонстрировал Рудольфу щуплое запястье, изуродованное мелкими ожогами. Розоватые рубцы, темные бляшки коросты и лопнувшие волдыри теснились друг к другу, как клопы в непотревоженном гнезде.
- Что это такое? – поморщился Рудольф. Раны неряшливый мишлинг не бинтовал, и самые свежие из них окружала красноватая кайма раздражения.
- Каждый понедельник, после банного дня герр штурмманн приходит в библиотеку, избивает меня, а потом придушивает локтем… - отрешенно заговорил Рубинштейн, удерживая на весу дрожащую руку. – Около пяти минут я нахожусь без сознания, и в это время герр штурмманн меня фотографирует. Когда я прихожу в себя, он тушит об мою руку окурок и уходит. Это было уже двенадцать раз.
Завершив свой краткий, но обстоятельный рассказ, Рубинштейн вернул рукав на место и снова поправил волосы. Рудольф сел на ближайший стул и попытался собрать из полученных показаний складную версию. Первым пришло осознание, что Октав, скорее всего, пережил нечто подобное и каким-то чудом вернулся в Европу уравновешенным – пожалуй, даже слишком уравновешенным. Затем возникло непрошеное подозрение: о наиболее постыдных моментах Рубинштейн вполне мог умолчать, справедливо полагая, что ему не поверят или вовсе сочтут виновным. Следовательно, и Октав…
- То есть, он тебя только душит и фотографирует? Больше ничего? – спросил Рудольф. Его голос прозвучал скорее обескураженно, чем веско.
- Больше ничего, - мрачным эхом повторил Рубинштейн.
- Почему ты так в этом уверен? Пока ты находишься без сознания…
- Господи, да нет же! Вы думаете, что я умственно отсталый? – вскинулся Рубинштейн, и его глаза почернели от злобы. - Неужели вы не понимаете, что всё гораздо хуже? Герр штурмманн говорит, что не собирается меня убивать, потому что сюда редко этапируют мишлингов, но…
- …он может убить тебя случайно, не рассчитав силу, - продолжил за него Рудольф и задумался. Чем больше он узнавал, тем запутаннее становилась ситуация.
- Именно так, - кивнул Рубинштейн.
- Ты видел фотографии?
- Да. Герр штурмманн иногда их мне показывает. Синяки, кровь, ноги в башмаках… Ничего эротического. Он снимает, как криминалист в морге.
Пытаясь игнорировать нестройный гул оркестра, доносившийся из-за стены, Рудольф тяжело вздохнул и помассировал пальцами переносицу. Рубинштейн, судя по его живой реакции, говорил правду. Страшко был не просто первертом, а весьма осторожным первертом с купированной совестью и искаженным эстетическим чувством. Нельзя было допустить, чтобы подобный психопат, к тому же, славянского происхождения, продолжал службу в рядах СС.
- Герр штурмманн однажды сказал мне, что я хороший эрзац, - обронил вдруг Рубинштейн.
- Эрзац чего? – занервничал Рудольф. Аморфное подозрение не желало облачаться в слова, оставаясь мучительным фантомом.
- Я не спрашивал. Возможно, это была шутка, - буркнул Рубинштейн. – Можете не волноваться, герр гауптштурмфюрер, о ваших вопросах никто не узнает. Я убийца, а не идиот.
Ощущение нереальности обволакивало Рудольфа, погружая его в абсурдистский спектакль по мотивам Кафки, насквозь невротичного еврейского писателя, которому повезло умереть до большой чистки. На первый этаж Рудольф вернулся, спустившись по лестнице чуть ли не бегом, а раболепное прощание Исаева, который нес в актовый зал охапку праздничных венков, не вызвало у него ожидаемой улыбки.
Остановившись на бетонном крыльце культурхауза, Рудольф стряхнул с себя вяжущий морок и вновь увидел мир, пронизанный порядком. На крышах мужских бараков серебрился снег, монотонно лязгали ломы хозобслуги, а промозглый ветер сносил в сторону административного сектора темные клочья крематорского дыма. Учуяв в воздухе сладковатый смрад, Рудольф порадовался тому, что форточку перед уходом все-таки не открыл.
День космонавтики прошел в рабочих хлопотах. Сопровождаемый Гельмутом, Рудольф бродил по мужскому сектору, вызывая нервозность то у блокфюреров[50], пытающихся выставить лагерную жизнь в лучшем свете, то у сосредоточенных капо, под показным оптимизмом которых проступал глубокий бытийный страх. Заключительным аккордом стал праздничный концерт в культурхаузе, после которого Рудольф вернулся в офицерское общежитие и занялся отчетами.
[50] староста блока из числа эсэсовцев
На смену мареновому закату пришла тяжелая мгла. В беззвездном небе заворочались лучи прожекторов, а студеный воздух наполнился хриплым лаем собак, который отдаленно напоминал придушенный голос Рубинштейна. Включив телевизор, Рудольф переоделся в теплую пижаму и забрался под одеяла. Сумрак скрадывал углы комнаты, искажая его дневные пропорции, а светло-коричневый колер стен казался в темноте грязно-рыжим, как размокшая глина.
По выпуклому экрану телевизора ползали серые волны помех. Они накатывались то на угловатый логотип регионального канала "Ост-Сибирь", то на танцующих в круге прожектора сестер Фляйш – двух молодых певиц нордического типажа, которые целомудренно покачивали складками баварских сарафанов и пели о первой любви. За музыкальной передачей последовал выпуск местных новостей. Улыбающаяся дикторша с пышным начесом докладывала об экономических достижениях Рейха, и её округлое балтийское лицо поминутно сменяли кадры, на которых золотились хлебные степи Туркестана, сверкали солнечным светом курорты Украины, мерно покачивались сизые волны Остланда…
Рудольф медленно сползал в омут сновидений, где дробились на фарфоровые осколки нефтеносный Кавказ, индустриальные гау Московии и шумящие леса Сибири. Подергивались яркие кадры, на которых поседевший Геббельс, профессионально играя старческим голосом, обращался к переполненному Дворцу спорта. Изможденный патриарх, некогда бывший юным провинциалом из Рейнланда, обеими руками опирался на трибуну с имперским орлом и предрекал Германии освоение Луны. На старомодном пиджаке Геббельса поблескивал золотой партийный значок.
Одеяла навалились на Рудольфа, как мерзлая земля. Слабо взмахнув трясущейся рукой, Геббельс констатировал паралич американской демократии, и праздничная речь затерялась в хаосе нутряного шума. Гремел медью торжественный марш, монотонно выла, как монструозный орган, артиллерийская канонада, крепли грубые инородные голоса. Исполненный достоинства баритон пел о Европе, а радиодиктор, гудящий, как иерихонская труба, зачитывал новостные сводки, в которых упоминались Берлин, капитуляция и Сталин.
Тяжело простонав, Рудольф перекатился набок и зарылся лицом в подушку. Геббельс окинул взглядом восторженную толпу и стал выше ростом, превратившись в грузного чернобрового старика, увешанного орденами и медалями. Сквозь суматошный хор шумов прорвался шамкающий голос, звуки которого смешивались в славянскую абракадабру.
Рудольф страдальчески промычал во сне. На пиджаке грузного старика недобро блестели золотисто-желтым пятиконечные звезды.
Под протяжный вой ветра в ночном небе медленно шевелились тучи. Мутное бельмо луны освещало землю, покрытую тонким слоем снега, безлюдные дороги Ораниенбурга, пролегающие между еловыми хребтами, и концлагерь Заксенхаузен, который возвышался на левом берегу озера Лениц. Сквозь лесополосу, минуя редкие фонари и рекламные щиты, неспешно ехал синий "ситроен". На выпуклом капоте тлело лунное серебро, желтые веера фар перекрещивались друг с другом, освещая ровный асфальт, а в зеркале заднего вида отражался полумрак салона. Опознание водителя затрудняли кожаные перчатки и черная шляпа, которые скрывали от мимолетных взглядов кривизну пальцев, семитский нос и сидящие на нем округлые очки. Октав Леопольд Гаже, - мишлинг второй степени, бывший узник концлагеря и последний представитель семьи Либерман, - внимательно вглядывался в сумеречный ландшафт.
День космонавтики достиг апогея. Почти все жители Ораниенбурга находились сейчас в Берлине, а наиболее удачливые из них внимали Геббельсу, выступающему с речью во Дворце спорта, и лишь сотрудники Заксенхаузена, которым не повезло с рабочей сменой, изредка возникали у дороги, как блуждающие призраки. Одни стояли с вытянутой рукой в ожидании попутной машины, а другие шли к станции, надеясь успеть на последний поезд, но объединяло их всех одно - желание поскорее сбежать от непогоды.
Миновав поворот, над которым нависал красный щит с рекламой "Нескафе", Октав заметил неподвижный мужской силуэт, очерченный бледным конусом фонаря. Прищурившись, Октав рассмотрел мужчину и разочарованно вздохнул. На обочине голосовал эсэсовец, одетый в черную шинель и фуражку: одна его рука держала пухлый портфель, а другая была вскинута в римском салюте, будто эсэсовец приветствовал невидимого партайгеноссе. Ни секунды не раздумывая, Октав проехал мимо. Подбирать такого попутчика было бы опрометчиво.
Никто из семьи Кляйн о намерениях Октава не знал, а если бы и знал, то явно их не одобрил бы, потому что первостепенной задачей для группировки был сейчас Рудольф фон Штакельберг - младший сын столичного гауляйтера и побочная обязанность Октава. Вот уже полгода безалаберный Штакельберг каждые выходные покупал у него кокаин и ежемесячно посещал "Лебенсборн", где спаривался с очередной расово чистой немкой. За это время он наплодил как минимум шестерых бракованных отпрысков. И хотя наблюдать за деградацией Штакельберга было приятно, Октав с горечью осознавал, что это лишь капля в море. Невозможность дожить до конца режима тяготила Октава сильнее, чем его стертое прошлое.
В бирюзовой темноте обозначились серые пятна, и Октав, вынырнув из раздумий, сбавил скорость - совсем немного, чтобы его маневр остался незамеченным. Пятна двигались навстречу, обретая с каждым метром черты живых существ, и совсем скоро в желтоватом свечении фар затрепетали, как сонные бражники, три шинели цвета фельдграу. Это были надзирательницы, которые брели в сторону станции и настороженно оглядывались. В зимних потемках тускло переливались мертвые головы, а на форменных ремнях, следуя за движениями ног, угрожающе покачивались резиновые дубинки. В компании подозрительного вурма надзирательницы явно не нуждались. "Ситроен" скрылся за пеленой сумрака, и путешествие Октава продолжилось.
По каскадам еловых лап катились невидимые волны. Скованное льдом озеро искрилось под лунным светом, как осколок звездного неба, а в туманной дымке дальнего берега вяло шевелил прожекторами Заксенхаузен. Октав поправил черепаховые очки, сползшие с переносицы, и стиснул зубы так сильно, что у него заныла челюсть. Отступать было некуда. Октав не сомневался, что инспектор Нейдорф откажется от ставшего бесполезным информатора, как только арестуют груз из Амстердама, а бегство в Соединенные Штаты провалится, обернувшись позорным арестом в аэропорту и последующим суицидом в тюремной камере. Представив свой синюшный труп, засунутый в петлю ссученным сокамерником или безликим надзирателем, Октав с шипением втянул в легкие воздух, будто ему на горло легла призрачная рука.
"Не для того я столько вытерпел, чтобы сдохнуть, как собака на живодерне", - совладал с собой Октав и выдохнул. Ощущение удушья исчезло.
Плавно изогнувшись, дорога устремилась в иссиня-черную даль, где тлели хрупкие огни фонарей. В их апатичном сиянии покачивалась зыбкая человеческая фигура, и чем различимее она становилась, тем сильнее Октав осознавал, что выбрал правильный маршрут. По заснеженной обочине, путаясь в ногах, как оживший кадавр, брел юный штурмманн СС. Расстегнутая куртка парусом хлопала на ветру, черное кепи косо сидело на белобрысой голове, а перекошенное лицо не выражало ничего, кроме пьяной прострации.
Октав сглотнул и впился в штурмманна тяжелым взглядом. Над кнопкой тормоза повис остроносый ботинок. Оставляя на влажном снегу витиеватую цепочку следов, нетрезвый штурмманн волочил за собой скошенную тень и вряд ли смог бы оказать сопротивление. Однако ровно в ту секунду, когда Октав уже готов был подобрать попутчика, на темном горизонте расцвела пара белых огней.
- Шлимазл... – пробормотал Октав сам себе и убрал ногу с кнопки тормоза.
Штурмманн остался позади, превратившись в крохотную деталь пейзажа, а белые огни разбухли и оказались фарами ярко-красного "фольксвагена", который ехал по встречной полосе. Проводив косым взглядом его отражение в зеркале заднего вида, Октав с неохотой поехал дальше. Работая на семью Кляйн, он твердо усвоил, что свидетелей следует либо избегать, либо уничтожать, и последнее всегда сопровождалось хлопотами. Лишняя грязь в планы Октава не входила. Он должен был вернуться в Берлин до рассвета, чтобы не вызвать ничьих подозрений.
В лесной чаще клубились холодные тени, одна пустынная развилка сменялась другой, а фонари то исчезали в январской мгле, то замерзшими цветами нависали над дорогой. Когда впереди синими мазками обрисовался рекламный щит "Nivea", на котором спортсменка в полосатом купальнике бежала сквозь прибрежные волны, Октав осклабился, но тут же напустил на себя угодливый вид. Под рекламным щитом, явно привлекая к себе внимание, махала рукой молодая надзирательница. Серые полы шинели бились об голенища сапог, из-под локтя отсвечивала красным лаком сумка, а льняные волосы едва доходили до подбородка. Из оружия у надзирательницы была только резиновая дубинка.
"Час дома, час в дороге. Успею", - прикинул Октав. Он подъехал к одинокой женщине и приоткрыл окно.
- Подбросишь до Зоо? Дам двадцать марок, - с улыбкой выпалила надзирательница сквозь сжатые зубы и тут же поморщилась, будто за рулем сидел тифозный больной. На образцовом нордическом лице проступила гримаса отвращения, а с серой пилотки на Октава оскалилась мертвая голова.
- Я не возьму с вас денег. Мне и самому нужно на Зоо, - понимающим тоном произнес Октав. Он осознал, что ему крупно повезло.
Станция метро "Зоологический сад" была одним из тех мест, где отоваривались берлинские первитинщики, а надзирательница, судя по трясущимся пальцам и черным монетам зрачков, была такой же бодрой, как Гитлер в свои последние годы. Октав открыл переднюю пассажирскую дверь и тут же почувствовал, как пробирается под пальто холодный воздух. Надзирательница мелькнула в свете фар и заняла предложенное место, наполнив салон сладковатым лилейным ароматом. Октав поежился. У него перед глазами встал эфемерный образ фрау Зоммерфельд.
- Ты ведь толкач, да? – фамильярно спросила надзирательница, убрав пилотку в сумку. – Если еврей ездит на дорогой машине, то он точно толкач.
- Я фармацевт, - уклончиво ответил Октав. Заметив, что он грассирует, надзирательница хихикнула:
- Ты прям как врач Эшпай, из той комедии про свадьбу.
- С меня его и писали, - отшутился Октав, ничем не выдавая своей досады. На фильм "С приветом из Штутгарта" он успел сходить еще в премьерные дни, и карикатурный образ еврея Эшпая, которому государство запретило работать по профессии, смешным Октаву не показался. В тот вечер он выпил больше чем обычно, а потом всю ночь практиковался в стрельбе.
Беззлобно посмеявшись над самоуничижительной шуткой Октава, надзирательница положила сумку на колени и уставилась в заоконную мглу. "Ситроен" тронулся с места, набрал скорость и поехал по направлению к Берлину. Октав был спокоен и готов ко всему, а заряженный "вальтер", наручники и шприц с кетамином лишь подкрепляли его уверенность в успехе. Вскоре в потемках замаячила уходящая вглубь леса грунтовка, и Октав счел это место весьма подходящим.
"Интересно, бьет ли она хефтлингов, как та сука Магалл? Наверняка бьет", - подумал он, сворачивая под черные своды лесополосы.
- Куда мы едем? – поинтересовалась надзирательница, выдавливая из себя улыбку.
- В Берлин. Так короче, - любезным тоном солгал Октав. Жертва оказалась слишком внимательной. Надо было срочно что-то предпринять.
Октав затормозил под ближайшим деревом, на лобовое стекло с шуршанием улеглись еловые ветви, и тускло освещенный салон наполнился паучьими лапами теней. Время растянулось, как горящая резина. Надзирательница медленно валилась на дверь, лакированная сумка сползала по бедру, готовясь упасть, а трясущаяся рука заторможенно тянулась к дубинке. Октав выхватил из кармана "вальтер", и надзирательница, увидев направленное на неё дуло, застыла в нелепой позе. Время возобновило свой ход. Сумка с глухим стуком упала под сиденье.
- Ни с места, - пригрозил Октав. Он надеялся, что надзирательницу не придется усыплять – это убило бы всё веселье.
- Что тебе…
Октав извлек из другого кармана наручники и кинул их надзирательнице на колени:
- Застегни себе руки за спиной, если не хочешь, чтобы я прострелил твой правильный череп.
Двигаясь с крайней осторожностью, надзирательница трясущимися пальцами заковала левое запястье и умоляюще взглянула на Октава. Под широкими полами шляпы грязно-желтыми огоньками поблескивали очки. Надзирательница поникла, завела за спину обе руки, и в повисшей тишине звонко щелкнул второй браслет. Октав убедился, что его приказ выполнен, и лишь затем спрятал "вальтер".
- Разве тебе в детстве не говорили, чтобы ты не садилась в машину к евреям? – вкрадчиво спросил он. – Если бы меня вдруг решил подвезти эсэсовец, я бы лучше пешком пошел.
- Что тебе надо? – задрожал у надзирательницы голос.
- Тебе всю жизнь внушали, что евреи несдержанные и похотливые. Но насиловать тебя я не собираюсь. Это варварство. Мне нужно кое-что другое.
Услышав последние слова, надзирательница коротко всхлипнула, и её лицо стало белым, как свечной парафин.
- Убивать тебя я тоже не собираюсь. Я хочу, чтобы ты выслушала историю моей жизни. Затем я покончу с собой, а ты сможешь идти куда угодно, - объяснил Октав. – И забрать мой первитин тоже сможешь. Я хотел его распродать, но он мне больше не нужен.
- Легавые поймут, что ты был не один в машине, они рано или поздно выйдут на меня… - пробормотала надзирательница, мелко стуча зубами. Октав хмыкнул. Иной реакции от наркоманки и не ожидалось.
- Во-первых, это произойдет не здесь, а у меня дома. Я живу возле озера. Во-вторых, никого они искать не будут. Кому охота расследовать самоубийство мишлинга? Так что все двести граммов достанутся тебе. Считай это компенсацией за то, что ты согласилась меня выслушать. Я невыносимый собеседник.
- Может ты тогда?..
- Нет. Побудешь в наручниках. Ключ у меня в кармане, заберешь его, когда я умру, - отрезал Октав, предугадав вопрос. – И помни, что если ты начнешь звать на помощь, то я застрелю и тебя, и свидетелей. Понятно?
Бледная надзирательница судорожно закивала. Довольный собой, Октав сдал назад и выехал на дорогу. Кончики пальцев покалывало, как это бывало раньше, когда юный Октав ходил по злачным аптекам Лемберга, не желая являться на танцы трезвым. Он вскинул подбородок и горделиво произнес:
- Меня зовут Октав Леопольд Гаже. Но мама называла меня Гершель.
Надзирательница закусила губу. Из-за туч вышла луна, окатив синевато-черные просторы фосфорическими бликами. На дорогу выползли искривленные тени дорожных знаков и подслеповатых фонарей.
- Моя бабушка была певицей и выступала в парижских кабаре. Мама всегда говорила, что я унаследовал бабушкину внешность, и я верил ей на слово, потому что родился уже после того, как бабушку убили твои коллеги. От неё не осталось даже семейных фотографий. Словно её никогда не существовало.
- А твоя мать? Она выглядела иначе? – несмело спросила надзирательница и съежилась, будто ожидая удара.
Октав усмехнулся. Теперь он понимал, какое чувство с самого рождения сопровождало изнеженного сверхчеловека Штакельберга, что закипало в сердце оберштурмфюрера Олендорфа, когда он шутки ради натравливал на хефтлингов свою овчарку, и почему комендант Менгеле с таким смакованием рассказывал прибывающим этапам о лагерном крематории.
- Маме повезло с внешностью. Светлые волосы, голубые глаза, вздернутый нос… - с тоской в голосе произнес Октав. - Когда всё началось, она вступила в фиктивный брак с каким-то французом и взяла его фамилию. Поначалу это помогало, однако в гетто маму всё равно переселили.
- У тебя немецкая челюсть, - ляпнула надзирательница. Она не могла пересилить свою временную говорливость и поэтому выражалась учтиво, чтобы не навлечь на себя застарелый гнев. Вот только наспех придуманная лесть несла в себе издевательский подтекст, самой надзирательницей даже не осознаваемый.
- Мой отец нацист. Я переехал к нему, когда мне было тринадцать. Меня в тот год стерилизовали, - помрачнел Октав и язвительно добавил. - Сумасшедший фанатик решил, что мы должны исчезнуть с лица земли, а немцы обязаны плодиться на благо фатерлянда, как тараканы.
- Мы не…
- Гитлер утверждал, что народные массы подобны женщине. И у меня складывается впечатление, что эта женщина совсем не разбирается в мужчинах. Похоронив бесноватого психопата, она тут же упала в объятия хромого карлика.
- Зачем ты меня оскорбляешь? – заплакала надзирательница, не выдержав насмешек. – Тебе разрешили жить…
- Убив моих родственников и сделав меня бесплодным! А ты еще смеешь спрашивать, почему я тебя оскорбляю?! – сорвался на крик Октав.
Втянув голову в плечи, надзирательница умолкла. За малахитово-черной грядой ельника мелькнуло обледенелое озеро. Октав тяжело вздохнул, и у него в памяти всплыла давно забытая иллюстрация из детской книги тридцатых годов: молодой еврей в очках прижимал связанную корову к полу, держа её за перекошенную морду, бородатый шойхет[51] в черной шляпе рассекал ножом коровье горло, а мощная струя артериальной крови брызгала в подставленные ведра. Октав покосился на сгорбленную надзирательницу и пожалел, что сегодня придется обойтись малым.
[51] забойщик скота в еврейской общине
- Плохо быть мишлингом и жить в гетто, но гораздо хуже быть мишлингом и жить в Лемберге, - продолжил он, поддавшись приливу недоброго веселья. – Мачеха относилась ко мне холодно, а брат из "Лебенсборна" вел себя, как обычный гитлерюнге, то есть, называл меня Поганкой. Но дальше этого дело не заходило. Отец запрещал им издеваться надо мной. Я прожил с ним пять лет, но так и не понял, что сподвигло его на такую гуманность.
- Наверное, он любил твою мать…
- И поэтому взял меня в дом, где жил другой его сын, начитавшийся штрайхеровских книжонок про врачей-насильников, ушлых адвокатов и шойхетов! – воскликнул Октав, путая языки. - Подумать только, притащить мишлинга в Лемберг! Он должен был оставить меня в Париже! Когда я работал в аптеке, этот хохол отказывался повышать мне зарплату! "У меня проблемы с судебными приставами", "у меня заболела сестра", "у меня заболела собака"… Я что, хуже собаки?
Смысл незнакомых слов от надзирательницы явно ускользнул, однако переспросить она не решилась и лишь потупилась, избегая горячечного взгляда Октава.
- И кому я вообще задаю этот вопрос? Само собой, ты считаешь, что я хуже собаки. Хуже чертовой собаки!
Поняв, что он слишком распалился, Октав замолчал. Надзирательница сидела с поникшей головой и боялась даже пошевелиться. Октав был убежден, что с самого начала поездки она смотрела на него через осколок кривого зеркала и видела перед собой картавящего выродка в черных одеждах, крючконосое существо с жадным ртом и черными, как уголь, глазами…
- Ты похожа на певицу, - с издевкой произнес он.
- На какую? – машинально спросила надзирательница, не поднимая головы.
- Да на любую. Светлые волосы, голубые глаза и арийская внешность. Эти живые пособия с кафедры расовой науки вызывают у меня еще большее отвращение, чем факельные шествия, а от слащавых шлягеров про размножение меня начинает тошнить. Вы поете либо о пушечном мясе, либо о том, как хорошо рожать пушечное мясо. А дегенеративным почему-то считается "еврейское искусство".
Надзирательница хлюпнула носом и вновь расплакалась. Октав попытался представить себя в её шкуре, но вместо этого вспомнил сухой воздух лагерной библиотеки, собственное прерывистое дыхание, растворяющееся в обморочной мути, и табачную вонь, смешанную со свежестью одеколона "Альпы". Октав приготовился к очередному приступу удушья, однако впервые с декабря ничего не ощутил.
- Не бойся, я почти закончил, - глумливо утешил он плачущую надзирательницу, - скоро я избавлю тебя от своей компании, и тебе больше не придется выслушивать жалобы свихнувшегося жида.
Сужаясь и переходя в грунт, дорога постепенно спустилась на пологий берег. За еловыми стволами мертвенно переливался озерный лед, а в поросли можжевеловых кустов таился небольшой дом с черными окнами, арендованный на имя Йозефа Рихтера. "Ситроен" остановился перед коваными воротами, и желтоватый свет фар, просочившись сквозь завитки ограды, блеклыми мазками лег на дорожку, ведущую к крыльцу. Ветер пронзительно выл, дергая за красные ленты йольский венок над дверью, а праздничные гирлянды из шишек, висящие поверх окон, жалобно стукались об стекло. В голом саду тут и там виднелся кашеобразный снег.
К удивлению Октава, сбежать надзирательница не пыталась. Пока он отпирал ворота и парковался во дворе, она лишь несмело оглядывалась и ерзала в кресле, но не говорила ни слова. Когда Октав галантно взял надзирательницу под руку и провел её в дом, ответом на это стала не брезгливая гримаса, а тихая благодарность. Кажется, надзирательница действительно рассчитывала остаться в плюсе, хотя ни грамма первитина в доме не было.
Близорукие глаза Октава медленно привыкали к сумраку дома, а с запотевших очков неспешно испарялась белесая дымка. Дойдя до порога гостиной, Октав остановился и схватил надзирательницу за локоть, чтобы та раньше времени не ушла вперед. Когда дымка исчезла, Октав с облегчением увидел косой штрих лунного света, в котором отпечатывались две вытянутые тени. На кофейном столике поблескивала стеклянная пепельница.
- Садись. Диван там, - приказал Октав и мягко толкнул надзирательницу в сторону столика, рядом с которым, хорошенько приглядевшись, можно было заметить очертания чего-то объемного.
Слабо переставляя негнущиеся ноги, надзирательница уткнулась животом в подлокотник, вслепую его обошла и рухнула на диван, тут же занывший пружинами. Хромая мужская тень исчезла во мраке гостиной, и через несколько секунд налился приглушенным светом малиновый торшер. Непроглядная пустота сменилась голубыми обоями в цветочек и задернутыми шторами, а в большом зеркале отразился полынного цвета диван, на котором сидела обессилевшая надзирательница со скованными за спиной руками.
Повернувшись к ней, Октав расстегнул пальто и достал из кармана пиджака черепаховый портсигар. Лязгнула зажигалка, вздрогнул язычок огня, очертив тенями строгое лицо с хищным птичьим носом, и к потолку, спотыкаясь об полы шляпы, потянулся сизый дым. Надзирательница поежилась и плотно сдвинула колени.
- На чем мы остановились? – едко поинтересовался Октав. - И не надо делать такое лицо. Я же говорил, что я невыносимый собеседник.
- На певицах… - тихо сказала она.
- Точно, - улыбнулся Октав, обнажив ровные зубы. – Больше всех остальных меня раздражают сестры Фляйш. Манекенщицы, которым медведь на ухо наступил, поют о любви, изображают пасторальных крестьянок и отплясывают народные танцы. Когда я переключаю каналы и случайно натыкаюсь на их выступление, я представляю, как выпускаю им кишки, и невольно вспоминаю о бабушке. Пытаюсь понять, что она чувствовала в последние мгновения своей жизни…
Подойдя к кофейному столику, Октав стряхнул пепел и опечаленно посмотрел на надзирательницу сверху вниз:
- Сестры Фляйш, конечно же, умрут в комфортабельной палате "Шарите", а моей бабушке такое уже не грозит. Её забрали в Аушвиц, и она исчезла без следа. Когда американцы опубликовали фотографии газовых камер, трупов и крематориев, я понял… Исчезла моя бабушка действительно без следа.
Надзирательница искривила губы, сдерживая то ли плач, то ли порыв отвращения. Её зрачки уже не были такими большими, и теперь можно было разглядеть синие кольца радужки.
- Чудовищное лицемерие. Сначала вы травите людей газом, как паразитов, а потом утверждаете, что у евреев патологическое чувство юмора, - разочарованно произнес Октав. Затянувшись, он выпустил дым надзирательнице в лицо.
- Я такого не говорила…
- Не говорила. Но ты так считаешь. Знаешь, мне довелось сидеть в концлагере, где находился один из таких крематориев. В конце войны там сжигали восточное население. Евреев, коммунистов, партизан… И у меня, наверное, слегка помутился рассудок, потому что когда я вернулся в Европу, то еще несколько месяцев чувствовал запах гари. Ты даже представить не можешь, как это было мерзко. Одежда, еда, одеколон – всё пахло паленой человечиной…
Вязкую тишину разорвали прерывистые рыдания, перемежаемые невнятным шепотом. Надзирательница содрогалась всем телом, как мучимая тошнотой кошка.
- Почему ты плачешь? Вы победили. Это я должен плакать.
Отложив сигарету в пепельницу, Октав сел на диван. Все шесть чувств будто обострились, и он с небывалой ясностью осознал, что в полуметре от него конвульсивно рыдает молодой организм, способный выносить нескольких здоровых детей. Кончик сигареты тлел в пепельнице алым светлячком.
- Я тоскую по миру, которого никогда не видел, - произнес Октав, в упор глядя на надзирательницу, - я не знаю, как тогда жили люди, потому что мама не желала даже вспоминать об этом. Я не знаю, каким был тот мир, зато знаю, как он исчез.
Надзирательница оторопело уставилась на Октава. Льняные волосы неряшливо висели вдоль бескровного лица, с заплаканных глаз черными потеками струилась тушь, а искусанные губы беззвучно шевелились. Октав расплылся в довольной улыбке:
- Ты наверняка знаешь, что "Циклон-Б" был создан на основе цианистого калия, который является солью синильной кислоты, синтезированной из синей краски оттенка "берлинская лазурь"…
- Зачем ты мне об этом рассказываешь? Перестань! Больше никого не травят! – горестно простонала надзирательница.
Октав промолчал. Вытащив из кармана пиджака металлический цилиндр размером с мизинец, он открутил крышку и продемонстрировал надзирательнице стеклянную ампулу с белым порошком. Надзирательница растерянно моргнула.
- Самоубийство – удел трусливых, - злорадно произнес Октав, держа ампулу в левой руке. – А я не трус. Сегодня мы с тобой поменяемся местами.
Во взгляде надзирательницы проступило тяжелое осознание. Испачканное тушью лицо уродливо исказилось, предвещая крик, но Октав ударил надзирательницу кулаком по виску и повалил на диван. Не мешкая ни секунды, он осуществил то, к чему так долго готовился. Разжав обмякшей надзирательнице рот, Октав вложил в него ампулу с цианистым калием и несколько раз, поудобнее ухватив белокурую голову, щелкнул чужими челюстями. Лязгнули зубы, раздался тихий хруст. Синие глаза распахнулись и остекленели.
- Finster zol dir vern[52]! - торжествующе выпалил Октав. Встав с дивана, он отошел в сторону, чтобы лишний раз не дышать ядовитыми парами.
[52] "Чтоб тебе принадлежала тьма!" (идиш)
Надзирательница умирала. Тело билось в судорогах, из легких вырывались надсадные хрипы, а некогда бледное лицо покрывалось патиной румянца. Стоя в трех шагах от гибнущего организма, Октав запечатлевал в памяти каждое мгновение чужого удушья и чувствовал, как умирает что-то не только перед ним, но и внутри него. Лицо надзирательницы превращалось в грязно-розовую маску с черным зевом рта, где поблескивало кровью стеклянное крошево, а глаза цвета берлинской лазури заволакивал предельный ужас.
Через минуту судороги прекратились, а вместе с ними исчезло и воодушевление Октава. Сделав робкий шаг, он без сил опустился на диван и уставился в одну точку. Окурок дотлевал, помигивая красноватым огоньком.
Опомнившись, Октав посмотрел на наручные часы с крокодиловым ремешком. Стрелки близились к двум. Под ремешком виднелась бледная россыпь сигаретных ожогов, окаймляющая запястье. Октав нахмурился и вернул рукав на место: ему не хотелось лишний раз смотреть на ожоги, которыми штурмманн Страшко завершал каждый свой визит. Было этих визитов двадцать четыре, и Октав помнил всё до мельчайших подробностей, хотя Страшко, ведомый анатомическим любопытством, стремился к обратному.
Октав поправил перчатки, и его губы изогнулись в усталой, но довольной улыбке. Самая сложная часть плана осталась позади. Теперь труп надзирательницы нужно было выбросить в лесу, чтобы его в ближайшие дни обнаружили грибники, а затем немного выждать и встретиться с Хайни, который так гордился своим немецким происхождением.
День космонавтики достиг апогея. Почти все жители Ораниенбурга находились сейчас в Берлине, а наиболее удачливые из них внимали Геббельсу, выступающему с речью во Дворце спорта, и лишь сотрудники Заксенхаузена, которым не повезло с рабочей сменой, изредка возникали у дороги, как блуждающие призраки. Одни стояли с вытянутой рукой в ожидании попутной машины, а другие шли к станции, надеясь успеть на последний поезд, но объединяло их всех одно - желание поскорее сбежать от непогоды.
Миновав поворот, над которым нависал красный щит с рекламой "Нескафе", Октав заметил неподвижный мужской силуэт, очерченный бледным конусом фонаря. Прищурившись, Октав рассмотрел мужчину и разочарованно вздохнул. На обочине голосовал эсэсовец, одетый в черную шинель и фуражку: одна его рука держала пухлый портфель, а другая была вскинута в римском салюте, будто эсэсовец приветствовал невидимого партайгеноссе. Ни секунды не раздумывая, Октав проехал мимо. Подбирать такого попутчика было бы опрометчиво.
Никто из семьи Кляйн о намерениях Октава не знал, а если бы и знал, то явно их не одобрил бы, потому что первостепенной задачей для группировки был сейчас Рудольф фон Штакельберг - младший сын столичного гауляйтера и побочная обязанность Октава. Вот уже полгода безалаберный Штакельберг каждые выходные покупал у него кокаин и ежемесячно посещал "Лебенсборн", где спаривался с очередной расово чистой немкой. За это время он наплодил как минимум шестерых бракованных отпрысков. И хотя наблюдать за деградацией Штакельберга было приятно, Октав с горечью осознавал, что это лишь капля в море. Невозможность дожить до конца режима тяготила Октава сильнее, чем его стертое прошлое.
В бирюзовой темноте обозначились серые пятна, и Октав, вынырнув из раздумий, сбавил скорость - совсем немного, чтобы его маневр остался незамеченным. Пятна двигались навстречу, обретая с каждым метром черты живых существ, и совсем скоро в желтоватом свечении фар затрепетали, как сонные бражники, три шинели цвета фельдграу. Это были надзирательницы, которые брели в сторону станции и настороженно оглядывались. В зимних потемках тускло переливались мертвые головы, а на форменных ремнях, следуя за движениями ног, угрожающе покачивались резиновые дубинки. В компании подозрительного вурма надзирательницы явно не нуждались. "Ситроен" скрылся за пеленой сумрака, и путешествие Октава продолжилось.
По каскадам еловых лап катились невидимые волны. Скованное льдом озеро искрилось под лунным светом, как осколок звездного неба, а в туманной дымке дальнего берега вяло шевелил прожекторами Заксенхаузен. Октав поправил черепаховые очки, сползшие с переносицы, и стиснул зубы так сильно, что у него заныла челюсть. Отступать было некуда. Октав не сомневался, что инспектор Нейдорф откажется от ставшего бесполезным информатора, как только арестуют груз из Амстердама, а бегство в Соединенные Штаты провалится, обернувшись позорным арестом в аэропорту и последующим суицидом в тюремной камере. Представив свой синюшный труп, засунутый в петлю ссученным сокамерником или безликим надзирателем, Октав с шипением втянул в легкие воздух, будто ему на горло легла призрачная рука.
"Не для того я столько вытерпел, чтобы сдохнуть, как собака на живодерне", - совладал с собой Октав и выдохнул. Ощущение удушья исчезло.
Плавно изогнувшись, дорога устремилась в иссиня-черную даль, где тлели хрупкие огни фонарей. В их апатичном сиянии покачивалась зыбкая человеческая фигура, и чем различимее она становилась, тем сильнее Октав осознавал, что выбрал правильный маршрут. По заснеженной обочине, путаясь в ногах, как оживший кадавр, брел юный штурмманн СС. Расстегнутая куртка парусом хлопала на ветру, черное кепи косо сидело на белобрысой голове, а перекошенное лицо не выражало ничего, кроме пьяной прострации.
Октав сглотнул и впился в штурмманна тяжелым взглядом. Над кнопкой тормоза повис остроносый ботинок. Оставляя на влажном снегу витиеватую цепочку следов, нетрезвый штурмманн волочил за собой скошенную тень и вряд ли смог бы оказать сопротивление. Однако ровно в ту секунду, когда Октав уже готов был подобрать попутчика, на темном горизонте расцвела пара белых огней.
- Шлимазл... – пробормотал Октав сам себе и убрал ногу с кнопки тормоза.
Штурмманн остался позади, превратившись в крохотную деталь пейзажа, а белые огни разбухли и оказались фарами ярко-красного "фольксвагена", который ехал по встречной полосе. Проводив косым взглядом его отражение в зеркале заднего вида, Октав с неохотой поехал дальше. Работая на семью Кляйн, он твердо усвоил, что свидетелей следует либо избегать, либо уничтожать, и последнее всегда сопровождалось хлопотами. Лишняя грязь в планы Октава не входила. Он должен был вернуться в Берлин до рассвета, чтобы не вызвать ничьих подозрений.
В лесной чаще клубились холодные тени, одна пустынная развилка сменялась другой, а фонари то исчезали в январской мгле, то замерзшими цветами нависали над дорогой. Когда впереди синими мазками обрисовался рекламный щит "Nivea", на котором спортсменка в полосатом купальнике бежала сквозь прибрежные волны, Октав осклабился, но тут же напустил на себя угодливый вид. Под рекламным щитом, явно привлекая к себе внимание, махала рукой молодая надзирательница. Серые полы шинели бились об голенища сапог, из-под локтя отсвечивала красным лаком сумка, а льняные волосы едва доходили до подбородка. Из оружия у надзирательницы была только резиновая дубинка.
"Час дома, час в дороге. Успею", - прикинул Октав. Он подъехал к одинокой женщине и приоткрыл окно.
- Подбросишь до Зоо? Дам двадцать марок, - с улыбкой выпалила надзирательница сквозь сжатые зубы и тут же поморщилась, будто за рулем сидел тифозный больной. На образцовом нордическом лице проступила гримаса отвращения, а с серой пилотки на Октава оскалилась мертвая голова.
- Я не возьму с вас денег. Мне и самому нужно на Зоо, - понимающим тоном произнес Октав. Он осознал, что ему крупно повезло.
Станция метро "Зоологический сад" была одним из тех мест, где отоваривались берлинские первитинщики, а надзирательница, судя по трясущимся пальцам и черным монетам зрачков, была такой же бодрой, как Гитлер в свои последние годы. Октав открыл переднюю пассажирскую дверь и тут же почувствовал, как пробирается под пальто холодный воздух. Надзирательница мелькнула в свете фар и заняла предложенное место, наполнив салон сладковатым лилейным ароматом. Октав поежился. У него перед глазами встал эфемерный образ фрау Зоммерфельд.
- Ты ведь толкач, да? – фамильярно спросила надзирательница, убрав пилотку в сумку. – Если еврей ездит на дорогой машине, то он точно толкач.
- Я фармацевт, - уклончиво ответил Октав. Заметив, что он грассирует, надзирательница хихикнула:
- Ты прям как врач Эшпай, из той комедии про свадьбу.
- С меня его и писали, - отшутился Октав, ничем не выдавая своей досады. На фильм "С приветом из Штутгарта" он успел сходить еще в премьерные дни, и карикатурный образ еврея Эшпая, которому государство запретило работать по профессии, смешным Октаву не показался. В тот вечер он выпил больше чем обычно, а потом всю ночь практиковался в стрельбе.
Беззлобно посмеявшись над самоуничижительной шуткой Октава, надзирательница положила сумку на колени и уставилась в заоконную мглу. "Ситроен" тронулся с места, набрал скорость и поехал по направлению к Берлину. Октав был спокоен и готов ко всему, а заряженный "вальтер", наручники и шприц с кетамином лишь подкрепляли его уверенность в успехе. Вскоре в потемках замаячила уходящая вглубь леса грунтовка, и Октав счел это место весьма подходящим.
"Интересно, бьет ли она хефтлингов, как та сука Магалл? Наверняка бьет", - подумал он, сворачивая под черные своды лесополосы.
- Куда мы едем? – поинтересовалась надзирательница, выдавливая из себя улыбку.
- В Берлин. Так короче, - любезным тоном солгал Октав. Жертва оказалась слишком внимательной. Надо было срочно что-то предпринять.
Октав затормозил под ближайшим деревом, на лобовое стекло с шуршанием улеглись еловые ветви, и тускло освещенный салон наполнился паучьими лапами теней. Время растянулось, как горящая резина. Надзирательница медленно валилась на дверь, лакированная сумка сползала по бедру, готовясь упасть, а трясущаяся рука заторможенно тянулась к дубинке. Октав выхватил из кармана "вальтер", и надзирательница, увидев направленное на неё дуло, застыла в нелепой позе. Время возобновило свой ход. Сумка с глухим стуком упала под сиденье.
- Ни с места, - пригрозил Октав. Он надеялся, что надзирательницу не придется усыплять – это убило бы всё веселье.
- Что тебе…
Октав извлек из другого кармана наручники и кинул их надзирательнице на колени:
- Застегни себе руки за спиной, если не хочешь, чтобы я прострелил твой правильный череп.
Двигаясь с крайней осторожностью, надзирательница трясущимися пальцами заковала левое запястье и умоляюще взглянула на Октава. Под широкими полами шляпы грязно-желтыми огоньками поблескивали очки. Надзирательница поникла, завела за спину обе руки, и в повисшей тишине звонко щелкнул второй браслет. Октав убедился, что его приказ выполнен, и лишь затем спрятал "вальтер".
- Разве тебе в детстве не говорили, чтобы ты не садилась в машину к евреям? – вкрадчиво спросил он. – Если бы меня вдруг решил подвезти эсэсовец, я бы лучше пешком пошел.
- Что тебе надо? – задрожал у надзирательницы голос.
- Тебе всю жизнь внушали, что евреи несдержанные и похотливые. Но насиловать тебя я не собираюсь. Это варварство. Мне нужно кое-что другое.
Услышав последние слова, надзирательница коротко всхлипнула, и её лицо стало белым, как свечной парафин.
- Убивать тебя я тоже не собираюсь. Я хочу, чтобы ты выслушала историю моей жизни. Затем я покончу с собой, а ты сможешь идти куда угодно, - объяснил Октав. – И забрать мой первитин тоже сможешь. Я хотел его распродать, но он мне больше не нужен.
- Легавые поймут, что ты был не один в машине, они рано или поздно выйдут на меня… - пробормотала надзирательница, мелко стуча зубами. Октав хмыкнул. Иной реакции от наркоманки и не ожидалось.
- Во-первых, это произойдет не здесь, а у меня дома. Я живу возле озера. Во-вторых, никого они искать не будут. Кому охота расследовать самоубийство мишлинга? Так что все двести граммов достанутся тебе. Считай это компенсацией за то, что ты согласилась меня выслушать. Я невыносимый собеседник.
- Может ты тогда?..
- Нет. Побудешь в наручниках. Ключ у меня в кармане, заберешь его, когда я умру, - отрезал Октав, предугадав вопрос. – И помни, что если ты начнешь звать на помощь, то я застрелю и тебя, и свидетелей. Понятно?
Бледная надзирательница судорожно закивала. Довольный собой, Октав сдал назад и выехал на дорогу. Кончики пальцев покалывало, как это бывало раньше, когда юный Октав ходил по злачным аптекам Лемберга, не желая являться на танцы трезвым. Он вскинул подбородок и горделиво произнес:
- Меня зовут Октав Леопольд Гаже. Но мама называла меня Гершель.
Надзирательница закусила губу. Из-за туч вышла луна, окатив синевато-черные просторы фосфорическими бликами. На дорогу выползли искривленные тени дорожных знаков и подслеповатых фонарей.
- Моя бабушка была певицей и выступала в парижских кабаре. Мама всегда говорила, что я унаследовал бабушкину внешность, и я верил ей на слово, потому что родился уже после того, как бабушку убили твои коллеги. От неё не осталось даже семейных фотографий. Словно её никогда не существовало.
- А твоя мать? Она выглядела иначе? – несмело спросила надзирательница и съежилась, будто ожидая удара.
Октав усмехнулся. Теперь он понимал, какое чувство с самого рождения сопровождало изнеженного сверхчеловека Штакельберга, что закипало в сердце оберштурмфюрера Олендорфа, когда он шутки ради натравливал на хефтлингов свою овчарку, и почему комендант Менгеле с таким смакованием рассказывал прибывающим этапам о лагерном крематории.
- Маме повезло с внешностью. Светлые волосы, голубые глаза, вздернутый нос… - с тоской в голосе произнес Октав. - Когда всё началось, она вступила в фиктивный брак с каким-то французом и взяла его фамилию. Поначалу это помогало, однако в гетто маму всё равно переселили.
- У тебя немецкая челюсть, - ляпнула надзирательница. Она не могла пересилить свою временную говорливость и поэтому выражалась учтиво, чтобы не навлечь на себя застарелый гнев. Вот только наспех придуманная лесть несла в себе издевательский подтекст, самой надзирательницей даже не осознаваемый.
- Мой отец нацист. Я переехал к нему, когда мне было тринадцать. Меня в тот год стерилизовали, - помрачнел Октав и язвительно добавил. - Сумасшедший фанатик решил, что мы должны исчезнуть с лица земли, а немцы обязаны плодиться на благо фатерлянда, как тараканы.
- Мы не…
- Гитлер утверждал, что народные массы подобны женщине. И у меня складывается впечатление, что эта женщина совсем не разбирается в мужчинах. Похоронив бесноватого психопата, она тут же упала в объятия хромого карлика.
- Зачем ты меня оскорбляешь? – заплакала надзирательница, не выдержав насмешек. – Тебе разрешили жить…
- Убив моих родственников и сделав меня бесплодным! А ты еще смеешь спрашивать, почему я тебя оскорбляю?! – сорвался на крик Октав.
Втянув голову в плечи, надзирательница умолкла. За малахитово-черной грядой ельника мелькнуло обледенелое озеро. Октав тяжело вздохнул, и у него в памяти всплыла давно забытая иллюстрация из детской книги тридцатых годов: молодой еврей в очках прижимал связанную корову к полу, держа её за перекошенную морду, бородатый шойхет[51] в черной шляпе рассекал ножом коровье горло, а мощная струя артериальной крови брызгала в подставленные ведра. Октав покосился на сгорбленную надзирательницу и пожалел, что сегодня придется обойтись малым.
[51] забойщик скота в еврейской общине
- Плохо быть мишлингом и жить в гетто, но гораздо хуже быть мишлингом и жить в Лемберге, - продолжил он, поддавшись приливу недоброго веселья. – Мачеха относилась ко мне холодно, а брат из "Лебенсборна" вел себя, как обычный гитлерюнге, то есть, называл меня Поганкой. Но дальше этого дело не заходило. Отец запрещал им издеваться надо мной. Я прожил с ним пять лет, но так и не понял, что сподвигло его на такую гуманность.
- Наверное, он любил твою мать…
- И поэтому взял меня в дом, где жил другой его сын, начитавшийся штрайхеровских книжонок про врачей-насильников, ушлых адвокатов и шойхетов! – воскликнул Октав, путая языки. - Подумать только, притащить мишлинга в Лемберг! Он должен был оставить меня в Париже! Когда я работал в аптеке, этот хохол отказывался повышать мне зарплату! "У меня проблемы с судебными приставами", "у меня заболела сестра", "у меня заболела собака"… Я что, хуже собаки?
Смысл незнакомых слов от надзирательницы явно ускользнул, однако переспросить она не решилась и лишь потупилась, избегая горячечного взгляда Октава.
- И кому я вообще задаю этот вопрос? Само собой, ты считаешь, что я хуже собаки. Хуже чертовой собаки!
Поняв, что он слишком распалился, Октав замолчал. Надзирательница сидела с поникшей головой и боялась даже пошевелиться. Октав был убежден, что с самого начала поездки она смотрела на него через осколок кривого зеркала и видела перед собой картавящего выродка в черных одеждах, крючконосое существо с жадным ртом и черными, как уголь, глазами…
- Ты похожа на певицу, - с издевкой произнес он.
- На какую? – машинально спросила надзирательница, не поднимая головы.
- Да на любую. Светлые волосы, голубые глаза и арийская внешность. Эти живые пособия с кафедры расовой науки вызывают у меня еще большее отвращение, чем факельные шествия, а от слащавых шлягеров про размножение меня начинает тошнить. Вы поете либо о пушечном мясе, либо о том, как хорошо рожать пушечное мясо. А дегенеративным почему-то считается "еврейское искусство".
Надзирательница хлюпнула носом и вновь расплакалась. Октав попытался представить себя в её шкуре, но вместо этого вспомнил сухой воздух лагерной библиотеки, собственное прерывистое дыхание, растворяющееся в обморочной мути, и табачную вонь, смешанную со свежестью одеколона "Альпы". Октав приготовился к очередному приступу удушья, однако впервые с декабря ничего не ощутил.
- Не бойся, я почти закончил, - глумливо утешил он плачущую надзирательницу, - скоро я избавлю тебя от своей компании, и тебе больше не придется выслушивать жалобы свихнувшегося жида.
Сужаясь и переходя в грунт, дорога постепенно спустилась на пологий берег. За еловыми стволами мертвенно переливался озерный лед, а в поросли можжевеловых кустов таился небольшой дом с черными окнами, арендованный на имя Йозефа Рихтера. "Ситроен" остановился перед коваными воротами, и желтоватый свет фар, просочившись сквозь завитки ограды, блеклыми мазками лег на дорожку, ведущую к крыльцу. Ветер пронзительно выл, дергая за красные ленты йольский венок над дверью, а праздничные гирлянды из шишек, висящие поверх окон, жалобно стукались об стекло. В голом саду тут и там виднелся кашеобразный снег.
К удивлению Октава, сбежать надзирательница не пыталась. Пока он отпирал ворота и парковался во дворе, она лишь несмело оглядывалась и ерзала в кресле, но не говорила ни слова. Когда Октав галантно взял надзирательницу под руку и провел её в дом, ответом на это стала не брезгливая гримаса, а тихая благодарность. Кажется, надзирательница действительно рассчитывала остаться в плюсе, хотя ни грамма первитина в доме не было.
Близорукие глаза Октава медленно привыкали к сумраку дома, а с запотевших очков неспешно испарялась белесая дымка. Дойдя до порога гостиной, Октав остановился и схватил надзирательницу за локоть, чтобы та раньше времени не ушла вперед. Когда дымка исчезла, Октав с облегчением увидел косой штрих лунного света, в котором отпечатывались две вытянутые тени. На кофейном столике поблескивала стеклянная пепельница.
- Садись. Диван там, - приказал Октав и мягко толкнул надзирательницу в сторону столика, рядом с которым, хорошенько приглядевшись, можно было заметить очертания чего-то объемного.
Слабо переставляя негнущиеся ноги, надзирательница уткнулась животом в подлокотник, вслепую его обошла и рухнула на диван, тут же занывший пружинами. Хромая мужская тень исчезла во мраке гостиной, и через несколько секунд налился приглушенным светом малиновый торшер. Непроглядная пустота сменилась голубыми обоями в цветочек и задернутыми шторами, а в большом зеркале отразился полынного цвета диван, на котором сидела обессилевшая надзирательница со скованными за спиной руками.
Повернувшись к ней, Октав расстегнул пальто и достал из кармана пиджака черепаховый портсигар. Лязгнула зажигалка, вздрогнул язычок огня, очертив тенями строгое лицо с хищным птичьим носом, и к потолку, спотыкаясь об полы шляпы, потянулся сизый дым. Надзирательница поежилась и плотно сдвинула колени.
- На чем мы остановились? – едко поинтересовался Октав. - И не надо делать такое лицо. Я же говорил, что я невыносимый собеседник.
- На певицах… - тихо сказала она.
- Точно, - улыбнулся Октав, обнажив ровные зубы. – Больше всех остальных меня раздражают сестры Фляйш. Манекенщицы, которым медведь на ухо наступил, поют о любви, изображают пасторальных крестьянок и отплясывают народные танцы. Когда я переключаю каналы и случайно натыкаюсь на их выступление, я представляю, как выпускаю им кишки, и невольно вспоминаю о бабушке. Пытаюсь понять, что она чувствовала в последние мгновения своей жизни…
Подойдя к кофейному столику, Октав стряхнул пепел и опечаленно посмотрел на надзирательницу сверху вниз:
- Сестры Фляйш, конечно же, умрут в комфортабельной палате "Шарите", а моей бабушке такое уже не грозит. Её забрали в Аушвиц, и она исчезла без следа. Когда американцы опубликовали фотографии газовых камер, трупов и крематориев, я понял… Исчезла моя бабушка действительно без следа.
Надзирательница искривила губы, сдерживая то ли плач, то ли порыв отвращения. Её зрачки уже не были такими большими, и теперь можно было разглядеть синие кольца радужки.
- Чудовищное лицемерие. Сначала вы травите людей газом, как паразитов, а потом утверждаете, что у евреев патологическое чувство юмора, - разочарованно произнес Октав. Затянувшись, он выпустил дым надзирательнице в лицо.
- Я такого не говорила…
- Не говорила. Но ты так считаешь. Знаешь, мне довелось сидеть в концлагере, где находился один из таких крематориев. В конце войны там сжигали восточное население. Евреев, коммунистов, партизан… И у меня, наверное, слегка помутился рассудок, потому что когда я вернулся в Европу, то еще несколько месяцев чувствовал запах гари. Ты даже представить не можешь, как это было мерзко. Одежда, еда, одеколон – всё пахло паленой человечиной…
Вязкую тишину разорвали прерывистые рыдания, перемежаемые невнятным шепотом. Надзирательница содрогалась всем телом, как мучимая тошнотой кошка.
- Почему ты плачешь? Вы победили. Это я должен плакать.
Отложив сигарету в пепельницу, Октав сел на диван. Все шесть чувств будто обострились, и он с небывалой ясностью осознал, что в полуметре от него конвульсивно рыдает молодой организм, способный выносить нескольких здоровых детей. Кончик сигареты тлел в пепельнице алым светлячком.
- Я тоскую по миру, которого никогда не видел, - произнес Октав, в упор глядя на надзирательницу, - я не знаю, как тогда жили люди, потому что мама не желала даже вспоминать об этом. Я не знаю, каким был тот мир, зато знаю, как он исчез.
Надзирательница оторопело уставилась на Октава. Льняные волосы неряшливо висели вдоль бескровного лица, с заплаканных глаз черными потеками струилась тушь, а искусанные губы беззвучно шевелились. Октав расплылся в довольной улыбке:
- Ты наверняка знаешь, что "Циклон-Б" был создан на основе цианистого калия, который является солью синильной кислоты, синтезированной из синей краски оттенка "берлинская лазурь"…
- Зачем ты мне об этом рассказываешь? Перестань! Больше никого не травят! – горестно простонала надзирательница.
Октав промолчал. Вытащив из кармана пиджака металлический цилиндр размером с мизинец, он открутил крышку и продемонстрировал надзирательнице стеклянную ампулу с белым порошком. Надзирательница растерянно моргнула.
- Самоубийство – удел трусливых, - злорадно произнес Октав, держа ампулу в левой руке. – А я не трус. Сегодня мы с тобой поменяемся местами.
Во взгляде надзирательницы проступило тяжелое осознание. Испачканное тушью лицо уродливо исказилось, предвещая крик, но Октав ударил надзирательницу кулаком по виску и повалил на диван. Не мешкая ни секунды, он осуществил то, к чему так долго готовился. Разжав обмякшей надзирательнице рот, Октав вложил в него ампулу с цианистым калием и несколько раз, поудобнее ухватив белокурую голову, щелкнул чужими челюстями. Лязгнули зубы, раздался тихий хруст. Синие глаза распахнулись и остекленели.
- Finster zol dir vern[52]! - торжествующе выпалил Октав. Встав с дивана, он отошел в сторону, чтобы лишний раз не дышать ядовитыми парами.
[52] "Чтоб тебе принадлежала тьма!" (идиш)
Надзирательница умирала. Тело билось в судорогах, из легких вырывались надсадные хрипы, а некогда бледное лицо покрывалось патиной румянца. Стоя в трех шагах от гибнущего организма, Октав запечатлевал в памяти каждое мгновение чужого удушья и чувствовал, как умирает что-то не только перед ним, но и внутри него. Лицо надзирательницы превращалось в грязно-розовую маску с черным зевом рта, где поблескивало кровью стеклянное крошево, а глаза цвета берлинской лазури заволакивал предельный ужас.
Через минуту судороги прекратились, а вместе с ними исчезло и воодушевление Октава. Сделав робкий шаг, он без сил опустился на диван и уставился в одну точку. Окурок дотлевал, помигивая красноватым огоньком.
Опомнившись, Октав посмотрел на наручные часы с крокодиловым ремешком. Стрелки близились к двум. Под ремешком виднелась бледная россыпь сигаретных ожогов, окаймляющая запястье. Октав нахмурился и вернул рукав на место: ему не хотелось лишний раз смотреть на ожоги, которыми штурмманн Страшко завершал каждый свой визит. Было этих визитов двадцать четыре, и Октав помнил всё до мельчайших подробностей, хотя Страшко, ведомый анатомическим любопытством, стремился к обратному.
Октав поправил перчатки, и его губы изогнулись в усталой, но довольной улыбке. Самая сложная часть плана осталась позади. Теперь труп надзирательницы нужно было выбросить в лесу, чтобы его в ближайшие дни обнаружили грибники, а затем немного выждать и встретиться с Хайни, который так гордился своим немецким происхождением.
Глава 7
Неустановленная личность
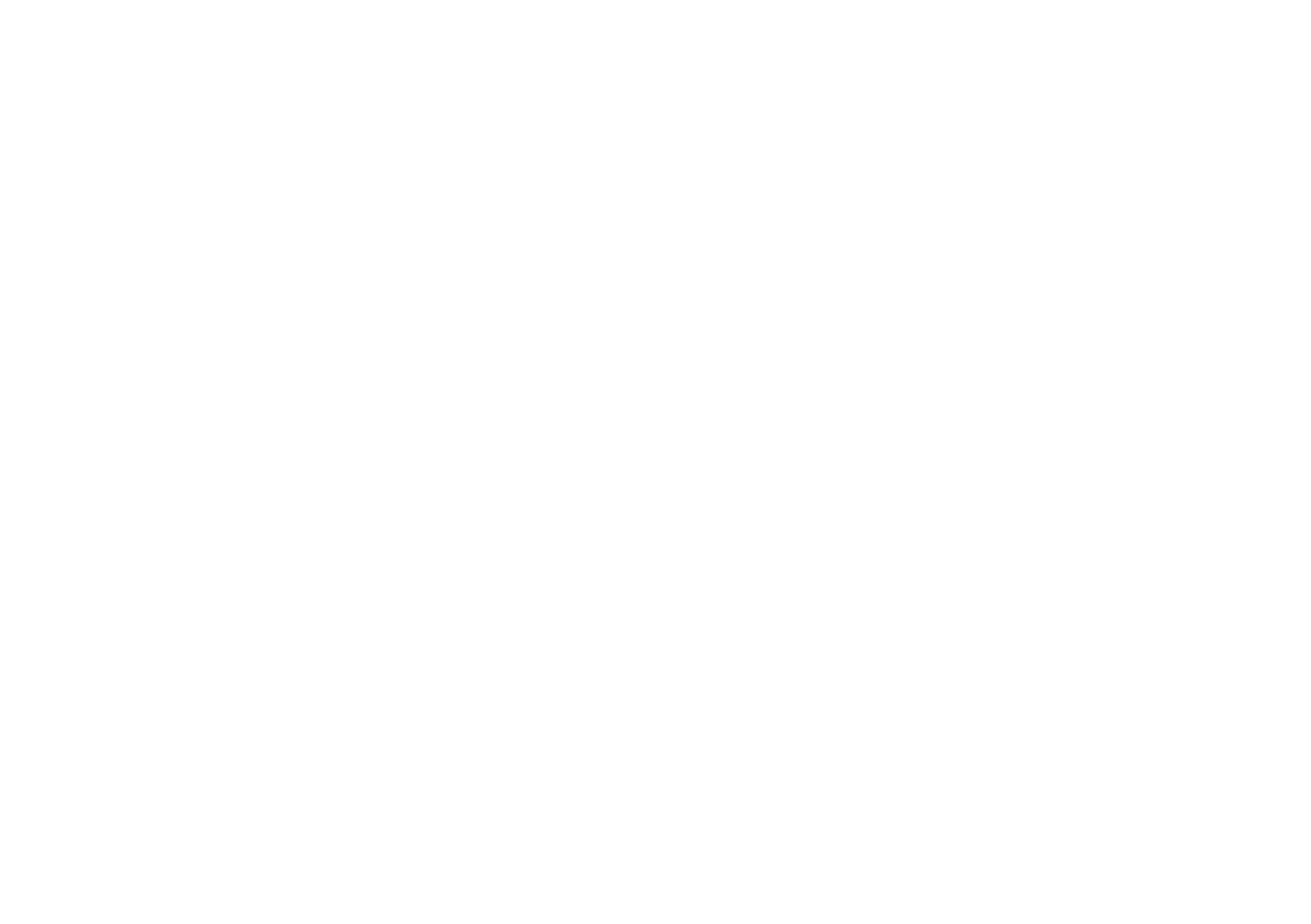
2020 год, май
Перед открытыми окнами, за которыми набирал силу жаркий полдень, слабо колыхался тюль. Под потолком кабинета отсвечивали молочной белизной шарообразные плафоны, на одной из стен висело начищенное до блеска зеркало, где отражались два десятка детских голов. Алина Емельяновна сидела за лакированным пианино, которое подарил Дворцу школьников прежний губернатор Ленинской области, и наигрывала "Песенку фронтового шофера", а вразнобой одетые мальчики и девочки, еще не вступившие в пубертатный возраст, сохраняли тишину, ожидая нужного момента. Перед детьми возвышалась Наиля Муратовна – сухощавая женщина с темным бархатом глаз, педагог по вокалу и внучка депортированных крымских татар. Хоровая секция "Гармония" готовилась к праздничному концерту. До Дня Победы оставалась неделя.
- Через реки, горы и долины, - в один голос затянули дети, когда кончился проигрыш, - сквозь пургу, огонь и черный дым…
- Спиночки все выпрямили! – воскликнула Наиля Муратовна, дирижируя руками. Под темными волосами мерцали рубиновые серьги, похожие на гроздья красной смородины. Постукивал, как метроном, мысок туфли.
- На меня, Даша, смотрим, только на меня!
Услышав замечание, коротко стриженая девочка, которую звали Даша Фомина, шмыгнула длинным носом и встала как положено. Детские очки в синей оправе блеснули на солнце, как бутылочные осколки. Стиснув зубы, Алина Емельяновна впилась взглядом в клавиши, по которым порхали её ухоженные руки с темно-зелеными ногтями. К сожалению, супруги Фомины стригли замкнутую Дашу под мальчика и одевали в клетчатые рубашки, из-за чего та напоминала женскую, совсем юную версию Евгения Фишера. Если бы не зарплата, Алина Емельяновна с удовольствием отчитала бы Дашу за тупость, однако это могло разрушить репутацию сдержанной, но в глубине души сентиментальной вдовы.
- А помирать нам рановато, - синхронно выводили дети звонкими голосами, - есть у нас еще дома дела…
Янтарно-желтое солнце медленно ползло по глазури неба. На черной блузке Алины Емельяновны вспыхивала мелкими искрами изумрудная брошь в виде мухи. Отливали металлом зеленые ногти, под которыми дотошный следователь мог бы обнаружить мертвый эпителий – вещественное доказательство того, что минувшую ночь Алина Емельяновна провела в судебном морге.
- На меня глаза, Даша! – послышался резкий окрик Наили Муратовны.
Не переставая аккомпанировать, Алина Емельяновна искривила красный от помады рот. Будущее надвигалось, как грозовая туча. В его клубящейся тьме существовали складчатые кулисы, украшенные созвездиями воздушных шаров, и дети из секции "Гармония", одетые в гимнастерки советского образца с георгиевскими лентами на груди. Нескладной Даши Фоминой среди этих детей не было. Не было её и в тенистом дворе Матросовского микрорайона, где в окружении серых панельных кораблей и пыльных волн бурьяна глядели друг на друга продуктовый магазин, пункт приема стеклотары и белоснежный ларек, где круглый год сидел сапожник-армянин. Именно здесь проводили летние вечера сестры Крамер – первые подруги Алины Емельяновны, которым в ту пору было около тринадцати лет. Теперь же в этом районе жила Даша Фомина. Она наверняка прыгала по вкопанным в землю шинам, качалась на скрипучих качелях и, возможно, пряталась после заката под крышей двухэтажной горки, которая в девяностом году представляла собой скопление металлических лестниц и разноцветных прутьев. Скорее всего, Дашу Фомину ожидала та же судьба, что и сестер Крамер. Алина Емельяновна была убеждена, что Даше лучше не взрослеть.
Репетиция закончилась в три часа дня. Детей забрали родители, напуганные слухами о маньяке. Покончив с рабочими обязанностями, Алина Емельяновна расписалась на вахте и вышла на гранитное крыльцо, окаймленное полосатыми петуниями. Её взгляду открылись площадь с фонтаном, пролегающая за ней сосновая аллея и опустевшая парковка. Мягко журчала вода, в аллее слушали музыку подростки неформального вида, а на парковочном месте одиноко стояла черная "лада".
Павлозаводск неспешно оживал, стряхивая с себя весеннюю сонливость. Ухоженный частный сектор, некогда бывший центром города, тонул в нежно-розовом цвете шиповника, а южный ветер прогревал воздух, гоняя по дорогам и тротуарам ватные комочки тополиного пуха. Стоя в пробке на перекрестке, который за оживленность называли "смертью колхозника", Алина Емельяновна барабанила пальцами по рулю. Сизая стекляшка торгового центра, возле которого в девяностых просили милостыню цыгане, нестерпимо горела солнечным огнем, а в тени близлежащих кленов сидели на раскладных стульях продавцы зоорынка. В картонных коробках и ржавеющих клетках жались друг к другу неуклюжие котята и яркие, как гуашь, волнистые попугайчики.
Через десять минут машины тронулись с места, и Алина Емельяновна продолжила свой путь, направившись не домой, а в тихий микрорайон, сердцем которого был магазин "Рыбный мир" – приземистый, васильково-синий, влажно поблескивающий витринами. До Матросовского микрорайона оставался один квартал.
Когда пятиэтажки из грязно-белого кирпича сменились серыми панельными домами, воздух стал несколько удушливым - сказывалась близость промзоны, под боком у которой некогда образовалась мрачная и неприветливая городская окраина. Решетчатый забор отдела полиции, железная дверь парикмахерской "Ирина" и распахнутые ворота склада, теснящегося к торцу девятиэтажки, были разного цвета, но за прошедшие годы выгорели до такой степени, что приобрели одинаково блеклый оттенок, отравляющий и казенную синеву, и сочную зелень, и матовую черноту. Наиболее ярким элементом пейзажа был круглосуточный ларек, похожий на белый гофрированный короб. Около него кипела жизнь: покупали жвачку и газировку школьники, приобретали сигареты сонные гражданские и хмурые менты. В кронах деревьев хрипло каркали грачи.
Свернув с дороги, Алина Емельяновна проехала между ларьком и складом. Вдаль уходил тихий переулок, над которым нависали скошенные деревья. По правую сторону виднелись захламленные балконы, слева громоздилась сауна, обнесенная бетонной оградой, а чуть дальше начинались гаражи, покрытые ржавчиной, чешуйками краски и похабными надписями. За гаражами взблескивала окнами типовая школа, чей известково-белый забор был испещрен ромбовидными дырами.
Переулок, в который свернула Алина Емельяновна, был хорош тем, что оставался безлюдным даже в дневное время. Вероятность удачной охоты это, конечно, снижало, однако по ночам здесь курили за гаражами трудные подростки – так было в перестройку, так, скорее всего, было и сейчас. К тому же, покинуть переулок можно было лишь двумя способами: либо сбежав в лабиринт близлежащих дворов, либо протиснувшись сквозь длинный проход, сдавленный бетонной оградой и школьным забором в клаустрофобическую нитку. Несмотря на то, что прошло уже тридцать лет, Алина Емельяновна хорошо помнила это место.
Именно сюда она планировала вернуться на следующей неделе. Ей не хотелось прерывать путешествие по местам детства, наиболее значимым среди которых был Матросовский микрорайон. Без него не имели бы смысла ни пляж, ни лесополоса, ни котлован.
Память всколыхнулась, как речные волны. Поддавшись щемящей тоске, Алина Емельяновна миновала гаражи и свернула во двор, где сейчас проживала Даша Фомина, а много лет назад - сестры Крамер.
Двор заметно обветшал. Качели покосились, ларек сапожника переменил цвет, покрывшись коростой грязи, а некогда пестрая двухэтажная горка напоминала теперь скелетированный труп. Скат измялся и проржавел, краска на перилах потрескалась, как яичная скорлупа, а от деревянного пола нижнего этажа остался лишь паутинообразный каркас. За облупившимися решетками второго этажа, похожего на миниатюрную беседку, неподвижно висел полумрак. Сквозь дырявый конус крыши пробивались зыбкие полосы света.
До боли закусив губу, Алина Емельяновна покинула двор и выехала на улицу Матросова, где до начала нулевых в открытую работали проститутки, стоявшие возле труб теплотрассы и въезда в промзону. Детская площадка, на которой сестры Крамер репетировали собственную смерть, мелькнула в зеркале заднего вида и исчезла, будто хрупкий утренний сон. Алина Емельяновна нахмурилась и провела по зубам языком, чтобы стереть красные отпечатки помады.
Следующая неделя прошла незаметно, завершившись Днем Победы. По высохшим улицам потянулись к городской площади родители, школьники и учителя. В пронзительной синеве неба, озаряя своим светом блеклые хрущевки, висело жгучее солнце. Тут и там мелькали серьезные детские лица, а к Вечному Огню россыпью ложились алые брызги гвоздик.
Отыграв праздничный концерт, Алина Емельяновна сдала детей родителям на руки и, взбудораженная, вернулась домой. Вздремнуть не удалось. Остаток дня Алина Емельяновна провела в спальне, перечитывая "Некрофила" Витткоп – роман о парижском антикваре с ироничной профессией. Мурка гоняла по полу катушку синих ниток, и та билась об мебель, издавая жалобный стук.
Полночь легла на Матросовский микрорайон грязным пологом. Щербатые дома терялись в сизой дымке, а по небу, заслоняя бледный рог месяца, ползли клочковатые облака. Повторялась раз за разом песня "Дорогою добра", которой в фильме сопровождались скитания Маленького Мука. Сворачивая с одной улицы на другую, Алина Емельяновна отхлебывала кофе из старого термоса, расписанного розами, и вглядывалась в мутную темноту. Люминесцентно-синие глаза горели, как проблесковые маячки, ноздри раздувались в бессильном гневе, а рот криво изгибался. За пятнадцать минут Алине Емельяновне не встретился ни один ребенок.
- Паршивцы… – процедила она в пустоту, дернув ручку переключения передач.
Сквозь зернистую дымку проглядывали отдел полиции, парикмахерская "Ирина" и приземистый ларек. Детей не было нигде.
С каждой минутой ожидания комок злобы разбухал, готовясь выползти наружу, как ноздреватое тесто, переваливающееся через край кастрюли. Алина Емельяновна вспомнила о первомайских претензиях Матери Душегубов и мстительно усмехнулась. Сегодня она искренне желала "разнообразить процесс".
Заехав в переулок, Алина Емельяновна припарковалась возле сауны и вышла из машины. Легкий порыв ветра пробрался под расстегнутый болоньевый плащ и мужскую рубашку, купленную в сэконд-хенде. Медовыми голосами пели о добре и дружбе родители Маленького Мука, наполняя переулок тягучим эхом. Алина Емельяновна замерла на месте. Водя головой, как ищущая след собака, она изучала окрестности, затянутые пленкой времени. В окнах панельных домов подрагивали зыбкие тени, обозначающие квартирантов. Вдалеке застыл туманный слепок взрослого, который, не видя Алины Емельяновны, направлялся в её сторону. Похожий слепок, испускающий гипнотическое тепло, таился по ту сторону гаражей.
Стараясь ступать тихо, будто в этом маневре был смысл, Алина Емельяновна прокралась между гаражами и, наступив ботинком на хрустнувший шприц, оказалась в узком проходе, который заприметила на прошлой неделе. В нескольких метрах от неё неподвижно клубилась дымка, которая складывалась в призрачный низкорослый силуэт, готовый шагнуть вперед. С обеих сторон над ним нависали бетонные плиты. Алина Емельяновна сверкнула глазами. Габариты у силуэта оказались подростковые, однако пол определить не удалось: ребенок, повернутый к Алине Емельяновне спиной, был одет в цветастую олимпийку, мешковатые джинсы и уродливые кроссовки. Черное каре до плеч задачу не упрощало - современная мода была настолько либеральной, что носить подобную стрижку мог даже мальчик.
"Если пацан, то выкраду из квартиры Дашку, - решила Алина Емельяновна, - нечего до утра тянуть".
Достав из кармана удавку, она направилась к предполагаемой жертве. Слева скользили разноцветные щупальца граффити, справа сменяли друг друга ромбовидные дыры, заполненные тьмой, а размытый силуэт подростка медленно обретал вещественность. Остановившись за спиной у жертвы, Алина Емельяновна наклонилась вперед и вгляделась в полудетское лицо, освещенное синеватыми отблесками.
Это определенно была девочка, девочка лет тринадцати. На коже слабо просматривались прыщи, явно замазанные тональным кремом, над верхней губой белели пузырьки герпеса, а нордический нос придавал девочке легкое сходство с сестрами Крамер. Вкупе с одеждой, явно стилизованной под моду девяностых, это вызвало у Алины Емельяновны странное чувство узнавания. Сердце застучало быстрее, отбивая боевой ритм.
"Вырастет – станет наркоманкой. Или проституткой", - сделала вывод Алина Емельяновна, представив повзрослевшую девочку возле матросовской теплотрассы. Руки в медицинских перчатках затянули вокруг тонкой шеи удавку.
Несмотря на кажущуюся хрупкость, девочка упорствовала. Она била ногами по притоптанной земле и надсадно хрипела, пока не потеряла от удушья сознание - перебороть коренастую женщину, привыкшую к физическому труду на собственном участке, ей оказалось не под силу. Однако Алина Емельяновна еще долго сдавливала шею трупа руками, а затем била его головой об школьный забор, оставляя на побелке темные мазки. Ощущение времени исчезло, уступив место бурным волнам гнева.
Алина Емельяновна надеялась, что Мать Душегубов, которая явно наблюдала за ней откуда-то извне, осталась довольна этим актом жестокости. Чтобы закрепить эффект, по прибытию домой Алина Емельяновна не стала подвешивать мертвую девочку в петле. Вместо этого она уложила труп на белую простыню и взяла в руки пилу советского производства. Когда фотосессия подошла к концу, от трупа остался лишь торс, одетый в окровавленную пионерскую форму. Вокруг, обозначая рваный контур, были разложены бледные, как поганки, руки, отделенные ноги в лакированных ботинках и закатившая глаза голова, покрытая вмятинами ран.
Довольная собой, Алина Емельяновна стянула испачканный фартук, поднялась из подпола и скрылась в спальне, где хранились в шляпной коробке кости Максима Пряникова. Вечер, начавшийся с убийства, завершился приятным свиданием.
Тяга к человеческим останкам, которую в Алине Емельяновне пробудили кладбищенские фотографии из семейного архива и похороны Черненко, начала расцветать в девяностом году, и это событие, конечно же, совпало с половым созреванием Алины. В тот год её родители, у которых были деньги, но не было возможности их потратить, проводили свободное время в очередях, обменивая талоны на продукты, а домой возвращались с синюшными курицами, тушенкой в комбижире и бутылками водки, которые можно было обменять на то, что талонами не покрывалось.
Двенадцатилетняя Алина была предоставлена самой себе. Кутаясь в черную шубу из "чебурашки" и лисью шапку, из-под которой свисали темные косы, она свободно гуляла по заснеженному Павлозаводску и каждые выходные посещала ледяной городок, который традиционно находился на набережной. Ближе к вечеру небо затягивалось мраком, а в кронах деревьев оживали новогодние огни, которые наполняли ледяные крепости своими искаженными отражениями: клюквенно-красными всполохами, зыбкими зелеными разводами, голубыми вкраплениями искр…
Наступившая весна превратила ледяной городок в груду тающих обмылков. Зазвенела капель, по улицам бойко побежали ручьи. Алина, сменившая валенки на резиновые сапоги, бродила по окрестным дворам и пускала кораблики, сделанные из старых выпусков региональной газеты "Звезда Павлозаводска". Бумага размокала в холодной воде, кораблики тонули, и волокнистые обрывки с партийными лозунгами неизбежно исчезали в водоворотах.
Когда сошли последние ноздреватые сугробы, Алина увлеклась секретиками. Создание каждого из них напоминало игрушечные похороны: вырыв в земле ямку, она бережно помещала туда мертвую бабочку из личной коллекции, а затем обкладывала трупик засушенными цветами и стеклянными бусинами. Придавив секретик донышком бутылки, Алина старательно затаптывала место захоронения, чтобы оно не бросалось в глаза другим детям.
Впрочем, совсем скоро её интересы переменились. Осознав, что родители заняты лихорадочными поисками дефицита и не обращают внимания на её долгие отлучки, Алина укрепилась в желании побывать там, где ей бывать не позволяли – в видеосалоне. Накопив рубль, чтобы заплатить за вход, она отправилась на вокзал. Видеосалон располагался в одном из подвальных помещений и представлял собой душную комнату, где перед видеомагнитофоном рядами стояли сцепленные вместе кресла, обитые дерматином.
Спертый воздух, нарочито гнусавая озвучка и синеватое мерцание телевизора, окруженного чернильной тьмой, открыли Алине всё то, что прежде лишь робко проглядывало в фотографиях деревенских похорон. Сверкающие лезвия на перчатке Фредди Крюгера, алебастрово-белое лицо Пинхеда и зеленоватые отблески на очках Герберта Уэста отчетливо застыли в памяти Алины, как мухи в янтаре, чтобы после миллениума образовать цельный, патологически окрашенный образ.
Именно в видеосалоне Алина и познакомилась с сестрами Крамер. Карина и Августа, беловолосые немки с голубыми глазами, были старше неё на один год, а внешне воплощали собой совершенно разные типажи дворовых детей. Карина, находясь в темноте, вполне могла сойти за старшего брата, а не сестру – выдавали её лишь длинные волосы, собранные в небрежный хвост с петухами. Одевалась она, как мальчишка, вальяжно щелкала семечки и пыталась казаться серьезнее, чем была на самом деле. Августа же совсем не скрывала свою веселую натуру, в которой временами проглядывало безумие, и в меру своих сил прихорашивалась: сама стригла себе волосы на уровне плеч, обвязывала вокруг шеи темно-красный шнурок, крашенный свекольным соком, и носила укороченную пионерскую юбку. Лучшим элементом её гардероба были голубые туфли-мыльницы, отливающие перламутром, которые Августа надевала на грязные от пыли ноги.
Со стороны поначалу казалось, что лето, проведенное с сестрами Крамер, изменило Алину к лучшему. Вместе с новыми подругами она отдыхала на Смородинском пляже, каталась на каруселях в горсаду и ела сладкую вату возле детской железной дороги. Родители поняли, что Алина наконец вылезла из своей раковины, и искренне этому порадовались. Они не подозревали, что девочки посещали не только общественные, но и безлюдные места: заброшенные постройки возле набережной, лесополосу за Смородиной и окрестности загородных дач, которые уже тогда пребывали в плачевном состоянии.
Но опасность поджидала вовсе не там, а в одном из дворов Матросовского микрорайона, под жестяной крышей двухэтажной горки. Сидя поздними вечерами в сумраке второго этажа, девочки рассказывали друг другу страшные истории про гроб на колесиках и зеленые глаза, играли в карты и обсуждали просмотренные фильмы. В соседнем дворе кто-то выбивал на турнике ковер, под окнами домов трепетали лиловые зонтики космей, а двор медленно пустел и готовился ко сну.
Всё началось теплым августовским вечером, когда девочки в очередной раз собрались на горке. Произошло то, что определило дальнейшую жизнь Алины: сестры рассказали ей о своем тайном и весьма рискованном увлечении, и это, как ни странно, оказался не клей "Момент", о котором Алина, несмотря на свою тепличность, уже была наслышана. Сестры Крамер практиковали "собачий кайф". И теперь они хотели, чтобы Алина им помогла.
- В смысле, вас душить надо? – вскинула бровь Алина, переводя взгляд с одной сестры на другую. Она боялась, что неправильно их поняла, и нервно мяла пальцами подол кофейного платья.
- Ну да. Только очень аккуратно, - сказала Августа. По-птичьи склонив голову набок, она машинально ухватилась за длинные хвосты свекольно-красного шнурка, спадающие на застиранную блузку. Желтоватые отсветы далекого фонаря ложились на лицо Августы, как акварельные штрихи.
- Прям шнурком, что ли?
- Нет. Шнурком слишком больно, - отозвалась Карина, слабо различимая в полумраке, - лучше вот этим.
Запустив руку в карман джинсовой куртки, покрытой разводами белизны, она продемонстрировала Алине кухонное полотенце. Под грязными разводами и застарелыми пятнам жира угадывался цветочный узор. Алина молчала, переваривая услышанное. Ей невольно вспомнились молодогвардейцы, которых душили проводами фашисты.
Нахмурившись, она сосредоточенно произнесла:
- Я могу попробовать. Как это делается?
Августа смущенно хихикнула и пустилась в объяснения. Душить нужно было осторожно, до потери сознания, сдавливая место между подбородком и кадыком. Алина задумалась. В тишине гулко раздавались удары хлопушки, бьющей по ковру. Карина, похожая на безликий силуэт, вырезанный из картона, скручивала полотенце в тугой жгут.
- Только не передержи, а то я иногда дурная становлюсь. Брожу туда-сюда, как лунатик, - предупредила напоследок Августа.
Несмело взяв протянутое из темноты полотенце, Алина встала на ноги. Августа выпрямилась во весь рост, прижалась спиной к прутьям, упершись макушкой в жестяной свод крыши, и принялась часто дышать, как измученная жарой собака. Где-то во дворах нестройно заиграла гитара. Разглядывая бледное лицо, которое могло бы принадлежать девочке из гитлерюгенда, Алина подсчитывала энергичные выдохи. Когда счет дошел до двадцати, Августа притихла и зажмурила глаза.
- Души! – прошептала синяя тьма голосом Карины.
Поддавшись наитию, Алина быстро прижала скрученное полотенце к шее Августы. У той приоткрылся рот, как у покойников с деревенских фотографий, вывалился наружу кончик языка. Алина не увидела, а скорее почувствовала нутром, как Августа сползает на деревянный пол. Отняв от чужого горла полотенце, Алина попятилась. Карина, выскочив из темноты, подхватила падающую сестру и бережно уложила боком на теплые доски.
Августа была без сознания. Ночные тени делали светлую кожу серовато-бледной, словно запылившийся от времени гипс. Шнурок свешивался с шеи на манер пионерского галстука. Из-под синей юбки торчали ноги в туфлях-мыльницах – слабо мерцающих, отражающих рассеянный свет фонаря. Алина ощущала, как трясутся её руки, по инерции сжимающие полотенце. В ушах гудел кровоток, горели щеки, тихо постукивали зубы. Нечто новое, прежде скрытое за гранью смерти, вставало перед Алиной во весь рост, накрывая её мутной, холодной, давящей волной.
- На-а маленьком плоту-у-у… - фальшиво запел пьяный юношеский голос. Сгустившийся воздух приторно пах цветением, шевелились на ветру густые заросли бурьяна.
Игра в собачий кайф вошла у Алины в привычку. Становиться объектом удушения она отказывалась, ссылаясь на страх, зато с удовольствием играла роль экзекутора. Сестры не возражали, потому что с полотенцем Алина обращалась мастерски, будто именно для этого и были предназначены её девические руки. Если же Карина отказывалась от участия, чтобы постоять на стреме, Алина даже радовалась - душить Августу было гораздо приятнее. Её обмякшее тело падало на бурый песок Смородинского пляжа, приминало густую траву лесополосы, ломало камыш возле детской железной дороги…
Скончалась Августа в девяносто восьмом. Но прошло двадцать два года, и теперь её заменяли другие. И хотя ни одна из них не напоминала Августу внешне, Алина Емельяновна надеялась, что рано или поздно найдет ту, с которой можно будет воспроизвести отроческий опыт.
Перед открытыми окнами, за которыми набирал силу жаркий полдень, слабо колыхался тюль. Под потолком кабинета отсвечивали молочной белизной шарообразные плафоны, на одной из стен висело начищенное до блеска зеркало, где отражались два десятка детских голов. Алина Емельяновна сидела за лакированным пианино, которое подарил Дворцу школьников прежний губернатор Ленинской области, и наигрывала "Песенку фронтового шофера", а вразнобой одетые мальчики и девочки, еще не вступившие в пубертатный возраст, сохраняли тишину, ожидая нужного момента. Перед детьми возвышалась Наиля Муратовна – сухощавая женщина с темным бархатом глаз, педагог по вокалу и внучка депортированных крымских татар. Хоровая секция "Гармония" готовилась к праздничному концерту. До Дня Победы оставалась неделя.
- Через реки, горы и долины, - в один голос затянули дети, когда кончился проигрыш, - сквозь пургу, огонь и черный дым…
- Спиночки все выпрямили! – воскликнула Наиля Муратовна, дирижируя руками. Под темными волосами мерцали рубиновые серьги, похожие на гроздья красной смородины. Постукивал, как метроном, мысок туфли.
- На меня, Даша, смотрим, только на меня!
Услышав замечание, коротко стриженая девочка, которую звали Даша Фомина, шмыгнула длинным носом и встала как положено. Детские очки в синей оправе блеснули на солнце, как бутылочные осколки. Стиснув зубы, Алина Емельяновна впилась взглядом в клавиши, по которым порхали её ухоженные руки с темно-зелеными ногтями. К сожалению, супруги Фомины стригли замкнутую Дашу под мальчика и одевали в клетчатые рубашки, из-за чего та напоминала женскую, совсем юную версию Евгения Фишера. Если бы не зарплата, Алина Емельяновна с удовольствием отчитала бы Дашу за тупость, однако это могло разрушить репутацию сдержанной, но в глубине души сентиментальной вдовы.
- А помирать нам рановато, - синхронно выводили дети звонкими голосами, - есть у нас еще дома дела…
Янтарно-желтое солнце медленно ползло по глазури неба. На черной блузке Алины Емельяновны вспыхивала мелкими искрами изумрудная брошь в виде мухи. Отливали металлом зеленые ногти, под которыми дотошный следователь мог бы обнаружить мертвый эпителий – вещественное доказательство того, что минувшую ночь Алина Емельяновна провела в судебном морге.
- На меня глаза, Даша! – послышался резкий окрик Наили Муратовны.
Не переставая аккомпанировать, Алина Емельяновна искривила красный от помады рот. Будущее надвигалось, как грозовая туча. В его клубящейся тьме существовали складчатые кулисы, украшенные созвездиями воздушных шаров, и дети из секции "Гармония", одетые в гимнастерки советского образца с георгиевскими лентами на груди. Нескладной Даши Фоминой среди этих детей не было. Не было её и в тенистом дворе Матросовского микрорайона, где в окружении серых панельных кораблей и пыльных волн бурьяна глядели друг на друга продуктовый магазин, пункт приема стеклотары и белоснежный ларек, где круглый год сидел сапожник-армянин. Именно здесь проводили летние вечера сестры Крамер – первые подруги Алины Емельяновны, которым в ту пору было около тринадцати лет. Теперь же в этом районе жила Даша Фомина. Она наверняка прыгала по вкопанным в землю шинам, качалась на скрипучих качелях и, возможно, пряталась после заката под крышей двухэтажной горки, которая в девяностом году представляла собой скопление металлических лестниц и разноцветных прутьев. Скорее всего, Дашу Фомину ожидала та же судьба, что и сестер Крамер. Алина Емельяновна была убеждена, что Даше лучше не взрослеть.
Репетиция закончилась в три часа дня. Детей забрали родители, напуганные слухами о маньяке. Покончив с рабочими обязанностями, Алина Емельяновна расписалась на вахте и вышла на гранитное крыльцо, окаймленное полосатыми петуниями. Её взгляду открылись площадь с фонтаном, пролегающая за ней сосновая аллея и опустевшая парковка. Мягко журчала вода, в аллее слушали музыку подростки неформального вида, а на парковочном месте одиноко стояла черная "лада".
Павлозаводск неспешно оживал, стряхивая с себя весеннюю сонливость. Ухоженный частный сектор, некогда бывший центром города, тонул в нежно-розовом цвете шиповника, а южный ветер прогревал воздух, гоняя по дорогам и тротуарам ватные комочки тополиного пуха. Стоя в пробке на перекрестке, который за оживленность называли "смертью колхозника", Алина Емельяновна барабанила пальцами по рулю. Сизая стекляшка торгового центра, возле которого в девяностых просили милостыню цыгане, нестерпимо горела солнечным огнем, а в тени близлежащих кленов сидели на раскладных стульях продавцы зоорынка. В картонных коробках и ржавеющих клетках жались друг к другу неуклюжие котята и яркие, как гуашь, волнистые попугайчики.
Через десять минут машины тронулись с места, и Алина Емельяновна продолжила свой путь, направившись не домой, а в тихий микрорайон, сердцем которого был магазин "Рыбный мир" – приземистый, васильково-синий, влажно поблескивающий витринами. До Матросовского микрорайона оставался один квартал.
Когда пятиэтажки из грязно-белого кирпича сменились серыми панельными домами, воздух стал несколько удушливым - сказывалась близость промзоны, под боком у которой некогда образовалась мрачная и неприветливая городская окраина. Решетчатый забор отдела полиции, железная дверь парикмахерской "Ирина" и распахнутые ворота склада, теснящегося к торцу девятиэтажки, были разного цвета, но за прошедшие годы выгорели до такой степени, что приобрели одинаково блеклый оттенок, отравляющий и казенную синеву, и сочную зелень, и матовую черноту. Наиболее ярким элементом пейзажа был круглосуточный ларек, похожий на белый гофрированный короб. Около него кипела жизнь: покупали жвачку и газировку школьники, приобретали сигареты сонные гражданские и хмурые менты. В кронах деревьев хрипло каркали грачи.
Свернув с дороги, Алина Емельяновна проехала между ларьком и складом. Вдаль уходил тихий переулок, над которым нависали скошенные деревья. По правую сторону виднелись захламленные балконы, слева громоздилась сауна, обнесенная бетонной оградой, а чуть дальше начинались гаражи, покрытые ржавчиной, чешуйками краски и похабными надписями. За гаражами взблескивала окнами типовая школа, чей известково-белый забор был испещрен ромбовидными дырами.
Переулок, в который свернула Алина Емельяновна, был хорош тем, что оставался безлюдным даже в дневное время. Вероятность удачной охоты это, конечно, снижало, однако по ночам здесь курили за гаражами трудные подростки – так было в перестройку, так, скорее всего, было и сейчас. К тому же, покинуть переулок можно было лишь двумя способами: либо сбежав в лабиринт близлежащих дворов, либо протиснувшись сквозь длинный проход, сдавленный бетонной оградой и школьным забором в клаустрофобическую нитку. Несмотря на то, что прошло уже тридцать лет, Алина Емельяновна хорошо помнила это место.
Именно сюда она планировала вернуться на следующей неделе. Ей не хотелось прерывать путешествие по местам детства, наиболее значимым среди которых был Матросовский микрорайон. Без него не имели бы смысла ни пляж, ни лесополоса, ни котлован.
Память всколыхнулась, как речные волны. Поддавшись щемящей тоске, Алина Емельяновна миновала гаражи и свернула во двор, где сейчас проживала Даша Фомина, а много лет назад - сестры Крамер.
Двор заметно обветшал. Качели покосились, ларек сапожника переменил цвет, покрывшись коростой грязи, а некогда пестрая двухэтажная горка напоминала теперь скелетированный труп. Скат измялся и проржавел, краска на перилах потрескалась, как яичная скорлупа, а от деревянного пола нижнего этажа остался лишь паутинообразный каркас. За облупившимися решетками второго этажа, похожего на миниатюрную беседку, неподвижно висел полумрак. Сквозь дырявый конус крыши пробивались зыбкие полосы света.
До боли закусив губу, Алина Емельяновна покинула двор и выехала на улицу Матросова, где до начала нулевых в открытую работали проститутки, стоявшие возле труб теплотрассы и въезда в промзону. Детская площадка, на которой сестры Крамер репетировали собственную смерть, мелькнула в зеркале заднего вида и исчезла, будто хрупкий утренний сон. Алина Емельяновна нахмурилась и провела по зубам языком, чтобы стереть красные отпечатки помады.
Следующая неделя прошла незаметно, завершившись Днем Победы. По высохшим улицам потянулись к городской площади родители, школьники и учителя. В пронзительной синеве неба, озаряя своим светом блеклые хрущевки, висело жгучее солнце. Тут и там мелькали серьезные детские лица, а к Вечному Огню россыпью ложились алые брызги гвоздик.
Отыграв праздничный концерт, Алина Емельяновна сдала детей родителям на руки и, взбудораженная, вернулась домой. Вздремнуть не удалось. Остаток дня Алина Емельяновна провела в спальне, перечитывая "Некрофила" Витткоп – роман о парижском антикваре с ироничной профессией. Мурка гоняла по полу катушку синих ниток, и та билась об мебель, издавая жалобный стук.
Полночь легла на Матросовский микрорайон грязным пологом. Щербатые дома терялись в сизой дымке, а по небу, заслоняя бледный рог месяца, ползли клочковатые облака. Повторялась раз за разом песня "Дорогою добра", которой в фильме сопровождались скитания Маленького Мука. Сворачивая с одной улицы на другую, Алина Емельяновна отхлебывала кофе из старого термоса, расписанного розами, и вглядывалась в мутную темноту. Люминесцентно-синие глаза горели, как проблесковые маячки, ноздри раздувались в бессильном гневе, а рот криво изгибался. За пятнадцать минут Алине Емельяновне не встретился ни один ребенок.
- Паршивцы… – процедила она в пустоту, дернув ручку переключения передач.
Сквозь зернистую дымку проглядывали отдел полиции, парикмахерская "Ирина" и приземистый ларек. Детей не было нигде.
С каждой минутой ожидания комок злобы разбухал, готовясь выползти наружу, как ноздреватое тесто, переваливающееся через край кастрюли. Алина Емельяновна вспомнила о первомайских претензиях Матери Душегубов и мстительно усмехнулась. Сегодня она искренне желала "разнообразить процесс".
Заехав в переулок, Алина Емельяновна припарковалась возле сауны и вышла из машины. Легкий порыв ветра пробрался под расстегнутый болоньевый плащ и мужскую рубашку, купленную в сэконд-хенде. Медовыми голосами пели о добре и дружбе родители Маленького Мука, наполняя переулок тягучим эхом. Алина Емельяновна замерла на месте. Водя головой, как ищущая след собака, она изучала окрестности, затянутые пленкой времени. В окнах панельных домов подрагивали зыбкие тени, обозначающие квартирантов. Вдалеке застыл туманный слепок взрослого, который, не видя Алины Емельяновны, направлялся в её сторону. Похожий слепок, испускающий гипнотическое тепло, таился по ту сторону гаражей.
Стараясь ступать тихо, будто в этом маневре был смысл, Алина Емельяновна прокралась между гаражами и, наступив ботинком на хрустнувший шприц, оказалась в узком проходе, который заприметила на прошлой неделе. В нескольких метрах от неё неподвижно клубилась дымка, которая складывалась в призрачный низкорослый силуэт, готовый шагнуть вперед. С обеих сторон над ним нависали бетонные плиты. Алина Емельяновна сверкнула глазами. Габариты у силуэта оказались подростковые, однако пол определить не удалось: ребенок, повернутый к Алине Емельяновне спиной, был одет в цветастую олимпийку, мешковатые джинсы и уродливые кроссовки. Черное каре до плеч задачу не упрощало - современная мода была настолько либеральной, что носить подобную стрижку мог даже мальчик.
"Если пацан, то выкраду из квартиры Дашку, - решила Алина Емельяновна, - нечего до утра тянуть".
Достав из кармана удавку, она направилась к предполагаемой жертве. Слева скользили разноцветные щупальца граффити, справа сменяли друг друга ромбовидные дыры, заполненные тьмой, а размытый силуэт подростка медленно обретал вещественность. Остановившись за спиной у жертвы, Алина Емельяновна наклонилась вперед и вгляделась в полудетское лицо, освещенное синеватыми отблесками.
Это определенно была девочка, девочка лет тринадцати. На коже слабо просматривались прыщи, явно замазанные тональным кремом, над верхней губой белели пузырьки герпеса, а нордический нос придавал девочке легкое сходство с сестрами Крамер. Вкупе с одеждой, явно стилизованной под моду девяностых, это вызвало у Алины Емельяновны странное чувство узнавания. Сердце застучало быстрее, отбивая боевой ритм.
"Вырастет – станет наркоманкой. Или проституткой", - сделала вывод Алина Емельяновна, представив повзрослевшую девочку возле матросовской теплотрассы. Руки в медицинских перчатках затянули вокруг тонкой шеи удавку.
Несмотря на кажущуюся хрупкость, девочка упорствовала. Она била ногами по притоптанной земле и надсадно хрипела, пока не потеряла от удушья сознание - перебороть коренастую женщину, привыкшую к физическому труду на собственном участке, ей оказалось не под силу. Однако Алина Емельяновна еще долго сдавливала шею трупа руками, а затем била его головой об школьный забор, оставляя на побелке темные мазки. Ощущение времени исчезло, уступив место бурным волнам гнева.
Алина Емельяновна надеялась, что Мать Душегубов, которая явно наблюдала за ней откуда-то извне, осталась довольна этим актом жестокости. Чтобы закрепить эффект, по прибытию домой Алина Емельяновна не стала подвешивать мертвую девочку в петле. Вместо этого она уложила труп на белую простыню и взяла в руки пилу советского производства. Когда фотосессия подошла к концу, от трупа остался лишь торс, одетый в окровавленную пионерскую форму. Вокруг, обозначая рваный контур, были разложены бледные, как поганки, руки, отделенные ноги в лакированных ботинках и закатившая глаза голова, покрытая вмятинами ран.
Довольная собой, Алина Емельяновна стянула испачканный фартук, поднялась из подпола и скрылась в спальне, где хранились в шляпной коробке кости Максима Пряникова. Вечер, начавшийся с убийства, завершился приятным свиданием.
Тяга к человеческим останкам, которую в Алине Емельяновне пробудили кладбищенские фотографии из семейного архива и похороны Черненко, начала расцветать в девяностом году, и это событие, конечно же, совпало с половым созреванием Алины. В тот год её родители, у которых были деньги, но не было возможности их потратить, проводили свободное время в очередях, обменивая талоны на продукты, а домой возвращались с синюшными курицами, тушенкой в комбижире и бутылками водки, которые можно было обменять на то, что талонами не покрывалось.
Двенадцатилетняя Алина была предоставлена самой себе. Кутаясь в черную шубу из "чебурашки" и лисью шапку, из-под которой свисали темные косы, она свободно гуляла по заснеженному Павлозаводску и каждые выходные посещала ледяной городок, который традиционно находился на набережной. Ближе к вечеру небо затягивалось мраком, а в кронах деревьев оживали новогодние огни, которые наполняли ледяные крепости своими искаженными отражениями: клюквенно-красными всполохами, зыбкими зелеными разводами, голубыми вкраплениями искр…
Наступившая весна превратила ледяной городок в груду тающих обмылков. Зазвенела капель, по улицам бойко побежали ручьи. Алина, сменившая валенки на резиновые сапоги, бродила по окрестным дворам и пускала кораблики, сделанные из старых выпусков региональной газеты "Звезда Павлозаводска". Бумага размокала в холодной воде, кораблики тонули, и волокнистые обрывки с партийными лозунгами неизбежно исчезали в водоворотах.
Когда сошли последние ноздреватые сугробы, Алина увлеклась секретиками. Создание каждого из них напоминало игрушечные похороны: вырыв в земле ямку, она бережно помещала туда мертвую бабочку из личной коллекции, а затем обкладывала трупик засушенными цветами и стеклянными бусинами. Придавив секретик донышком бутылки, Алина старательно затаптывала место захоронения, чтобы оно не бросалось в глаза другим детям.
Впрочем, совсем скоро её интересы переменились. Осознав, что родители заняты лихорадочными поисками дефицита и не обращают внимания на её долгие отлучки, Алина укрепилась в желании побывать там, где ей бывать не позволяли – в видеосалоне. Накопив рубль, чтобы заплатить за вход, она отправилась на вокзал. Видеосалон располагался в одном из подвальных помещений и представлял собой душную комнату, где перед видеомагнитофоном рядами стояли сцепленные вместе кресла, обитые дерматином.
Спертый воздух, нарочито гнусавая озвучка и синеватое мерцание телевизора, окруженного чернильной тьмой, открыли Алине всё то, что прежде лишь робко проглядывало в фотографиях деревенских похорон. Сверкающие лезвия на перчатке Фредди Крюгера, алебастрово-белое лицо Пинхеда и зеленоватые отблески на очках Герберта Уэста отчетливо застыли в памяти Алины, как мухи в янтаре, чтобы после миллениума образовать цельный, патологически окрашенный образ.
Именно в видеосалоне Алина и познакомилась с сестрами Крамер. Карина и Августа, беловолосые немки с голубыми глазами, были старше неё на один год, а внешне воплощали собой совершенно разные типажи дворовых детей. Карина, находясь в темноте, вполне могла сойти за старшего брата, а не сестру – выдавали её лишь длинные волосы, собранные в небрежный хвост с петухами. Одевалась она, как мальчишка, вальяжно щелкала семечки и пыталась казаться серьезнее, чем была на самом деле. Августа же совсем не скрывала свою веселую натуру, в которой временами проглядывало безумие, и в меру своих сил прихорашивалась: сама стригла себе волосы на уровне плеч, обвязывала вокруг шеи темно-красный шнурок, крашенный свекольным соком, и носила укороченную пионерскую юбку. Лучшим элементом её гардероба были голубые туфли-мыльницы, отливающие перламутром, которые Августа надевала на грязные от пыли ноги.
Со стороны поначалу казалось, что лето, проведенное с сестрами Крамер, изменило Алину к лучшему. Вместе с новыми подругами она отдыхала на Смородинском пляже, каталась на каруселях в горсаду и ела сладкую вату возле детской железной дороги. Родители поняли, что Алина наконец вылезла из своей раковины, и искренне этому порадовались. Они не подозревали, что девочки посещали не только общественные, но и безлюдные места: заброшенные постройки возле набережной, лесополосу за Смородиной и окрестности загородных дач, которые уже тогда пребывали в плачевном состоянии.
Но опасность поджидала вовсе не там, а в одном из дворов Матросовского микрорайона, под жестяной крышей двухэтажной горки. Сидя поздними вечерами в сумраке второго этажа, девочки рассказывали друг другу страшные истории про гроб на колесиках и зеленые глаза, играли в карты и обсуждали просмотренные фильмы. В соседнем дворе кто-то выбивал на турнике ковер, под окнами домов трепетали лиловые зонтики космей, а двор медленно пустел и готовился ко сну.
Всё началось теплым августовским вечером, когда девочки в очередной раз собрались на горке. Произошло то, что определило дальнейшую жизнь Алины: сестры рассказали ей о своем тайном и весьма рискованном увлечении, и это, как ни странно, оказался не клей "Момент", о котором Алина, несмотря на свою тепличность, уже была наслышана. Сестры Крамер практиковали "собачий кайф". И теперь они хотели, чтобы Алина им помогла.
- В смысле, вас душить надо? – вскинула бровь Алина, переводя взгляд с одной сестры на другую. Она боялась, что неправильно их поняла, и нервно мяла пальцами подол кофейного платья.
- Ну да. Только очень аккуратно, - сказала Августа. По-птичьи склонив голову набок, она машинально ухватилась за длинные хвосты свекольно-красного шнурка, спадающие на застиранную блузку. Желтоватые отсветы далекого фонаря ложились на лицо Августы, как акварельные штрихи.
- Прям шнурком, что ли?
- Нет. Шнурком слишком больно, - отозвалась Карина, слабо различимая в полумраке, - лучше вот этим.
Запустив руку в карман джинсовой куртки, покрытой разводами белизны, она продемонстрировала Алине кухонное полотенце. Под грязными разводами и застарелыми пятнам жира угадывался цветочный узор. Алина молчала, переваривая услышанное. Ей невольно вспомнились молодогвардейцы, которых душили проводами фашисты.
Нахмурившись, она сосредоточенно произнесла:
- Я могу попробовать. Как это делается?
Августа смущенно хихикнула и пустилась в объяснения. Душить нужно было осторожно, до потери сознания, сдавливая место между подбородком и кадыком. Алина задумалась. В тишине гулко раздавались удары хлопушки, бьющей по ковру. Карина, похожая на безликий силуэт, вырезанный из картона, скручивала полотенце в тугой жгут.
- Только не передержи, а то я иногда дурная становлюсь. Брожу туда-сюда, как лунатик, - предупредила напоследок Августа.
Несмело взяв протянутое из темноты полотенце, Алина встала на ноги. Августа выпрямилась во весь рост, прижалась спиной к прутьям, упершись макушкой в жестяной свод крыши, и принялась часто дышать, как измученная жарой собака. Где-то во дворах нестройно заиграла гитара. Разглядывая бледное лицо, которое могло бы принадлежать девочке из гитлерюгенда, Алина подсчитывала энергичные выдохи. Когда счет дошел до двадцати, Августа притихла и зажмурила глаза.
- Души! – прошептала синяя тьма голосом Карины.
Поддавшись наитию, Алина быстро прижала скрученное полотенце к шее Августы. У той приоткрылся рот, как у покойников с деревенских фотографий, вывалился наружу кончик языка. Алина не увидела, а скорее почувствовала нутром, как Августа сползает на деревянный пол. Отняв от чужого горла полотенце, Алина попятилась. Карина, выскочив из темноты, подхватила падающую сестру и бережно уложила боком на теплые доски.
Августа была без сознания. Ночные тени делали светлую кожу серовато-бледной, словно запылившийся от времени гипс. Шнурок свешивался с шеи на манер пионерского галстука. Из-под синей юбки торчали ноги в туфлях-мыльницах – слабо мерцающих, отражающих рассеянный свет фонаря. Алина ощущала, как трясутся её руки, по инерции сжимающие полотенце. В ушах гудел кровоток, горели щеки, тихо постукивали зубы. Нечто новое, прежде скрытое за гранью смерти, вставало перед Алиной во весь рост, накрывая её мутной, холодной, давящей волной.
- На-а маленьком плоту-у-у… - фальшиво запел пьяный юношеский голос. Сгустившийся воздух приторно пах цветением, шевелились на ветру густые заросли бурьяна.
Игра в собачий кайф вошла у Алины в привычку. Становиться объектом удушения она отказывалась, ссылаясь на страх, зато с удовольствием играла роль экзекутора. Сестры не возражали, потому что с полотенцем Алина обращалась мастерски, будто именно для этого и были предназначены её девические руки. Если же Карина отказывалась от участия, чтобы постоять на стреме, Алина даже радовалась - душить Августу было гораздо приятнее. Её обмякшее тело падало на бурый песок Смородинского пляжа, приминало густую траву лесополосы, ломало камыш возле детской железной дороги…
Скончалась Августа в девяносто восьмом. Но прошло двадцать два года, и теперь её заменяли другие. И хотя ни одна из них не напоминала Августу внешне, Алина Емельяновна надеялась, что рано или поздно найдет ту, с которой можно будет воспроизвести отроческий опыт.
Гатауллин, откусывая от жирного чебурека, завернутого в салфетку, удручённо стоял перед белой доской, которую Юдин привез из дома и повесил в кабинете. Прикрепленные к ней фотографии изображали четырех девочек, убитых новоиспеченным маньяком, и их пронумерованные останки, однако на аппетит Гатауллина это не влияло. Юдин же сидел за своим столом и, мрачно хмурясь, перечитывал свежий номер "Звезды Павлозаводска". Китель, мерцающий звездочками погон, кособоко висел на спинке стула, а статья, которую Юдин исподлобья буравил взглядом, называлась емко и зловеще: "Ленинский душитель". На бледном линолеуме покоились золотистые квадраты полуденного света, за открытым окном взблескивала, словно россыпь алмазов, река Ертыс, и по ней, издавая утробный рев, полз белоснежный теплоход, украшенный яркими флажками.
- Что скажешь, Ринат? – глухо спросил Юдин, не отрываясь от газеты.
- Я такое только в кино видел, - искренне ответил тот.
Юдин вздохнул. Излишнюю человечность своих подчиненных он не одобрял, однако перекроить их под себя, сделав бесчувственными, было невозможно. Нужно было дать Гатауллину время, чтобы тот осознал серьезность дела. А было оно более чем серьезным, потому что от убитых девочек мало что осталось: правая рука, левая нога с отпиленным мыском ступни, правая нога в обугленном ботинке и отрубленная голова, которая пострадала особенно сильно. Искаженное удушьем лицо покрывали корки ссадин и сизые трупные пятна, а из пробитого черепа, скрывающегося под черным каре, торчала искусственная гвоздика с пышным бантом траурной ленты – как на букетах, которые школьники дарили учителям в День знаний. Трафаретная цифра "4", выведенная на мертвом лбу, казалась неестественно-желтой.
- Выглядит так, будто он фильмов насмотрелся. Слишком… показушно, - наконец подобрал нужные слова Гатауллин.
- Молодец. Мне это тоже бросилось в глаза. Что-то здесь не так.
Довольный сухой похвалой, Гатауллин улыбнулся. Юдин, не желая выдавать своего смятения, покровительственно усмехнулся в ответ. Не всякому удавалось загнать его в тупик, однако Смородинскому маньяку, которого журналисты уже успели прозвать Ленинским душителем, это оказалось под силу. Юдина не покидало ощущение, будто он вслепую бродит по затопленному лабиринту. Уже не раз он ловил себя на том, что при виде прохожих в лакированных ботинках невольно сжимает кулаки, словно перекрывая кому-то дыхание. Багровые охапки гвоздик в цветочных киосках вызывали зубовный скрежет. Аттракционы на детских площадках, выкрашенные в яично-желтый, болезненно отпечатывались на сетчатке. Снились сны, в которых Юдин связывал колючей проволокой Ленинского душителя с лицом Евгения Фишера.
Юдин уронил газету на стол, сжал пальцами виски и, закрыв глаза, нырнул в обволакивающий мрак. Гудел, уплывая вдаль, речной теплоход, пахло одеколоном и вареным мясом. Юдин, стараясь дышать размеренно, досчитал до десяти. Злоба отступила, но полностью не исчезла. Впервые за долгие годы Юдину не нравилось, что в расследовании наметился прогресс, потому что это был совсем не тот прогресс, на который он рассчитывал.
Второго мая возле пожарной части нашли правую ногу – всё, что осталось от третьей жертвы Ленинского душителя. На месте происшествия Юдин обнаружил растерянных понятых, удивленные лица детей, которые маячили в окнах бледно-рыжего барака, и отрубленную конечность. Та лежала в пыльной кленовой аллее, между пожарной частью и барачным кварталом. Нога была пронумерована, а ботинок сильно обуглен. На бедре алела искусственная гвоздика, туго привязанная к нему траурной лентой.
Экспертиза установила, что маньяк поджигал конечность, облив ботинок бензином. Выше голени нога осталась нетронутой, однако узнать, кому именно она принадлежала, так и не удалось. Для удобства Юдин дал третьей жертве условное имя – Маша Иванова.
Пятого мая в Жуковском микрорайоне, возле ресторана "Лазурный", был задержан таксист Колодин, который, как показал обыск, имел при себе охотничий нож, букет красных гвоздик, лежащий на переднем сиденье, и женский труп в багажнике, расфасованный по мусорным пакетам. Однако Колодин, хоть и убивал не впервые, несовершеннолетних не трогал, считая распутными лишь взрослых женщин, а букет вез на кладбище, где был похоронен его дедушка-ветеран. Колодин намеревался заехать туда по пути на болота, однако вместо этого угодил в ИВС[53].
[53] изолятор временного содержания
После Дня Победы вновь дал о себе знать Ленинский душитель, который в праздничную ночь подбросил на крыльцо роддома голову четвертой жертвы. Роддом был выбран своеобразный – соседствующий с промзоной, заброшенным кладбищем и микрорайоном Химгородки, который славился ночными ограблениями. Согласно городским легендам, в подвале этого роддома находился крематорий, где сжигали мертворожденных младенцев.
Голову опознали родители жертвы. Убитую звали Юлия Горбань. Девочка считалась благополучной, в плохих компаниях замечена не была и ходила в шахматный клуб. Допрашивая практикантов из медучилища, которые и обнаружили голову, Юдин обратил внимание на нервозность одного из них – щуплого студента Захарова. Доверившись интуиции, Юдин надавил на него. Тот расплакался и сознался, но не в убийствах, а в нескольких актах некрофилии.
А через два дня в газете "Звезда Павлозаводска" вышла желчная статья, наверняка раздувшая эго серийника до невероятных размеров. Журналистка по имени Елена Идельман красочно описала беспомощность Следственного комитета, процитировала для контраста скорбящих родителей и завершила статью намеком на то, что первого июня, в День защиты детей, наверняка произойдет пятое убийство – на этот раз совсем уж циничное.
Впервые прочитав статью, Юдин ощутил в себе острое желание наведаться в гости к Идельман и свернуть ей шею. Она была то ли непроходимой дурой, которая не понимала, что подобный намек лишь подкрепит намерения маньяка, то ли очерствевшей психопаткой, которая мечтала о добротном журналистском расследовании.
Как бы то ни было, исправить ситуацию было уже невозможно. Серийный убийца обрел официальное прозвище, и слухи, которые прежде лишь витали в закоулках Павлозаводска, обросли плотью. Девочек после наступления темноты перестали выпускать на улицу, а горожане заговорили о том, что прежде было тайной следствия – об отрубленных конечностях, красных гвоздиках и траурных лентах. Полковник Крыгин, возглавляющий следственный отдел, отчитал Юдина за найденные младенческие кости, труп мужчины из колодца, который до сих пор не опознали, и некрофила Захарова. Это определенно был результат, но результат побочный.
Покинув кабинет Крыгина, Юдин зашел на сайт "Звезды Павлозаводска" и совсем не удивился, увидев на фотографии Идельман хищного вида женщину с вьющимися волосами, черными, как агат, глазами и малиново-красным ртом. Желание свернуть ей шею усилилось. Однако Юдин всего лишь распечатал портрет Идельман, чтобы пополнить свою коллекцию воображаемых жертв.
В середине мая объявился свидетель, который видел, как Юлия Горбань около полуночи шла по переулку в Матросовском микрорайоне, а затем свернула за гаражи, но даже эти показания ничего не прояснили. Юдину искренне хотелось, чтобы День защиты детей в этом году не наступал. Идельман вряд ли обладала следственным опытом, однако, будучи человеком искусства, не могла не понять, что убийца, обладающий столь своеобразным чувством юмора, не упустит символичную дату и расправится с пятой жертвой особенно глумливо.
- Если не учитывать последнее убийство, то во всех четырех случаях никто ничего не видел и не слышал, - раздался в темноте сосредоточенный голос Гатауллина, - возможно, жертвы не оказывали сопротивление. Даже если Душитель и сидел, то далеко не факт, что он выглядит, как зэк.
Юдин нехотя открыл глаза. Далекий гул теплохода, газета с неоднозначной статьей и фотографии отрубленных конечностей никуда не делись.
- Наверняка. Скорее всего, у него интеллигентная внешность, - согласился Юдин, уставившись перед собой. Мысли, пройдя по витиеватому пути ассоциаций, вновь вернулись к двойственному образу Фишера. У которого, впрочем, было алиби по всем эпизодам.
"Бред. Это всего лишь уловка моей патологии, не стоит поддаваться, - одернул себя Юдин, - если я убью Фишера, то вряд ли смогу это скрыть. Сейчас не девяностые".
- Расчленение говорит о сильной ненависти к жертвам. Почти все убитые были из неблагополучных семей, - продолжил Гатауллин, - возможно, мы имеем дело с чистильщиком. Который очень демонстративен и убивает в праздники.
Юдин мысленно взвесил эту гипотезу. Здравое зерно в ней, конечно, было. Однако Ленинский душитель мог совершать преступления по праздникам из практических соображений: в такие дни полицейские патрули были стянуты к местам массовых мероприятий, а занимались, в основном, пьяными драками. Для охоты на городских окраинах праздники подходили как нельзя лучше.
- То есть, мы имеем дело с сидельцем из местных, который может сдерживать свои порывы до определенной даты, хорошо знает город и владеет транспортным средством, - подытожил Гатауллин. Откусив от чебурека, он повернулся к Юдину и вопросительно на него посмотрел, словно ожидая одобрения.
- Может, Душитель таксует? – предположил Юдин, вспомнив Колодина.
Гатауллин вновь погрузился в раздумья и окинул взглядом доску с фотографиями. Юдин последовал его примеру и, ни до чего не додумавшись, почесал в затылке. Что-то смущало его: то ли явный эстетизм убийств, то ли вероятная доверчивость жертв, которые посчитали Душителя безобидным, то ли аккуратные банты из траурных лент. Юдин чуял нутром, что подсказка плавает на поверхности, однако уловить её не мог – та ускользала, как напуганная шумом рыба.
- Да уж. Одна нога здесь, другая там, - сардонически произнес он. В голове промелькнула абсурдная мысль, что если Душитель в следующий раз подбросит следствию левую руку, то из найденных конечностей можно будет собрать новую девочку.
- И, что важно, голова есть. На ней очень хорошая борозда, Роман Викторович, - напомнил Гатауллин, проигнорировав шутку.
Скорее всего, таким образом он пытался подбодрить начальника, однако анализировать его чувства Юдину сейчас совсем не хотелось. Что, впрочем, правоты Гатауллина не отменяло.
Странгуляционная борозда, обнаруженная на шее Юлии Горбань, действительно проясняла многое. Душитель напал на девочку сзади, применив веревку, и расположение борозды выдавало его низкорослость. К сожалению, орально Душитель жертву не насиловал: имея на руках генетический материал убийцы, дело можно было бы раскрыть за относительно короткий срок.
"Наверное, износ[54] был в естественной форме. Но самовар[55] он нам, конечно, вряд ли подкинет", - кисло подумал Юдин.
[54] изнасилование (жарг.)
[55] торс без конечностей и головы (жарг.)
Его не прельщала перспектива заново проходить через всё то, чем сопровождались затянувшиеся поиски маньяка Миронова. По его следу Юдин шел почти год: тот тоже не оставлял никаких улик, пока в итоге не сорвался, искусав последнюю жертву – мальчика, собирающего грибы. Именно этот труп помог Юдину поставить жирную точку в деле Миронова, который, к своему несчастью, исправно посещал стоматологию.
- Хотя иногда мне кажется, что Душитель не сидел, - произнес вдруг Гатауллин.
- В таком случае он должен быть как минимум умным. Или вообще иметь специфическое образование.
- Захаров не подходит. Я его уже проверил, он просто некрофил, а не мокрушник, - поморщился Гатауллин. – Нельзя исключать, что наш психопат – самоучка, который начитался учебников по судебной медицине.
- Или мент, - ухмыльнулся Юдин.
- Если бы он был ментом, то не подкинул бы нам голову с бороздой.
- То есть, Душителем может быть кто угодно? Я тебя правильно понял, Ринат?
Дожевав последний кусок чебурека, Гатауллин скомкал салфетку и повернулся к Юдину:
- Да, Роман Викторович. Кто угодно. Агрессивные желания возникают у всех. Кто-то не воплощает их в жизнь, потому что не может причинять боль живым людям, а кто-то боится за свою шкуру и не хочет сидеть. Но если возникает возможность кому-то навредить и гарантированно уйти от ответственности, то люди всегда поддаются. Это всего лишь вопрос времени.
- На своих фигурантах подсмотрел? – шутливо спросил Юдин, надеясь сменить тему.
Гатауллин, сам того не зная, рассуждал о нем и его врожденном дефекте. И хотя инцидент с Белкиным остался для всех тайной, повторять это с кем-нибудь другим Юдин не планировал – во второй раз ему могло не повезти.
- Конечно. До брака все они ведут себя нормально. А потом рядом оказывается кто-нибудь зависимый: сожительницы, жены, дети… И начинается мордобой. К жестокости склонны все. В той или иной степени.
- Даже мы с тобой? – уточнил Юдин, оголив в улыбке белые зубы.
- Особенно мы. Профессия обязывает.
Юдин лишь хмыкнул и снова взял в руки газету, давая понять, что разговор окончен. Гатауллин ни о чем подозревать не мог, однако зацикливаться на этих параноидальных опасениях всё равно не стоило - это тоже могло привести к нежелательным последствиям.
Сойдясь в итоге на том, что версия о бывшем заключенном будет основной, а версия о самоучке – дополнительной, старший следователь Юдин и его помощник вернулись к рабочей рутине. Вечером от фототаблиц, заявлений о пропаже и заключений экспертов рябило в глазах. Юдин морально приготовился к тому, что ему в очередной раз приснятся следственные действия, и по пути домой заехал в алкомаркет, влажный асфальт перед которым пестрел красно-белыми мазками.
Пряча в карманах трясущиеся руки, Юдин нерешительно, как школьник, бродил по лабиринту стеллажей, среди искрящихся бутылок всевозможных цветов и форм. Он пытался понять, стоит ли пить, имея в анамнезе застопорившееся дело Ленинского душителя, однако заметил косой взгляд охранника, которого не смутил даже китель с майорскими погонами, и схватил первую попавшуюся бутылку - пол-литра коньяка "Старый Кенигсберг". В конце концов, отметить можно было хотя бы поимку Колодина. Направляясь к кассе, Юдин чувствовал, как холодит вспотевшую ладонь гладкое стекло горловины. Коньяк плескался в бутылке, приглушенно булькая в такт шагам.
Добравшись до своей квартиры, Юдин чудом сдержался и опорожнил бутылку лишь после того, как поужинал вчерашними тефтелями, однако не помогло даже это. Сказались семь лет трезвости, и Юдина развезло. Он уснул, не успев переместиться в спальню, развалившись на диване в зале, рассыпав по полу веер фотографий. Мускулистая рука свисала с дивана, как надломленная ветка. Косился на темный дверной проем смеющийся Фишер, растерянно глядел в потолок Белкин, улыбалась малиновыми губами Елена Идельман.
Стоя перед пестрой шторой из деревянных бусин, за которой виднелся зал родительской квартиры, Юдин вслушивался в стеклянно-жалобные ноты полонеза Огинского – играла заведенная кем-то бабушкина шкатулка, увитая золотистым узором. Юдин насторожился. Аккуратно, стараясь не шуметь, он нагнулся и, миновав дверной проем, очутился в зале. Позади дробно зашелестела штора, выдавая его присутствие.
Комната, залитая желтоватым электрическим светом, вызывала иррациональное отвращение, будто кусок сырого мяса, облепленный мухами. За единственным окном виднелся ноздреватый блин луны. В дальнем углу, опираясь на деревянную тумбу, стоял громоздкий телевизор с рожками антенны и выпуклым, как пузырь, экраном, по которому ползали зернистые полосы помех. С фотообоев за Юдиным наблюдали смолисто-черные глаза березняка, на книжных полках поблескивали морские раковины, привезенные с советских курортов, а над диваном скалило зубы полутораметровое чучело щуки, которую однажды поймал на рыбалке еще живой отец. Юдин подошел к дивану и заметил лежащую на подлокотнике маску волка – неказистую, сделанную из папье-маше, раскрашенную гуашью. Юдина передернуло. От маски разило холодом, мокрой землей и несвежей кровью. К ней не хотелось даже прикасаться.
Полонез Огинского замедлился и охрип, словно увязая в застоявшемся воздухе. Уловив краем глаза какое-то шевеление, Юдин резко повернул голову и оторопел. На экране телевизора, сменив грязную кашу помех, возник рисованный мультфильм пятидесятых годов - с характерной мягкой палитрой, но неожиданно жестоким сюжетом. В центре лесной поляны потрошила зайчонка сова, из-за деревьев к ней подкрадывался волк, а чуть поодаль лежал на траве козленок, который сонно облизывал берцовую, явно человеческую кость. Вокруг козленка, как сгусток огня, шаловливо прыгала пушистая лисица.
Камера отдалилась, и у Юдина сдавило в груди. Из лесной чащи вышла лубочная старушка в плаще и косынке. Совсем не шевеля корпусом, словно опиралась она на колесики, а не на ноги, старушка медленно приближалась к собранию зверей, а за ней неуклюже брели два медвежонка. У Юдина, схваченного детским страхом, задрожали колени. Он рефлекторно пригнулся, чтобы не попасться старушке на глаза, однако та посмотрела в камеру, и Юдин, стремительно теряя силы, осознал, что его заметили. Старушка уставилась прямо на него – пристально и бесстрастно, как уставший эсэсовец. В черных провалах её паучьих глаз горел мертвый, холодный, грязно-желтый огонь.
- Что скажешь, Ринат? – глухо спросил Юдин, не отрываясь от газеты.
- Я такое только в кино видел, - искренне ответил тот.
Юдин вздохнул. Излишнюю человечность своих подчиненных он не одобрял, однако перекроить их под себя, сделав бесчувственными, было невозможно. Нужно было дать Гатауллину время, чтобы тот осознал серьезность дела. А было оно более чем серьезным, потому что от убитых девочек мало что осталось: правая рука, левая нога с отпиленным мыском ступни, правая нога в обугленном ботинке и отрубленная голова, которая пострадала особенно сильно. Искаженное удушьем лицо покрывали корки ссадин и сизые трупные пятна, а из пробитого черепа, скрывающегося под черным каре, торчала искусственная гвоздика с пышным бантом траурной ленты – как на букетах, которые школьники дарили учителям в День знаний. Трафаретная цифра "4", выведенная на мертвом лбу, казалась неестественно-желтой.
- Выглядит так, будто он фильмов насмотрелся. Слишком… показушно, - наконец подобрал нужные слова Гатауллин.
- Молодец. Мне это тоже бросилось в глаза. Что-то здесь не так.
Довольный сухой похвалой, Гатауллин улыбнулся. Юдин, не желая выдавать своего смятения, покровительственно усмехнулся в ответ. Не всякому удавалось загнать его в тупик, однако Смородинскому маньяку, которого журналисты уже успели прозвать Ленинским душителем, это оказалось под силу. Юдина не покидало ощущение, будто он вслепую бродит по затопленному лабиринту. Уже не раз он ловил себя на том, что при виде прохожих в лакированных ботинках невольно сжимает кулаки, словно перекрывая кому-то дыхание. Багровые охапки гвоздик в цветочных киосках вызывали зубовный скрежет. Аттракционы на детских площадках, выкрашенные в яично-желтый, болезненно отпечатывались на сетчатке. Снились сны, в которых Юдин связывал колючей проволокой Ленинского душителя с лицом Евгения Фишера.
Юдин уронил газету на стол, сжал пальцами виски и, закрыв глаза, нырнул в обволакивающий мрак. Гудел, уплывая вдаль, речной теплоход, пахло одеколоном и вареным мясом. Юдин, стараясь дышать размеренно, досчитал до десяти. Злоба отступила, но полностью не исчезла. Впервые за долгие годы Юдину не нравилось, что в расследовании наметился прогресс, потому что это был совсем не тот прогресс, на который он рассчитывал.
Второго мая возле пожарной части нашли правую ногу – всё, что осталось от третьей жертвы Ленинского душителя. На месте происшествия Юдин обнаружил растерянных понятых, удивленные лица детей, которые маячили в окнах бледно-рыжего барака, и отрубленную конечность. Та лежала в пыльной кленовой аллее, между пожарной частью и барачным кварталом. Нога была пронумерована, а ботинок сильно обуглен. На бедре алела искусственная гвоздика, туго привязанная к нему траурной лентой.
Экспертиза установила, что маньяк поджигал конечность, облив ботинок бензином. Выше голени нога осталась нетронутой, однако узнать, кому именно она принадлежала, так и не удалось. Для удобства Юдин дал третьей жертве условное имя – Маша Иванова.
Пятого мая в Жуковском микрорайоне, возле ресторана "Лазурный", был задержан таксист Колодин, который, как показал обыск, имел при себе охотничий нож, букет красных гвоздик, лежащий на переднем сиденье, и женский труп в багажнике, расфасованный по мусорным пакетам. Однако Колодин, хоть и убивал не впервые, несовершеннолетних не трогал, считая распутными лишь взрослых женщин, а букет вез на кладбище, где был похоронен его дедушка-ветеран. Колодин намеревался заехать туда по пути на болота, однако вместо этого угодил в ИВС[53].
[53] изолятор временного содержания
После Дня Победы вновь дал о себе знать Ленинский душитель, который в праздничную ночь подбросил на крыльцо роддома голову четвертой жертвы. Роддом был выбран своеобразный – соседствующий с промзоной, заброшенным кладбищем и микрорайоном Химгородки, который славился ночными ограблениями. Согласно городским легендам, в подвале этого роддома находился крематорий, где сжигали мертворожденных младенцев.
Голову опознали родители жертвы. Убитую звали Юлия Горбань. Девочка считалась благополучной, в плохих компаниях замечена не была и ходила в шахматный клуб. Допрашивая практикантов из медучилища, которые и обнаружили голову, Юдин обратил внимание на нервозность одного из них – щуплого студента Захарова. Доверившись интуиции, Юдин надавил на него. Тот расплакался и сознался, но не в убийствах, а в нескольких актах некрофилии.
А через два дня в газете "Звезда Павлозаводска" вышла желчная статья, наверняка раздувшая эго серийника до невероятных размеров. Журналистка по имени Елена Идельман красочно описала беспомощность Следственного комитета, процитировала для контраста скорбящих родителей и завершила статью намеком на то, что первого июня, в День защиты детей, наверняка произойдет пятое убийство – на этот раз совсем уж циничное.
Впервые прочитав статью, Юдин ощутил в себе острое желание наведаться в гости к Идельман и свернуть ей шею. Она была то ли непроходимой дурой, которая не понимала, что подобный намек лишь подкрепит намерения маньяка, то ли очерствевшей психопаткой, которая мечтала о добротном журналистском расследовании.
Как бы то ни было, исправить ситуацию было уже невозможно. Серийный убийца обрел официальное прозвище, и слухи, которые прежде лишь витали в закоулках Павлозаводска, обросли плотью. Девочек после наступления темноты перестали выпускать на улицу, а горожане заговорили о том, что прежде было тайной следствия – об отрубленных конечностях, красных гвоздиках и траурных лентах. Полковник Крыгин, возглавляющий следственный отдел, отчитал Юдина за найденные младенческие кости, труп мужчины из колодца, который до сих пор не опознали, и некрофила Захарова. Это определенно был результат, но результат побочный.
Покинув кабинет Крыгина, Юдин зашел на сайт "Звезды Павлозаводска" и совсем не удивился, увидев на фотографии Идельман хищного вида женщину с вьющимися волосами, черными, как агат, глазами и малиново-красным ртом. Желание свернуть ей шею усилилось. Однако Юдин всего лишь распечатал портрет Идельман, чтобы пополнить свою коллекцию воображаемых жертв.
В середине мая объявился свидетель, который видел, как Юлия Горбань около полуночи шла по переулку в Матросовском микрорайоне, а затем свернула за гаражи, но даже эти показания ничего не прояснили. Юдину искренне хотелось, чтобы День защиты детей в этом году не наступал. Идельман вряд ли обладала следственным опытом, однако, будучи человеком искусства, не могла не понять, что убийца, обладающий столь своеобразным чувством юмора, не упустит символичную дату и расправится с пятой жертвой особенно глумливо.
- Если не учитывать последнее убийство, то во всех четырех случаях никто ничего не видел и не слышал, - раздался в темноте сосредоточенный голос Гатауллина, - возможно, жертвы не оказывали сопротивление. Даже если Душитель и сидел, то далеко не факт, что он выглядит, как зэк.
Юдин нехотя открыл глаза. Далекий гул теплохода, газета с неоднозначной статьей и фотографии отрубленных конечностей никуда не делись.
- Наверняка. Скорее всего, у него интеллигентная внешность, - согласился Юдин, уставившись перед собой. Мысли, пройдя по витиеватому пути ассоциаций, вновь вернулись к двойственному образу Фишера. У которого, впрочем, было алиби по всем эпизодам.
"Бред. Это всего лишь уловка моей патологии, не стоит поддаваться, - одернул себя Юдин, - если я убью Фишера, то вряд ли смогу это скрыть. Сейчас не девяностые".
- Расчленение говорит о сильной ненависти к жертвам. Почти все убитые были из неблагополучных семей, - продолжил Гатауллин, - возможно, мы имеем дело с чистильщиком. Который очень демонстративен и убивает в праздники.
Юдин мысленно взвесил эту гипотезу. Здравое зерно в ней, конечно, было. Однако Ленинский душитель мог совершать преступления по праздникам из практических соображений: в такие дни полицейские патрули были стянуты к местам массовых мероприятий, а занимались, в основном, пьяными драками. Для охоты на городских окраинах праздники подходили как нельзя лучше.
- То есть, мы имеем дело с сидельцем из местных, который может сдерживать свои порывы до определенной даты, хорошо знает город и владеет транспортным средством, - подытожил Гатауллин. Откусив от чебурека, он повернулся к Юдину и вопросительно на него посмотрел, словно ожидая одобрения.
- Может, Душитель таксует? – предположил Юдин, вспомнив Колодина.
Гатауллин вновь погрузился в раздумья и окинул взглядом доску с фотографиями. Юдин последовал его примеру и, ни до чего не додумавшись, почесал в затылке. Что-то смущало его: то ли явный эстетизм убийств, то ли вероятная доверчивость жертв, которые посчитали Душителя безобидным, то ли аккуратные банты из траурных лент. Юдин чуял нутром, что подсказка плавает на поверхности, однако уловить её не мог – та ускользала, как напуганная шумом рыба.
- Да уж. Одна нога здесь, другая там, - сардонически произнес он. В голове промелькнула абсурдная мысль, что если Душитель в следующий раз подбросит следствию левую руку, то из найденных конечностей можно будет собрать новую девочку.
- И, что важно, голова есть. На ней очень хорошая борозда, Роман Викторович, - напомнил Гатауллин, проигнорировав шутку.
Скорее всего, таким образом он пытался подбодрить начальника, однако анализировать его чувства Юдину сейчас совсем не хотелось. Что, впрочем, правоты Гатауллина не отменяло.
Странгуляционная борозда, обнаруженная на шее Юлии Горбань, действительно проясняла многое. Душитель напал на девочку сзади, применив веревку, и расположение борозды выдавало его низкорослость. К сожалению, орально Душитель жертву не насиловал: имея на руках генетический материал убийцы, дело можно было бы раскрыть за относительно короткий срок.
"Наверное, износ[54] был в естественной форме. Но самовар[55] он нам, конечно, вряд ли подкинет", - кисло подумал Юдин.
[54] изнасилование (жарг.)
[55] торс без конечностей и головы (жарг.)
Его не прельщала перспектива заново проходить через всё то, чем сопровождались затянувшиеся поиски маньяка Миронова. По его следу Юдин шел почти год: тот тоже не оставлял никаких улик, пока в итоге не сорвался, искусав последнюю жертву – мальчика, собирающего грибы. Именно этот труп помог Юдину поставить жирную точку в деле Миронова, который, к своему несчастью, исправно посещал стоматологию.
- Хотя иногда мне кажется, что Душитель не сидел, - произнес вдруг Гатауллин.
- В таком случае он должен быть как минимум умным. Или вообще иметь специфическое образование.
- Захаров не подходит. Я его уже проверил, он просто некрофил, а не мокрушник, - поморщился Гатауллин. – Нельзя исключать, что наш психопат – самоучка, который начитался учебников по судебной медицине.
- Или мент, - ухмыльнулся Юдин.
- Если бы он был ментом, то не подкинул бы нам голову с бороздой.
- То есть, Душителем может быть кто угодно? Я тебя правильно понял, Ринат?
Дожевав последний кусок чебурека, Гатауллин скомкал салфетку и повернулся к Юдину:
- Да, Роман Викторович. Кто угодно. Агрессивные желания возникают у всех. Кто-то не воплощает их в жизнь, потому что не может причинять боль живым людям, а кто-то боится за свою шкуру и не хочет сидеть. Но если возникает возможность кому-то навредить и гарантированно уйти от ответственности, то люди всегда поддаются. Это всего лишь вопрос времени.
- На своих фигурантах подсмотрел? – шутливо спросил Юдин, надеясь сменить тему.
Гатауллин, сам того не зная, рассуждал о нем и его врожденном дефекте. И хотя инцидент с Белкиным остался для всех тайной, повторять это с кем-нибудь другим Юдин не планировал – во второй раз ему могло не повезти.
- Конечно. До брака все они ведут себя нормально. А потом рядом оказывается кто-нибудь зависимый: сожительницы, жены, дети… И начинается мордобой. К жестокости склонны все. В той или иной степени.
- Даже мы с тобой? – уточнил Юдин, оголив в улыбке белые зубы.
- Особенно мы. Профессия обязывает.
Юдин лишь хмыкнул и снова взял в руки газету, давая понять, что разговор окончен. Гатауллин ни о чем подозревать не мог, однако зацикливаться на этих параноидальных опасениях всё равно не стоило - это тоже могло привести к нежелательным последствиям.
Сойдясь в итоге на том, что версия о бывшем заключенном будет основной, а версия о самоучке – дополнительной, старший следователь Юдин и его помощник вернулись к рабочей рутине. Вечером от фототаблиц, заявлений о пропаже и заключений экспертов рябило в глазах. Юдин морально приготовился к тому, что ему в очередной раз приснятся следственные действия, и по пути домой заехал в алкомаркет, влажный асфальт перед которым пестрел красно-белыми мазками.
Пряча в карманах трясущиеся руки, Юдин нерешительно, как школьник, бродил по лабиринту стеллажей, среди искрящихся бутылок всевозможных цветов и форм. Он пытался понять, стоит ли пить, имея в анамнезе застопорившееся дело Ленинского душителя, однако заметил косой взгляд охранника, которого не смутил даже китель с майорскими погонами, и схватил первую попавшуюся бутылку - пол-литра коньяка "Старый Кенигсберг". В конце концов, отметить можно было хотя бы поимку Колодина. Направляясь к кассе, Юдин чувствовал, как холодит вспотевшую ладонь гладкое стекло горловины. Коньяк плескался в бутылке, приглушенно булькая в такт шагам.
Добравшись до своей квартиры, Юдин чудом сдержался и опорожнил бутылку лишь после того, как поужинал вчерашними тефтелями, однако не помогло даже это. Сказались семь лет трезвости, и Юдина развезло. Он уснул, не успев переместиться в спальню, развалившись на диване в зале, рассыпав по полу веер фотографий. Мускулистая рука свисала с дивана, как надломленная ветка. Косился на темный дверной проем смеющийся Фишер, растерянно глядел в потолок Белкин, улыбалась малиновыми губами Елена Идельман.
Стоя перед пестрой шторой из деревянных бусин, за которой виднелся зал родительской квартиры, Юдин вслушивался в стеклянно-жалобные ноты полонеза Огинского – играла заведенная кем-то бабушкина шкатулка, увитая золотистым узором. Юдин насторожился. Аккуратно, стараясь не шуметь, он нагнулся и, миновав дверной проем, очутился в зале. Позади дробно зашелестела штора, выдавая его присутствие.
Комната, залитая желтоватым электрическим светом, вызывала иррациональное отвращение, будто кусок сырого мяса, облепленный мухами. За единственным окном виднелся ноздреватый блин луны. В дальнем углу, опираясь на деревянную тумбу, стоял громоздкий телевизор с рожками антенны и выпуклым, как пузырь, экраном, по которому ползали зернистые полосы помех. С фотообоев за Юдиным наблюдали смолисто-черные глаза березняка, на книжных полках поблескивали морские раковины, привезенные с советских курортов, а над диваном скалило зубы полутораметровое чучело щуки, которую однажды поймал на рыбалке еще живой отец. Юдин подошел к дивану и заметил лежащую на подлокотнике маску волка – неказистую, сделанную из папье-маше, раскрашенную гуашью. Юдина передернуло. От маски разило холодом, мокрой землей и несвежей кровью. К ней не хотелось даже прикасаться.
Полонез Огинского замедлился и охрип, словно увязая в застоявшемся воздухе. Уловив краем глаза какое-то шевеление, Юдин резко повернул голову и оторопел. На экране телевизора, сменив грязную кашу помех, возник рисованный мультфильм пятидесятых годов - с характерной мягкой палитрой, но неожиданно жестоким сюжетом. В центре лесной поляны потрошила зайчонка сова, из-за деревьев к ней подкрадывался волк, а чуть поодаль лежал на траве козленок, который сонно облизывал берцовую, явно человеческую кость. Вокруг козленка, как сгусток огня, шаловливо прыгала пушистая лисица.
Камера отдалилась, и у Юдина сдавило в груди. Из лесной чащи вышла лубочная старушка в плаще и косынке. Совсем не шевеля корпусом, словно опиралась она на колесики, а не на ноги, старушка медленно приближалась к собранию зверей, а за ней неуклюже брели два медвежонка. У Юдина, схваченного детским страхом, задрожали колени. Он рефлекторно пригнулся, чтобы не попасться старушке на глаза, однако та посмотрела в камеру, и Юдин, стремительно теряя силы, осознал, что его заметили. Старушка уставилась прямо на него – пристально и бесстрастно, как уставший эсэсовец. В черных провалах её паучьих глаз горел мертвый, холодный, грязно-желтый огонь.
Прячась под корнями бурелома, Фишер лежал в засаде и смотрел сквозь объектив фотокамеры на безлюдную лесополосу. Дремотно шевелился луг, усыпанный бисером полевых цветов, а чуть поодаль отцветал перед болотистой чащей терновник, залитый золотистым светом полуденного солнца. Фишер выдвинул объектив, и в кадре оказался один из терновых кустов, усеянный жухлыми, грязно-белыми бутонами. На острые шипы ветвей были нанизаны мертвые мыши, гниющие ящерицы и обезглавленные воробьи – добыча сорокопутов, которые гнездились неподалеку.
Бердвотчинг привлекал Фишера своим глубинным сходством с охотой. Когда он брал в прицел птицу и щелкал затвором, его коллекция пополнялась еще одним слепком крохотной жизни, красочным мгновением ушедшего времени. Людей Фишер не фотографировал, потому что ощущения были схожие: он словно утаскивал домой чей-то околевший труп.
Мелькнув в теплом воздухе, на увядающий куст приземлилась небольшая птица. Фишер до упора выдвинул объектив. Пепельного окраса сорокопут, чьи крылья украшала черная кайма, держался когтями за качающуюся ветку и вертел головой, оглядывая окрестности. Агатовые бусины глаз маниакально блестели. В загнутом клюве, похожем на крюк с зазубренным острием, висела обмякшая полевая мышь. Фишер смущенно улыбнулся, поместил сорокопута с жертвой в центр кадра и сделал первый снимок.
Человеческого присутствия сорокопут не замечал. Наколов убитую мышь на свободный шип, он, оправдывая свое латинское название – "птица-мясник", вонзил кончик клюва в тушку и принялся жадно заглатывать кусочки сырого мяса. Фишер делал фотографию за фотографией. Угольно-карие глаза стекленели, раздувались крылья крючковатого носа, мелко дрожали пальцы. Зарезанный Жора, всплывший из глубин памяти, обратно возвращаться не желал.
Хотя прошло уже шесть лет, Фишер помнил всё, чем были наполнены те переломные сутки – среда, четвертое июня, четырнадцатый год. Элен, с которой Фишер начал работать вскоре после похорон Риты, закончила тогда работу раньше обычного, сославшись на плохое самочувствие, и Фишер, у которого внезапно появилось свободное время, согласился на предложение Жоры вместе выпить в баре. Оставив нож дома, чтобы никого по пьяни не зарезать, а машину на стоянке, чтобы никого по пьяни не сбить, Фишер сел на метро и добрался до Гражданского проспекта.
Жора был в приподнятом настроении. Он пил водку, звякая рюмками об стол, закусывал кусочками колбасы и хвастался, что несколько часов назад рассчитался с долгами. Фишер, не желая напиваться до невменяемости, ограничивался "белым русским", однако уже через несколько шотов мясистое лицо Жоры, по которому пробегали красно-синие точки цветомузыки, стало расслаиваться, все больше и больше напоминая чайный гриб. Неожиданно для самого себя Фишер отключился. Последним, что он видел, был Жора, который смахнул локтем на пол пустые рюмки, чем вызвал недовольство официантки и чей-то восторженный гогот.
- Это всё из-за твоих коктейлей пидорских, - добродушно наставлял Жора, сидя за рулем своего "ниссана", пока Фишер блевал из окна на парковку, - если бы ты пил просто водку, как я, то был бы сейчас бодрячком.
Вытерев рукавом рубашки испачканный подбородок, Фишер закрыл окно и повалился обратно на сиденье.
- Белый русский… Большой Лебовски… - из последних сил промямлил он. На большее его не хватило.
- Пить по средам мы не бросим! – довольно хохотнул Жора. Фразу он не закончил, но рифма так и напрашивалась.
Фишер возмущенно замычал, понял, что все его возражения прозвучат крайне жалко, и закрыл глаза, а когда открыл их, то обнаружил себя в темном помещении, на чьей-то широкой кровати. Гудела голова, во рту было сухо, нестерпимо хотелось пить.
Постепенно глаза привыкли к темноте, и Фишер понял, что очков на нем нет, однако всё же опознал знакомую двустворчатую дверь, за рифлеными стеклами которой горел желтоватый электрический свет. Облегченно вздохнув, Фишер протянул руку туда, где обычно находилась тумбочка, и нащупал свои очки. В пыльном сумраке проступили мазки беленых стен, очертания сломанных часов с ходикам в виде шишек и незашторенное окно, по которому ползли маслянистые потеки лунного света.
Кое-как встав с кровати, Фишер машинально разгладил руками брюки с рубашкой, которые наверняка выглядели непрезентабельно, и заметил, что правый рукав кисло пахнет рвотой. Искривившись, Фишер попытался восстановить в памяти события минувшего вечера. Судя по всему, Жора посчитал его совсем уж пьяным, привез к себе домой и уложил в спальне, а сам остался в зале. Но определить, один он там был или с кем-то еще, не представлялось возможным: рифленое стекло дробило обзор на зыбкие штрихи и размытые пятна, за которыми смутно угадывалась искаженная сутуловатая тень.
Надеясь не застать Жору в неловком положении, Фишер осторожно вышел в зал и оцепенел. Возле дивана, обычно застеленного серым пледом в шотландскую клетку, мерцала на дощатом полу бутылка "Абсолюта" – совершенно пустая. Вторая бутылка, заполненная на четверть, стояла на подоконнике, около горшка с алоэ. Жора, весь красный от выпитого, сидел на диване, запустив пальцы в короткие, слипшиеся от пота волосы и пристально глядел на тот самый клетчатый плед, который почему-то был свернут в бугрящийся рулон и лежал на пестром ковре. У Фишера подкосились ноги. Очертаниями скатанный плед напоминал человека.
Жора медленно повернул голову и встретился с Фишером взглядом. Мутные глаза распахнулись, но тут же сузились в злобном прищуре. Фишер сорвался с места и побежал в коридор. Нужно было как можно скорее покинуть место преступления, а затем уехать – желательно, в Павлозаводск.
Ввалившись в тесную прихожую, Фишер кинулся к приоткрытой двери. Гулко завывал ветер, лаял соседский пес, по бетонированному двору прыгали рыжие отсветы фонаря.
- Стой, сука! – тягуче взревел Жора.
Фишер рухнул на пол, ударился лбом об порог и понял, что его стукнули по затылку. Сверху навалилась тяжелая масса. Вокруг шеи, перекрыв дыхание, обвилась мускулистая рука. Хрипя и дергаясь, как подстреленный олень, Фишер пытался вырваться и беспомощно царапал теплую кожу. Легкие распирало от удушливого жара, на периферии зрения сгущался серый туман.
- Я тебе покажу, как к мусорам бегать, я тебе покажу… - шипел Жора ему в ухо, дыша перегаром. – Сейчас до тебя дойдет, ёбаный жиденок…
Очнулся Фишер от холода. Воздух, наполненный предчувствием грозы, смешивался с затхлой вонью машинного масла, а где-то далеко сдавленно перешептывались деревья. Ощутив на носу тяжесть очков, Фишер сдержал вздох облегчения и повернул голову. Сверху нависала распахнутая крышка багажника, в ночное небо зубчатой каймой вгрызались раскидистые кроны, а перед левым глазом расплывчато белела паутина трещин. Фишер осторожно выглянул наружу. По опушке, слабо освещенной габаритными огнями, нелепо пятился в темноту сосредоточенный Жора, который волок по траве скатанный плед, почему-то удерживая его одной рукой. Боксерский профиль искажала туповато-мрачная гримаса, напрочь лишенная осознанности.
"Лес…" – догадался Фишер и прикусил дрожащую губу. Он прекрасно знал, как много вспыльчивый Жора может выпить и как крепко он при этом стоит на ногах. Нельзя было терять ни минуты.
Вывалившись из багажника в неглубокую лужу, Фишер поспешно вскочил и, придерживая одной рукой треснувшие очки, наугад побежал в чащу. Ветви хлестали по лицу, далеко впереди проглядывали за деревьями мутно-белые клочья искусственного света, а позади, отдаваясь тяжелым эхом, раздавался грузный топот.
- Куда, бля?! Пизда тебе!
Не помня себя от страха, Фишер бежал туда, где явно находились люди. Нарастал механический гул, выбирались из сумерек освещенные участки асфальта.
- Я убью тебя, ёбаный жид! – прокатился по зябкому воздуху хриплый рев.
Покрытый царапинами и грязью, Фишер выскочил из леса на пыльную обочину, испещренную пучками сорняков и окурками. Высоко в темном небе горели придорожные фонари, по ту сторону трассы виднелись распахнутые ворота промзоны, возле которых неряшливой грудой лежали бетонные цилиндры, а слева приближался невидимый транспорт, чьи фары ослепляюще били по глазам.
- Хуй ты от меня убежишь!
Не успев понять, что произошло, Фишер вскрикнул, повалился навзничь и лишь затем почувствовал тупую боль в районе желудка. Надрывно взвизгнули шины, Фишер увидел над собой Жору. Тот тяжело дышал, а его красное, мокрое от пота лицо блестело на свету, как кусок сырого мяса. В правой руке Жора сжимал окровавленный кухонный нож.
Фишер похолодел. Он перевел взгляд на свой живот, и у него затряслись пальцы. По светлой рубашке, стремительно пропитывая ткань, расползалось клюквенно-алое пятно. Жора довольно хохотнул, набросился на Фишера и принялся бить его кулаками по голове. Очки отлетели в сторону. Ночной пейзаж расплылся, словно детская акварель.
Фишеру казалось, что его психика раскололась надвое. Крича то ли от боли, то ли от ужаса, он изо всех сил блокировал удары левой рукой, а другой вслепую шарил по земле, надеясь отыскать хотя бы небольшой камень.
- Я убью тебя! Жидяра! Пидарас! – орал во все горло Жора.
Наткнувшись пальцами на что-то продолговатое, Фишер даже не успел принять осознанное решение. Он схватил нож и принялся бить наобум. Натыкаясь на сопротивление Жоры, который в меру своих сил пытался его обезоружить, Фишер шумно дышал сквозь стиснутые зубы и крепко сжимал рукоять ножа. Жора вдруг притих и повалился прямо на Фишера, еще сильнее придавив его к земле. Нож с жалобным звяканьем выпал из ослабшей руки. Кожей ощутив теплоту льющейся крови, Фишер обмяк, и его опустевшие глаза сонно закрылись. Больше ему ничто не угрожало.
Пробуждение оказалось отнюдь не кинематографичным. Придя в себя после успешной операции, переливания крови и трех суток, проведенных без сознания, Фишер с трудом догадался, что находится в одиночной палате. За темным окном шел ливень, мертвенно-голубые стены соединялись под неправильными углами, а потолок то приближался, то отдалялся, словно пытаясь расплющить больничную койку в кровоточащий блин.
Землистое лицо Фишера было покрыто царапинами, коростой ссадин и фиолетовыми разводами синяков. На животе, под синей больничной пижамой бугрилось наслоение медицинского пластыря. Пить хотелось еще сильнее, чем четвертого июня, однако медсестра принесла всего лишь кубик льда. Неспособный встать с кровати и попить втайне от всех, Фишер чувствовал себя больным ребенком. Хотелось поговорить с Лорой Генриховной, чтобы она объяснила, что происходит.
Однако первыми, кого он увидел, стали следователь Мухин и адвокат Литвинов. Мухин, не вовлекаясь в ситуацию эмоционально, обвинил Фишера в убийстве гражданина Горняка, то есть, Жоры, и организации проституции при участии гражданки Шейко, то есть, Элен. Литвинов, подтянутый мужчина лет сорока, одетый в серый костюм и кричаще-красный галстук, представился Виталием Марковичем и сочувственно рассказал, что его наняла Лора Генриховна, которая уже прибыла в Петербург, чтобы как можно скорее добиться встречи с внуком.
Фишер вспомнил, что именно предшествовало убийству Жоры, и, не сумев сдержаться, тихо всхлипнул. Оставалось лишь надеяться, что на него не повесят труп, который Жора так стремился спрятать. Однако Виталий Маркович не унывал. Его интересовало, насколько Жора был пьян и видел ли Фишер труп собственными глазами, а когда речь зашла об антисемитских высказываниях, Виталий Маркович и вовсе оживился, плотоядно улыбнувшись самому себе.
Окончив допрос, следователь Мухин сухо попрощался и ушел. Виталий Маркович попрощался участливо и пообещал вернуться завтра. Оставшись в одиночестве, Фишер снял очки и слепо уставился перед собой. Картина складывалась неутешительная. Два сутенера, один из которых находился в состоянии опьянения, поехали ночью в лес, чтобы избавиться от трупа, а закончилась эта поездка дракой, ножевым ранением и убийством. Погибшего сутенера, который получил семнадцать ударов ножом, увезли в судебный морг, а выживший утверждал, что в лесу оказался недобровольно. И не было никого, кто мог бы подтвердить его слова. К тому же, не стоило забывать про Элен, которая знала про шалман на Выборгском шоссе, деятельность Романа и причастность к этому Фишера. Соучастие в убийстве, убийство и сутенерский стаж, повинуясь юридической арифметике, складывались в пятнадцать лет тюремного заключения. Фишер спрятал лицо в ладонях и сдавленно зарыдал.
На следующий день, как и обещал, пришел Виталий Маркович – со стаканчиком кофе, броским галстуком в ярко-синюю полоску и темными от недосыпа подглазьями. Фишер встретил его натянутой улыбкой, больше похожей на судорогу паники.
- Не волнуйтесь, Евгений, - уверенно произнес Виталий Маркович, располагаясь на стуле, - я не терял время зря, у меня для вас отличные новости.
Новости, - результаты первых экспертиз, - и впрямь были отличные. Во-первых, Жора в момент смерти был на грани алкогольного отравления. Во-вторых, семнадцать ударов ножом, которые ему нанес отчаявшийся Фишер, оказались не такими уж и впечатляющими: первые четырнадцать раз нож соскользнул по ребрам, смертельным стал пятнадцатый удар, а последние два всего лишь оцарапали Жоре спину. Соучастие в убийстве и вовсе было под вопросом – из-за отсутствия потерпевшего.
- Что-то я не понял. Там что, не было никого? – вскинул брови Фишер.
- Предположительно. Труп не обнаружен, да и плед, который вы упоминали, тоже не обнаружен. Никто ведь не искал труп, пока вы о нем не рассказали, - понимающе усмехнулся Виталий Маркович. – Знаете, если потерпевший связан с криминалом, есть шанс, что в полицию он обращаться не будет.
- Кого же тогда Жора в лес увозил?
- Кого или что? Спрошу еще раз, Евгений. Вы видели труп? Именно труп, а не плед?
- Когда я вышел из спальни, Жора сидел на диване и смотрел на кого-то, завернутого в плед…
- Плед имел человеческие очертания? Шевелился? Из него торчали руки, ноги? Может быть, волосы? – загадочным тоном допытывался Виталий Маркович.
Ошарашенный таким напором, Фишер промямлил:
- Ничего такого я не видел. Просто свернутый плед. Бугрился немного, наверное…
- Вот видите. Не такое уж у вас и безнадежное дело, - подытожил Виталий Маркович. Допив кофе, он смял стаканчик в кулаке. - Не говоря уж о том, что даже если Горняк и пытался кого-то убить, то явно без вашей помощи. У вас под ногтями обнаружен эпителий Горняка, а ваши ботинки остались у него дома. Соучастие так не выглядит.
- А что насчет… остального?
Горделиво вскинув подбородок, словно в палате сидели любопытствующие слушатели, Виталий Маркович принялся загибать пальцы:
- Горняк дважды озвучил, что собирается вас убить – это раз. Вы были без очков, а без них вы ничего не видите, особенно ночью – это два. Также Горняк называл вас, извините за выражение, жидом – это три…
- А это-то тут при чем? – рассеянно поинтересовался Фишер. Он впервые заметил на мизинце Виталия Марковича длинный ноготь, который придавал ему сходство с карточным шулером.
- При том, что вы защищались от убийцы, который хотел зарезать вас на почве национальной неприязни. И вас эти антисемитские угрозы очень напугали.
- Меня, если честно, только Жора напугал, - пробормотал Фишер.
- Вы уверены? – вкрадчиво спросил Виталий Маркович. Его взгляд сделался пристальным, как у снайпера.
Фишер снял очки и начал тщательно протирать их уголком пододеяльника, хотя в этом совсем не было надобности. Сколько он себя помнил, вопрос национальной принадлежности не беспокоил ни его самого, ни окружающих. Последних волновало лишь эгоистичное поведение Фишера, и эту его черту они всегда выдвигали на передний план. Исключением стал только Жора, который в последнюю ночь своей жизни опустился до национализма. Собравшись с мыслями, Фишер надел очки.
- Да, мне стало страшно, - согласился он, - я так и скажу.
- Я знал, что вы сообразительный молодой человек, - со смешком произнес Виталий Маркович, - а теперь давайте перейдем к гражданке Шейко.
Услышав про Элен, Фишер невольно поежился. К горлу подкатило слабое предчувствие тошноты.
- Она признала, что вы были её сутенером, но всячески вас выгораживает. Говорит, что вы никогда её не били и ни к чему не принуждали. И даже доказывает, что это она вас втянула, а не вы её.
Фишер боязливо покосился на закрытую дверь палаты. Переведя взгляд на Виталия Марковича, он тихо спросил:
- И когда Элен меня втянула?
— В конце этого мая. Точнее она не помнит. А до этого она никогда с вами не работала, - так же тихо ответил Виталий Маркович.
Фишер с облегчением откинул голову на подушку и улыбнулся – на этот раз искренне. Конечно, дела обстояли скверно, однако понемногу налаживались. Две недели гуманного сутенерства вполне смахивали на ошибку молодости, которую совершил юноша из приличной семьи.
Однако ночью Фишер всё равно спал беспокойно, даже во сне размышляя о своем нелегком положении. В круговерти кошмара хрипло хохотала Элен, стягивая с себя застиранный банный халат, а по обочине Токсовского шоссе, давя ботинками грибы, шагал неопознанный труп с черным мешком на голове. Следователь Мухин держал на руках окровавленный манекен, марая синий мундир темно-красными разводами, и равнодушно повторял одну и ту же фразу: "От шести до пятнадцати… От шести до пятнадцати… От шести до пятнадцати…"
Проснулся Фишер надломленным и разбитым. То ли заметив его кислую мину, то ли следуя указаниям врача, медсестра вручила ему крышечку от газировки, наполненную водой. Посмаковав эту жалкую порцию, Фишер наконец смочил гортань и сделал шумный глоток. Жажда лишь усилилась, но больше пить не разрешили.
Ближе к вечеру, шурша гофрированной юбкой, в палате появилась Лора Генриховна. На её лице читалась слабая тень беспокойства, словно у кого-то из соседей сбило машиной любимого питомца, однако Фишер знал бабушку не первый год и понимал, что по её меркам это была крайняя степень волнения. Держалась Лора Генриховна, как и всегда, холодно, однако Фишера особо не укоряла и расхваливала Виталия Марковича, который "скостил срок не одному упырю".
— Ты, конечно, мог бы открыть собственное дело, получив от меня в подарок солидную такую сумму на двадцатипятилетие, но теперь тебе придется начинать с низов, - пренебрежительно сообщила Лора Генриховна. - Твой перспективный подарок тает, как мороженое. Виталий Маркович, знаешь ли, не на помойке себя нашел. А если тебя все-таки отправят в Ленинскую область, то денег у тебя не останется вообще. Ты, Енюша, дурак.
Возразить было нечего. Лора Генриховна, как и всегда, оказалась права.
Следующую неделю Фишер провел в одиночестве, будто о нем забыли и Лора Генриховна, и Виталий Маркович, и следователь Мухин. Проваливаясь то в тоскливые размышления, то в зыбкую дрему, Фишер беспомощно лежал на больничной койке и пытался не чесать заживающий шов. По утрам медсестра приносила всё ту же крышечку воды. Из открытой форточки доносился отдаленный гул городской суматохи: перестук дождевых капель, гул проезжающих машин и обрывки музыки, подхваченные зябким ветром. За окном существовал мир, который Фишер мог бы не увидеть, умерев от кровопотери, мир, который продолжил бы существовать без него, без ничтожной искры, промелькнувшей в ледяной космической темноте. Смерть казалась настолько вещественной, что иногда у Фишера возникало ощущение, будто он может потрогать её руками.
Первая попытка поесть обернулась неудачей – после кисешки куриного бульона Фишера затошнило. Пока его рвало в подставленный медсестрой таз, он мечтал о том, чтобы выздоровление не наступало.
Однако через полтора месяца Фишера всё-таки выписали и отправили в следственный изолятор. У него отобрали всё, чем можно было зарезаться или задушиться, после чего побрили налысо и выдали комплект постельного белья. Бритая голова и спортивный костюм придали Фишеру мрачно-уголовный вид, и смягчить это тягостное впечатление не могли даже очки, а на застиранной простыне виднелись серовато-бурые разводы въевшихся пятен, словно её прежний обладатель умер во сне и, скорее всего, добровольно.
Камера, в которой Фишеру предстояло провести неопределенный срок, лишила его последних иллюзий. Грязно-желтый свет лампочки, проходя сквозь барханы сигаретного дыма, жирными мазками оседал на болотно-зеленых стенах и охристом кафеле советских времен. Окно, забранное мелкой решеткой, привинченный к полу обеденный стол и четыре металлические шконки занимали большую часть камеры – об уединении не могло быть и речи.
С соседями, впрочем, повезло больше. Функцию смотрящего нехотя выполнял тридцатилетний наркоман, который на фоне остальных казался самым инициативным. Четыре студента-закладчика, одинаково подавленные и тощие, проявляли к Фишеру минимальный интерес, отдавая предпочтение сну и своим собственным проблемам. Щуплый узбек, осужденный за кражу ноутбука, держался обособленно, словно надеялся остаться незамеченным до самого суда, а если и заговаривал, то мешал русские слова с тюркскими, и понять его было непросто. Никита, коренастый спортсмен, которого обвиняли в грабеже, сохранял оптимизм и развлекал сокамерников историями из деревенской жизни, однако делал это натужно, и в его вытянутом смуглом лице нередко проглядывала тщательно скрываемая брезгливость. В такие моменты Фишеру невольно вспоминался Гена Блотнер.
К Фишеру, единственному в камере убийце, относились своеобразно - не избегали, но из-за лексикона и количества нанесенных ножевых считали интеллигентом с неустойчивой психикой. Переубеждать их Фишер не спешил, подкрепляя свою уверенность спрятанной в рукаве мойкой[56], которую он в один из банных дней ловко вытащил из использованного станка. Орудовать ей Фишер научился быстро: разрезал спички на четыре части, стриг ногти и вскрывал гнойники. К тому же, мойкой можно было вскрыть вены – себе или кому-то другому. При должной сноровке это можно было сделать, имея даже небольшое лезвие.
Занятий в камере было немного. Фишер либо спал, либо курил, либо читал книги, которые каждый день приносил работник хозобслуги. Иногда Фишера вызывали на допросы, где следователь Мухин, желая поймать его на лжи, раз за разом спрашивал об одном и том же. Начались следственные действия. Фишер водил сотрудников СК по лесному массиву, бил бутафорским ножом манекен, который изображал Жору, и жалел, что четвертого июня был слишком ошарашен видом собственной крови. Если бы Фишеру выпала возможность прожить ту ночь заново, он бы смаковал каждый удар – даже те, которые оказались неудачными.
[56] половина бритвенного лезвия
В конце лета напомнило о себе слабое здоровье. Вдыхая спертый воздух и сигаретный дым, Фишер влажно покашливал в платок плевочками бронхитной мокроты и надеялся, что никто из сокамерников не болен туберкулезом. Психика пока держалась, срываясь лишь на красочные сны, полные жестокости и страданий. Истекал кровью Жора, над которым сухо перешептывались заросли кукурузы, остывал за горбатыми гаражами искромсанный труп Никиты, а Фишеру угрожала поварским ножом женщина в мясницком фартуке.
Воздух набухал осенней сыростью, деревья желтели и осыпали землю тускнеющей позолотой. Фишер, которого ранее обвиняли в убийстве, медленно превращался в жертву обстоятельств, пусть и не самую благоразумную. Психиатрическая комиссия признала его здоровым и вменяемым. Анализ крови доказал, что Жора четвертого июня вполне мог находиться в состоянии алкогольного галлюциноза. Офтальмологическая экспертиза доказала, что Фишер, будучи ночью без очков, не мог прицельно бить в сердце. А загадочный труп, существование которого становилось всё более эфемерным, так и не объявился.
Фишер прочувствовал всем своим существом, что счастье действительно познается в сравнении – теперь максимальный срок его вероятного заключения составлял пять лет, а не пятнадцать.
"Если записаться в актив, можно и досрочно выйти. Года через три", - размышлял он.
Судя по рассказам сокамерников, которые повиновались сложившейся парадигме и активистов недолюбливали, с лагерной администрацией сотрудничали люди, не отягощенные совестью, и Фишер был уверен, что легко вольется в столь беспринципный коллектив.
Однако Никита на подобные компромиссы идти не собирался. Об активистах он отзывался с презрением и постоянно напоминал, что сам таким ни за что не станет. Фишер считал про себя до двадцати, однако перед мысленным взором всё равно вырисовывался задушенный Никита, валяющийся в придорожной канаве. Фишер надеялся, что в один прекрасный день Никита исчезнет из камеры – по какой бы то ни было причине. Однако тот не исчезал. Его дело застопорилось, увязнув в противоречивых показаниях свидетелей.
В ноябре, накануне своего дня рождения Фишер осознал, что больше так продолжаться не может. Глядя на длинноносый профиль Никиты, который курил возле зарешеченного окна, Фишер вспомнил, как отец прижимал его ладонь к раскаленной плите, как Гена макал его лицом в грязную лужу – и дважды полоснул себя мойкой по левой руке.
План, несмотря на спонтанность, сработал. Никита, даже не подозревавший о своем везении, остался в живых, а Фишера перевели в другую камеру, обитатели которой еще не успели ему надоесть. Однако пробыл он там недолго - после Нового года, который подследственные отметили винегретом, состоялся суд.
Фишер к тому моменту выглядел уже прилично: волосы отросли, а черный костюм и белая рубашка, присланные Лорой Генриховной, сделали из него законопослушного члена общества. Пока судья с химзавивкой, похожей на кремовый торт, выслушивала участников процесса, Фишер сидел в стеклянной клетке, сдирал с пальцев заусенцы и смотрел поверх очков в расфокусированный зал.
Прокурор выставлял Фишера асоциальным элементом и требовал для него максимального наказания. Мать Жоры, приехавшая на суд из Стерлитамака, громко всхлипывала и утверждала, что её сын в детстве обожал животных, так что ударить ножом человека не мог. Элен, закутанная в мешковатое платье до щиколоток, прокуренным голосом рассказывала о мягком характере Фишера и называла его "милым мальчиком". Лора Генриховна сидела на скамье и подбадривала внука уверенными взглядами. От дачи показаний она отказалась, воспользовавшись правилом о кровном родстве.
Виталий Маркович чувствовал себя хозяином положения. Он делал акцент на том, что Фишер был более человечным, чем его типичные коллеги, что в момент нападения он не видел дальше собственного носа, что потерпевший Горняк был пьян, прямым текстом озвучивал свои намерения убить Фишера и оскорблял его по национальному признаку.
Фишер до последнего считал эту уловку туфтой, однако тактика Виталия Марковича принесла свои плоды: Фишера приговорили к двум годам лишения свободы за превышение самообороны и двум годам за организацию проституции. Первый срок надлежало провести в исправительной колонии общего режима, второй срок был условным. Приговор доносился до Фишера издалека, будто сквозь толстый слой ваты. Виталий Маркович, сложив руки на груди, торжествующе улыбался и свысока поглядывал на прокурора. Мать Жоры беззвучно плакала, пряча лицо в ладонях и содрогаясь сутуловатым туловищем.
Автозак отвез Фишера обратно в следственный изолятор. Через неделю пришел с хорошей новостью Виталий Маркович: со дня на день Фишера должны были этапировать в ИК-2, которая располагалась неподалеку от Павлозаводска – в Красных Шахтах.
- Лора Генриховна просила передать, чтобы вы соглашались на должность, которую вам предложат, - назидательно произнес Виталий Маркович, - это отличная возможность отсидеть комфортно. Не упускайте её.
- Откуда она знает, что мне что-то предложат? – спросил Фишер, сдерживая зевоту. После суда он только и делал, что спал без задних ног, а окружающий мир находил рыхлым и не до конца реальным.
- Она знакома с начальником оперчасти.
Фишер кивнул. И без дополнительных разъяснений было понятно, что познакомилась с ним Лора Генриховна еще в бытность нотариусом, когда загадочный начальник оперчасти наверняка служил в другом месте, но уже был нечист на руку.
ИК-2 оказалась красной донельзя. Это подтверждали румяные лица лагерного актива и откормленные, как на убой, сотрудники в сизом камуфляже. Начальник колонии, полковник Ремизов, напротив был долговязым мужчиной за сорок, а рубленая челюсть, нос римских статуй и блекло-голубые глаза придавали ему сходство с эсэсовцем, который по какому-то недоразумению носил форму российского офицера. Как показали дальнейшие события, сравнение оказалось верным.
Переодевшись в угольно-черную робу, Фишер окончательно стал представителем спецконтингента. Мешковатый пиджак с излишне длинными рукавами напоминал плохо сшитую куртку и полностью оправдывал свое жаргонное название "лепень". Брюки не по росту засаленными складками ложились на ботинки – тяжелые, сделанные из чего-то вроде кирзы, со скошенными от долгого ношения каблуками. Комковатый ватник и шапка-ушанка довершали образ лагерника, который тосковал по дому, писал письма заочницам и очень жалел свою пожилую мать.
Первые две недели Фишер провел в карантине. Приходили сотрудники по воспитательной работе, которые долго и муторно объясняли правила внутреннего распорядка, а когда они уходили, за дело принимался завхоз карантина, который тоже объяснял правила, но уже негласные. Первые противоречили вторым, однако нарушать нельзя было ни те, ни другие.
"Кафкианство какое-то", - неприязненно думал Фишер, стараясь не клевать носом.
Из карантина его переселили в длинный, как кишка, барак, где располагался отряд №2. Внутреннее убранство было до тошноты безликим: хлипкие тумбочки из ДСП, двухъярусные шконки, застеленные серыми одеялами, и коричневые шторки на окнах. Стены, крашенные зеленой эмалью, и дощатый пол охристого цвета отдавали клопомором. Место отлично подходило для того, чтобы покончить с собой.
Локалка[57], обнесенная забором из жести, выглядела немного уютнее – на ней лежал отпечаток индивидуального труда. По обе стороны от барачного крыльца гнездились пустые клумбы из покрышек, а на фанерном щите виднелся патриотически-китчевый рисунок с искривленными пропорциями – опешивший Георгий-Победоносец, который протыкал копьем неопознанную рептилию. Над батальной сценой тянулась трафаретная надпись, придававшая подвигу святого уголовный окрас: "На свободу – с чистой совестью". Фишер это утверждение на свой счет не принимал. Совесть его совсем не мучила.
[57] внутренний двор перед бараком
Знакомство с начальником оперчасти состоялось в тот же день. Майор Сухарев, дородный мужчина с рыжеватыми бровями и бледным, как тесто, конопатым лицом, занимал отдельный кабинет – казенно-синий, ярко освещенный зимним солнцем и настольной лампой. С портрета, висящего на стене, внимательно глядел в светлое будущее Путин, а возле окна стоял большой аквариум на металлических ножках.
Сидя за столом, Сухарев задумчиво постукивал пальцем по стопке личных дел, а Фишер, расположившийся напротив него на деревянном стуле, сохранял вежливое молчание и косился на подсвеченный аквариум. Глодал стекло мясистый сом, в водорослях сновали полосатые, как зебра, скалярии, а крохотные рыбешки, стайкой шныряющие в толще воды, неоново поблескивали боками.
- Нравится? – поинтересовался Сухарев, указав подбородком на аквариум.
- Нравится, гражданин майор, - поспешно ответил Фишер, - я тоже животных люблю. У меня дома энциклопедия осталась, "Птицы России".
- Да, Лора упоминала, что ты любишь наблюдать за птицами. Значит, и с этой должностью справишься.
- С какой именно должностью, гражданин майор?
- Лора сказала, что у тебя слабые легкие. На промке, как понимаешь, тебе работать не вариант. А вот библиотекарь из тебя получится хороший, - произнес Сухарев. Запустив руку в ящик стола, он положил под свет лампы красную нарукавную повязку.
- И что я должен делать? – насторожился Фишер.
- Глупые вопросы задаешь, Женя. Выдавать книги, заполнять карточки. Чем еще может заниматься библиотекарь?
- Я на всякий случай спросил. Мало ли что… - пробормотал Фишер. Опустив голову, он уперся взглядом в собственные брюки. На правом колене маслянисто поблескивало пятно, которое невозможно было отстирать.
- Думаешь в правильном направлении, - покровительственно улыбнулся Сухарев, показав белые зубы. – К тебе будут ходить не только за книгами, но и за общением. И вообще будут вести при тебе разговоры. Имена родственников, подробности вольной жизни, личные проблемы… Понимаешь?
- Я должен наблюдать, - с полувопросительной интонацией произнес Фишер. По спине, несмотря на теплый ватник, побежали мурашки.
- Молодец, Женя. Наблюдать, слушать и запоминать.
- Но это ведь… опасно, гражданин майор.
- Обычно мне докладывают обо всем письменно, на официальной основе, - вкрадчиво сказал Сухарев, подавшись вперед, - а ты будешь делать это устно. Тебя даже не будет в моих списках. Как по мне, отличный расклад. У тебя и вид подходящий. Интеллигентный, спокойный. Кто тебя заподозрит?
- Гм… - только и выдавил Фишер.
Пребывая в карантинном бараке, он догадался, что Лора Генриховна, подняв свои старые знакомства, попросту купила ему должность лагерного библиотекаря, и подводить её, отказываясь от предложения Сухарева, было бы расточительством.
"Как мало человеку нужно для счастья", - думал Фишер, расслабленно направляясь через многочисленные КПП к лагерному клубу, пока менее счастливые арестанты, не отмеченные красными повязками, мерзли на плацу, делая зарядку под гимн России.
Библиотека располагалась на втором этаже клуба, по соседству с музыкальной комнатой, где хранились гитары, духовые инструменты и отливающие перламутром баяны. Окно в читальном зале было занавешено узорчатым тюлем, и за его белесой паутиной виднелась опрятная церквушка с сизыми луковицами куполов. Лабиринт книгохранилища мог похвастать лишь потрепанными изданиями русской классики, производственными романами о советских рабочих и бульварным чтивом времен перестройки. Фишер выдавал арестантам книги, заполнял аккуратным почерком читательские карточки и держал ухо востро.
Посетители действительно любили поговорить – то с Фишером, то друг с другом. Со временем, правда, делать это переставали. Однако прибывал новый этап, еще не осведомленный о дополнительных обязанностях библиотекаря, и Фишер вновь шел в оперчасть, чтобы отчитаться перед майором Сухаревым. Жизнь текла своим чередом, и терзал Фишера лишь хронический бронхит, однако от него спасали лекарства, которые присылала Лора Генриховна.
Виделись они только на краткосрочных свиданиях, которые проходили в гулком помещении, разделенном надвое плотной решеткой. Когда Лора Генриховна покидала лагерь, оставались лишь вещественные следы её визита: сигареты в целлофановых пакетах, конфеты "Каракум" без фантиков и прозрачно-желтый мед в пластиковых бутылках.
Первый год заключения наложил на Фишера явный отпечаток: потемнели от чифира зубы, налился хрипотцой прокуренный голос, отяжелел немигающий взгляд. Фишер в очередной раз возмужал, однако это было болезненное возмужание, и вместе с ним вернулись в новом обличии навязчивые мысли – то ли мечты, то ли кошмары.
Протирая влажной тряпкой читательские столы, Фишер всё чаще уходил в себя. Ему представлялся безлюдный лес, дерзкий побег из лагеря, совершенный глубокой ночью, и волокнистое мясо безымянного сообщника, пожаренное на костре. Детали варьировались, однако суть фантазии оставалась неизменной: побег, лесная темень, людоедство.
Бердвотчинг привлекал Фишера своим глубинным сходством с охотой. Когда он брал в прицел птицу и щелкал затвором, его коллекция пополнялась еще одним слепком крохотной жизни, красочным мгновением ушедшего времени. Людей Фишер не фотографировал, потому что ощущения были схожие: он словно утаскивал домой чей-то околевший труп.
Мелькнув в теплом воздухе, на увядающий куст приземлилась небольшая птица. Фишер до упора выдвинул объектив. Пепельного окраса сорокопут, чьи крылья украшала черная кайма, держался когтями за качающуюся ветку и вертел головой, оглядывая окрестности. Агатовые бусины глаз маниакально блестели. В загнутом клюве, похожем на крюк с зазубренным острием, висела обмякшая полевая мышь. Фишер смущенно улыбнулся, поместил сорокопута с жертвой в центр кадра и сделал первый снимок.
Человеческого присутствия сорокопут не замечал. Наколов убитую мышь на свободный шип, он, оправдывая свое латинское название – "птица-мясник", вонзил кончик клюва в тушку и принялся жадно заглатывать кусочки сырого мяса. Фишер делал фотографию за фотографией. Угольно-карие глаза стекленели, раздувались крылья крючковатого носа, мелко дрожали пальцы. Зарезанный Жора, всплывший из глубин памяти, обратно возвращаться не желал.
Хотя прошло уже шесть лет, Фишер помнил всё, чем были наполнены те переломные сутки – среда, четвертое июня, четырнадцатый год. Элен, с которой Фишер начал работать вскоре после похорон Риты, закончила тогда работу раньше обычного, сославшись на плохое самочувствие, и Фишер, у которого внезапно появилось свободное время, согласился на предложение Жоры вместе выпить в баре. Оставив нож дома, чтобы никого по пьяни не зарезать, а машину на стоянке, чтобы никого по пьяни не сбить, Фишер сел на метро и добрался до Гражданского проспекта.
Жора был в приподнятом настроении. Он пил водку, звякая рюмками об стол, закусывал кусочками колбасы и хвастался, что несколько часов назад рассчитался с долгами. Фишер, не желая напиваться до невменяемости, ограничивался "белым русским", однако уже через несколько шотов мясистое лицо Жоры, по которому пробегали красно-синие точки цветомузыки, стало расслаиваться, все больше и больше напоминая чайный гриб. Неожиданно для самого себя Фишер отключился. Последним, что он видел, был Жора, который смахнул локтем на пол пустые рюмки, чем вызвал недовольство официантки и чей-то восторженный гогот.
- Это всё из-за твоих коктейлей пидорских, - добродушно наставлял Жора, сидя за рулем своего "ниссана", пока Фишер блевал из окна на парковку, - если бы ты пил просто водку, как я, то был бы сейчас бодрячком.
Вытерев рукавом рубашки испачканный подбородок, Фишер закрыл окно и повалился обратно на сиденье.
- Белый русский… Большой Лебовски… - из последних сил промямлил он. На большее его не хватило.
- Пить по средам мы не бросим! – довольно хохотнул Жора. Фразу он не закончил, но рифма так и напрашивалась.
Фишер возмущенно замычал, понял, что все его возражения прозвучат крайне жалко, и закрыл глаза, а когда открыл их, то обнаружил себя в темном помещении, на чьей-то широкой кровати. Гудела голова, во рту было сухо, нестерпимо хотелось пить.
Постепенно глаза привыкли к темноте, и Фишер понял, что очков на нем нет, однако всё же опознал знакомую двустворчатую дверь, за рифлеными стеклами которой горел желтоватый электрический свет. Облегченно вздохнув, Фишер протянул руку туда, где обычно находилась тумбочка, и нащупал свои очки. В пыльном сумраке проступили мазки беленых стен, очертания сломанных часов с ходикам в виде шишек и незашторенное окно, по которому ползли маслянистые потеки лунного света.
Кое-как встав с кровати, Фишер машинально разгладил руками брюки с рубашкой, которые наверняка выглядели непрезентабельно, и заметил, что правый рукав кисло пахнет рвотой. Искривившись, Фишер попытался восстановить в памяти события минувшего вечера. Судя по всему, Жора посчитал его совсем уж пьяным, привез к себе домой и уложил в спальне, а сам остался в зале. Но определить, один он там был или с кем-то еще, не представлялось возможным: рифленое стекло дробило обзор на зыбкие штрихи и размытые пятна, за которыми смутно угадывалась искаженная сутуловатая тень.
Надеясь не застать Жору в неловком положении, Фишер осторожно вышел в зал и оцепенел. Возле дивана, обычно застеленного серым пледом в шотландскую клетку, мерцала на дощатом полу бутылка "Абсолюта" – совершенно пустая. Вторая бутылка, заполненная на четверть, стояла на подоконнике, около горшка с алоэ. Жора, весь красный от выпитого, сидел на диване, запустив пальцы в короткие, слипшиеся от пота волосы и пристально глядел на тот самый клетчатый плед, который почему-то был свернут в бугрящийся рулон и лежал на пестром ковре. У Фишера подкосились ноги. Очертаниями скатанный плед напоминал человека.
Жора медленно повернул голову и встретился с Фишером взглядом. Мутные глаза распахнулись, но тут же сузились в злобном прищуре. Фишер сорвался с места и побежал в коридор. Нужно было как можно скорее покинуть место преступления, а затем уехать – желательно, в Павлозаводск.
Ввалившись в тесную прихожую, Фишер кинулся к приоткрытой двери. Гулко завывал ветер, лаял соседский пес, по бетонированному двору прыгали рыжие отсветы фонаря.
- Стой, сука! – тягуче взревел Жора.
Фишер рухнул на пол, ударился лбом об порог и понял, что его стукнули по затылку. Сверху навалилась тяжелая масса. Вокруг шеи, перекрыв дыхание, обвилась мускулистая рука. Хрипя и дергаясь, как подстреленный олень, Фишер пытался вырваться и беспомощно царапал теплую кожу. Легкие распирало от удушливого жара, на периферии зрения сгущался серый туман.
- Я тебе покажу, как к мусорам бегать, я тебе покажу… - шипел Жора ему в ухо, дыша перегаром. – Сейчас до тебя дойдет, ёбаный жиденок…
Очнулся Фишер от холода. Воздух, наполненный предчувствием грозы, смешивался с затхлой вонью машинного масла, а где-то далеко сдавленно перешептывались деревья. Ощутив на носу тяжесть очков, Фишер сдержал вздох облегчения и повернул голову. Сверху нависала распахнутая крышка багажника, в ночное небо зубчатой каймой вгрызались раскидистые кроны, а перед левым глазом расплывчато белела паутина трещин. Фишер осторожно выглянул наружу. По опушке, слабо освещенной габаритными огнями, нелепо пятился в темноту сосредоточенный Жора, который волок по траве скатанный плед, почему-то удерживая его одной рукой. Боксерский профиль искажала туповато-мрачная гримаса, напрочь лишенная осознанности.
"Лес…" – догадался Фишер и прикусил дрожащую губу. Он прекрасно знал, как много вспыльчивый Жора может выпить и как крепко он при этом стоит на ногах. Нельзя было терять ни минуты.
Вывалившись из багажника в неглубокую лужу, Фишер поспешно вскочил и, придерживая одной рукой треснувшие очки, наугад побежал в чащу. Ветви хлестали по лицу, далеко впереди проглядывали за деревьями мутно-белые клочья искусственного света, а позади, отдаваясь тяжелым эхом, раздавался грузный топот.
- Куда, бля?! Пизда тебе!
Не помня себя от страха, Фишер бежал туда, где явно находились люди. Нарастал механический гул, выбирались из сумерек освещенные участки асфальта.
- Я убью тебя, ёбаный жид! – прокатился по зябкому воздуху хриплый рев.
Покрытый царапинами и грязью, Фишер выскочил из леса на пыльную обочину, испещренную пучками сорняков и окурками. Высоко в темном небе горели придорожные фонари, по ту сторону трассы виднелись распахнутые ворота промзоны, возле которых неряшливой грудой лежали бетонные цилиндры, а слева приближался невидимый транспорт, чьи фары ослепляюще били по глазам.
- Хуй ты от меня убежишь!
Не успев понять, что произошло, Фишер вскрикнул, повалился навзничь и лишь затем почувствовал тупую боль в районе желудка. Надрывно взвизгнули шины, Фишер увидел над собой Жору. Тот тяжело дышал, а его красное, мокрое от пота лицо блестело на свету, как кусок сырого мяса. В правой руке Жора сжимал окровавленный кухонный нож.
Фишер похолодел. Он перевел взгляд на свой живот, и у него затряслись пальцы. По светлой рубашке, стремительно пропитывая ткань, расползалось клюквенно-алое пятно. Жора довольно хохотнул, набросился на Фишера и принялся бить его кулаками по голове. Очки отлетели в сторону. Ночной пейзаж расплылся, словно детская акварель.
Фишеру казалось, что его психика раскололась надвое. Крича то ли от боли, то ли от ужаса, он изо всех сил блокировал удары левой рукой, а другой вслепую шарил по земле, надеясь отыскать хотя бы небольшой камень.
- Я убью тебя! Жидяра! Пидарас! – орал во все горло Жора.
Наткнувшись пальцами на что-то продолговатое, Фишер даже не успел принять осознанное решение. Он схватил нож и принялся бить наобум. Натыкаясь на сопротивление Жоры, который в меру своих сил пытался его обезоружить, Фишер шумно дышал сквозь стиснутые зубы и крепко сжимал рукоять ножа. Жора вдруг притих и повалился прямо на Фишера, еще сильнее придавив его к земле. Нож с жалобным звяканьем выпал из ослабшей руки. Кожей ощутив теплоту льющейся крови, Фишер обмяк, и его опустевшие глаза сонно закрылись. Больше ему ничто не угрожало.
Пробуждение оказалось отнюдь не кинематографичным. Придя в себя после успешной операции, переливания крови и трех суток, проведенных без сознания, Фишер с трудом догадался, что находится в одиночной палате. За темным окном шел ливень, мертвенно-голубые стены соединялись под неправильными углами, а потолок то приближался, то отдалялся, словно пытаясь расплющить больничную койку в кровоточащий блин.
Землистое лицо Фишера было покрыто царапинами, коростой ссадин и фиолетовыми разводами синяков. На животе, под синей больничной пижамой бугрилось наслоение медицинского пластыря. Пить хотелось еще сильнее, чем четвертого июня, однако медсестра принесла всего лишь кубик льда. Неспособный встать с кровати и попить втайне от всех, Фишер чувствовал себя больным ребенком. Хотелось поговорить с Лорой Генриховной, чтобы она объяснила, что происходит.
Однако первыми, кого он увидел, стали следователь Мухин и адвокат Литвинов. Мухин, не вовлекаясь в ситуацию эмоционально, обвинил Фишера в убийстве гражданина Горняка, то есть, Жоры, и организации проституции при участии гражданки Шейко, то есть, Элен. Литвинов, подтянутый мужчина лет сорока, одетый в серый костюм и кричаще-красный галстук, представился Виталием Марковичем и сочувственно рассказал, что его наняла Лора Генриховна, которая уже прибыла в Петербург, чтобы как можно скорее добиться встречи с внуком.
Фишер вспомнил, что именно предшествовало убийству Жоры, и, не сумев сдержаться, тихо всхлипнул. Оставалось лишь надеяться, что на него не повесят труп, который Жора так стремился спрятать. Однако Виталий Маркович не унывал. Его интересовало, насколько Жора был пьян и видел ли Фишер труп собственными глазами, а когда речь зашла об антисемитских высказываниях, Виталий Маркович и вовсе оживился, плотоядно улыбнувшись самому себе.
Окончив допрос, следователь Мухин сухо попрощался и ушел. Виталий Маркович попрощался участливо и пообещал вернуться завтра. Оставшись в одиночестве, Фишер снял очки и слепо уставился перед собой. Картина складывалась неутешительная. Два сутенера, один из которых находился в состоянии опьянения, поехали ночью в лес, чтобы избавиться от трупа, а закончилась эта поездка дракой, ножевым ранением и убийством. Погибшего сутенера, который получил семнадцать ударов ножом, увезли в судебный морг, а выживший утверждал, что в лесу оказался недобровольно. И не было никого, кто мог бы подтвердить его слова. К тому же, не стоило забывать про Элен, которая знала про шалман на Выборгском шоссе, деятельность Романа и причастность к этому Фишера. Соучастие в убийстве, убийство и сутенерский стаж, повинуясь юридической арифметике, складывались в пятнадцать лет тюремного заключения. Фишер спрятал лицо в ладонях и сдавленно зарыдал.
На следующий день, как и обещал, пришел Виталий Маркович – со стаканчиком кофе, броским галстуком в ярко-синюю полоску и темными от недосыпа подглазьями. Фишер встретил его натянутой улыбкой, больше похожей на судорогу паники.
- Не волнуйтесь, Евгений, - уверенно произнес Виталий Маркович, располагаясь на стуле, - я не терял время зря, у меня для вас отличные новости.
Новости, - результаты первых экспертиз, - и впрямь были отличные. Во-первых, Жора в момент смерти был на грани алкогольного отравления. Во-вторых, семнадцать ударов ножом, которые ему нанес отчаявшийся Фишер, оказались не такими уж и впечатляющими: первые четырнадцать раз нож соскользнул по ребрам, смертельным стал пятнадцатый удар, а последние два всего лишь оцарапали Жоре спину. Соучастие в убийстве и вовсе было под вопросом – из-за отсутствия потерпевшего.
- Что-то я не понял. Там что, не было никого? – вскинул брови Фишер.
- Предположительно. Труп не обнаружен, да и плед, который вы упоминали, тоже не обнаружен. Никто ведь не искал труп, пока вы о нем не рассказали, - понимающе усмехнулся Виталий Маркович. – Знаете, если потерпевший связан с криминалом, есть шанс, что в полицию он обращаться не будет.
- Кого же тогда Жора в лес увозил?
- Кого или что? Спрошу еще раз, Евгений. Вы видели труп? Именно труп, а не плед?
- Когда я вышел из спальни, Жора сидел на диване и смотрел на кого-то, завернутого в плед…
- Плед имел человеческие очертания? Шевелился? Из него торчали руки, ноги? Может быть, волосы? – загадочным тоном допытывался Виталий Маркович.
Ошарашенный таким напором, Фишер промямлил:
- Ничего такого я не видел. Просто свернутый плед. Бугрился немного, наверное…
- Вот видите. Не такое уж у вас и безнадежное дело, - подытожил Виталий Маркович. Допив кофе, он смял стаканчик в кулаке. - Не говоря уж о том, что даже если Горняк и пытался кого-то убить, то явно без вашей помощи. У вас под ногтями обнаружен эпителий Горняка, а ваши ботинки остались у него дома. Соучастие так не выглядит.
- А что насчет… остального?
Горделиво вскинув подбородок, словно в палате сидели любопытствующие слушатели, Виталий Маркович принялся загибать пальцы:
- Горняк дважды озвучил, что собирается вас убить – это раз. Вы были без очков, а без них вы ничего не видите, особенно ночью – это два. Также Горняк называл вас, извините за выражение, жидом – это три…
- А это-то тут при чем? – рассеянно поинтересовался Фишер. Он впервые заметил на мизинце Виталия Марковича длинный ноготь, который придавал ему сходство с карточным шулером.
- При том, что вы защищались от убийцы, который хотел зарезать вас на почве национальной неприязни. И вас эти антисемитские угрозы очень напугали.
- Меня, если честно, только Жора напугал, - пробормотал Фишер.
- Вы уверены? – вкрадчиво спросил Виталий Маркович. Его взгляд сделался пристальным, как у снайпера.
Фишер снял очки и начал тщательно протирать их уголком пододеяльника, хотя в этом совсем не было надобности. Сколько он себя помнил, вопрос национальной принадлежности не беспокоил ни его самого, ни окружающих. Последних волновало лишь эгоистичное поведение Фишера, и эту его черту они всегда выдвигали на передний план. Исключением стал только Жора, который в последнюю ночь своей жизни опустился до национализма. Собравшись с мыслями, Фишер надел очки.
- Да, мне стало страшно, - согласился он, - я так и скажу.
- Я знал, что вы сообразительный молодой человек, - со смешком произнес Виталий Маркович, - а теперь давайте перейдем к гражданке Шейко.
Услышав про Элен, Фишер невольно поежился. К горлу подкатило слабое предчувствие тошноты.
- Она признала, что вы были её сутенером, но всячески вас выгораживает. Говорит, что вы никогда её не били и ни к чему не принуждали. И даже доказывает, что это она вас втянула, а не вы её.
Фишер боязливо покосился на закрытую дверь палаты. Переведя взгляд на Виталия Марковича, он тихо спросил:
- И когда Элен меня втянула?
— В конце этого мая. Точнее она не помнит. А до этого она никогда с вами не работала, - так же тихо ответил Виталий Маркович.
Фишер с облегчением откинул голову на подушку и улыбнулся – на этот раз искренне. Конечно, дела обстояли скверно, однако понемногу налаживались. Две недели гуманного сутенерства вполне смахивали на ошибку молодости, которую совершил юноша из приличной семьи.
Однако ночью Фишер всё равно спал беспокойно, даже во сне размышляя о своем нелегком положении. В круговерти кошмара хрипло хохотала Элен, стягивая с себя застиранный банный халат, а по обочине Токсовского шоссе, давя ботинками грибы, шагал неопознанный труп с черным мешком на голове. Следователь Мухин держал на руках окровавленный манекен, марая синий мундир темно-красными разводами, и равнодушно повторял одну и ту же фразу: "От шести до пятнадцати… От шести до пятнадцати… От шести до пятнадцати…"
Проснулся Фишер надломленным и разбитым. То ли заметив его кислую мину, то ли следуя указаниям врача, медсестра вручила ему крышечку от газировки, наполненную водой. Посмаковав эту жалкую порцию, Фишер наконец смочил гортань и сделал шумный глоток. Жажда лишь усилилась, но больше пить не разрешили.
Ближе к вечеру, шурша гофрированной юбкой, в палате появилась Лора Генриховна. На её лице читалась слабая тень беспокойства, словно у кого-то из соседей сбило машиной любимого питомца, однако Фишер знал бабушку не первый год и понимал, что по её меркам это была крайняя степень волнения. Держалась Лора Генриховна, как и всегда, холодно, однако Фишера особо не укоряла и расхваливала Виталия Марковича, который "скостил срок не одному упырю".
— Ты, конечно, мог бы открыть собственное дело, получив от меня в подарок солидную такую сумму на двадцатипятилетие, но теперь тебе придется начинать с низов, - пренебрежительно сообщила Лора Генриховна. - Твой перспективный подарок тает, как мороженое. Виталий Маркович, знаешь ли, не на помойке себя нашел. А если тебя все-таки отправят в Ленинскую область, то денег у тебя не останется вообще. Ты, Енюша, дурак.
Возразить было нечего. Лора Генриховна, как и всегда, оказалась права.
Следующую неделю Фишер провел в одиночестве, будто о нем забыли и Лора Генриховна, и Виталий Маркович, и следователь Мухин. Проваливаясь то в тоскливые размышления, то в зыбкую дрему, Фишер беспомощно лежал на больничной койке и пытался не чесать заживающий шов. По утрам медсестра приносила всё ту же крышечку воды. Из открытой форточки доносился отдаленный гул городской суматохи: перестук дождевых капель, гул проезжающих машин и обрывки музыки, подхваченные зябким ветром. За окном существовал мир, который Фишер мог бы не увидеть, умерев от кровопотери, мир, который продолжил бы существовать без него, без ничтожной искры, промелькнувшей в ледяной космической темноте. Смерть казалась настолько вещественной, что иногда у Фишера возникало ощущение, будто он может потрогать её руками.
Первая попытка поесть обернулась неудачей – после кисешки куриного бульона Фишера затошнило. Пока его рвало в подставленный медсестрой таз, он мечтал о том, чтобы выздоровление не наступало.
Однако через полтора месяца Фишера всё-таки выписали и отправили в следственный изолятор. У него отобрали всё, чем можно было зарезаться или задушиться, после чего побрили налысо и выдали комплект постельного белья. Бритая голова и спортивный костюм придали Фишеру мрачно-уголовный вид, и смягчить это тягостное впечатление не могли даже очки, а на застиранной простыне виднелись серовато-бурые разводы въевшихся пятен, словно её прежний обладатель умер во сне и, скорее всего, добровольно.
Камера, в которой Фишеру предстояло провести неопределенный срок, лишила его последних иллюзий. Грязно-желтый свет лампочки, проходя сквозь барханы сигаретного дыма, жирными мазками оседал на болотно-зеленых стенах и охристом кафеле советских времен. Окно, забранное мелкой решеткой, привинченный к полу обеденный стол и четыре металлические шконки занимали большую часть камеры – об уединении не могло быть и речи.
С соседями, впрочем, повезло больше. Функцию смотрящего нехотя выполнял тридцатилетний наркоман, который на фоне остальных казался самым инициативным. Четыре студента-закладчика, одинаково подавленные и тощие, проявляли к Фишеру минимальный интерес, отдавая предпочтение сну и своим собственным проблемам. Щуплый узбек, осужденный за кражу ноутбука, держался обособленно, словно надеялся остаться незамеченным до самого суда, а если и заговаривал, то мешал русские слова с тюркскими, и понять его было непросто. Никита, коренастый спортсмен, которого обвиняли в грабеже, сохранял оптимизм и развлекал сокамерников историями из деревенской жизни, однако делал это натужно, и в его вытянутом смуглом лице нередко проглядывала тщательно скрываемая брезгливость. В такие моменты Фишеру невольно вспоминался Гена Блотнер.
К Фишеру, единственному в камере убийце, относились своеобразно - не избегали, но из-за лексикона и количества нанесенных ножевых считали интеллигентом с неустойчивой психикой. Переубеждать их Фишер не спешил, подкрепляя свою уверенность спрятанной в рукаве мойкой[56], которую он в один из банных дней ловко вытащил из использованного станка. Орудовать ей Фишер научился быстро: разрезал спички на четыре части, стриг ногти и вскрывал гнойники. К тому же, мойкой можно было вскрыть вены – себе или кому-то другому. При должной сноровке это можно было сделать, имея даже небольшое лезвие.
Занятий в камере было немного. Фишер либо спал, либо курил, либо читал книги, которые каждый день приносил работник хозобслуги. Иногда Фишера вызывали на допросы, где следователь Мухин, желая поймать его на лжи, раз за разом спрашивал об одном и том же. Начались следственные действия. Фишер водил сотрудников СК по лесному массиву, бил бутафорским ножом манекен, который изображал Жору, и жалел, что четвертого июня был слишком ошарашен видом собственной крови. Если бы Фишеру выпала возможность прожить ту ночь заново, он бы смаковал каждый удар – даже те, которые оказались неудачными.
[56] половина бритвенного лезвия
В конце лета напомнило о себе слабое здоровье. Вдыхая спертый воздух и сигаретный дым, Фишер влажно покашливал в платок плевочками бронхитной мокроты и надеялся, что никто из сокамерников не болен туберкулезом. Психика пока держалась, срываясь лишь на красочные сны, полные жестокости и страданий. Истекал кровью Жора, над которым сухо перешептывались заросли кукурузы, остывал за горбатыми гаражами искромсанный труп Никиты, а Фишеру угрожала поварским ножом женщина в мясницком фартуке.
Воздух набухал осенней сыростью, деревья желтели и осыпали землю тускнеющей позолотой. Фишер, которого ранее обвиняли в убийстве, медленно превращался в жертву обстоятельств, пусть и не самую благоразумную. Психиатрическая комиссия признала его здоровым и вменяемым. Анализ крови доказал, что Жора четвертого июня вполне мог находиться в состоянии алкогольного галлюциноза. Офтальмологическая экспертиза доказала, что Фишер, будучи ночью без очков, не мог прицельно бить в сердце. А загадочный труп, существование которого становилось всё более эфемерным, так и не объявился.
Фишер прочувствовал всем своим существом, что счастье действительно познается в сравнении – теперь максимальный срок его вероятного заключения составлял пять лет, а не пятнадцать.
"Если записаться в актив, можно и досрочно выйти. Года через три", - размышлял он.
Судя по рассказам сокамерников, которые повиновались сложившейся парадигме и активистов недолюбливали, с лагерной администрацией сотрудничали люди, не отягощенные совестью, и Фишер был уверен, что легко вольется в столь беспринципный коллектив.
Однако Никита на подобные компромиссы идти не собирался. Об активистах он отзывался с презрением и постоянно напоминал, что сам таким ни за что не станет. Фишер считал про себя до двадцати, однако перед мысленным взором всё равно вырисовывался задушенный Никита, валяющийся в придорожной канаве. Фишер надеялся, что в один прекрасный день Никита исчезнет из камеры – по какой бы то ни было причине. Однако тот не исчезал. Его дело застопорилось, увязнув в противоречивых показаниях свидетелей.
В ноябре, накануне своего дня рождения Фишер осознал, что больше так продолжаться не может. Глядя на длинноносый профиль Никиты, который курил возле зарешеченного окна, Фишер вспомнил, как отец прижимал его ладонь к раскаленной плите, как Гена макал его лицом в грязную лужу – и дважды полоснул себя мойкой по левой руке.
План, несмотря на спонтанность, сработал. Никита, даже не подозревавший о своем везении, остался в живых, а Фишера перевели в другую камеру, обитатели которой еще не успели ему надоесть. Однако пробыл он там недолго - после Нового года, который подследственные отметили винегретом, состоялся суд.
Фишер к тому моменту выглядел уже прилично: волосы отросли, а черный костюм и белая рубашка, присланные Лорой Генриховной, сделали из него законопослушного члена общества. Пока судья с химзавивкой, похожей на кремовый торт, выслушивала участников процесса, Фишер сидел в стеклянной клетке, сдирал с пальцев заусенцы и смотрел поверх очков в расфокусированный зал.
Прокурор выставлял Фишера асоциальным элементом и требовал для него максимального наказания. Мать Жоры, приехавшая на суд из Стерлитамака, громко всхлипывала и утверждала, что её сын в детстве обожал животных, так что ударить ножом человека не мог. Элен, закутанная в мешковатое платье до щиколоток, прокуренным голосом рассказывала о мягком характере Фишера и называла его "милым мальчиком". Лора Генриховна сидела на скамье и подбадривала внука уверенными взглядами. От дачи показаний она отказалась, воспользовавшись правилом о кровном родстве.
Виталий Маркович чувствовал себя хозяином положения. Он делал акцент на том, что Фишер был более человечным, чем его типичные коллеги, что в момент нападения он не видел дальше собственного носа, что потерпевший Горняк был пьян, прямым текстом озвучивал свои намерения убить Фишера и оскорблял его по национальному признаку.
Фишер до последнего считал эту уловку туфтой, однако тактика Виталия Марковича принесла свои плоды: Фишера приговорили к двум годам лишения свободы за превышение самообороны и двум годам за организацию проституции. Первый срок надлежало провести в исправительной колонии общего режима, второй срок был условным. Приговор доносился до Фишера издалека, будто сквозь толстый слой ваты. Виталий Маркович, сложив руки на груди, торжествующе улыбался и свысока поглядывал на прокурора. Мать Жоры беззвучно плакала, пряча лицо в ладонях и содрогаясь сутуловатым туловищем.
Автозак отвез Фишера обратно в следственный изолятор. Через неделю пришел с хорошей новостью Виталий Маркович: со дня на день Фишера должны были этапировать в ИК-2, которая располагалась неподалеку от Павлозаводска – в Красных Шахтах.
- Лора Генриховна просила передать, чтобы вы соглашались на должность, которую вам предложат, - назидательно произнес Виталий Маркович, - это отличная возможность отсидеть комфортно. Не упускайте её.
- Откуда она знает, что мне что-то предложат? – спросил Фишер, сдерживая зевоту. После суда он только и делал, что спал без задних ног, а окружающий мир находил рыхлым и не до конца реальным.
- Она знакома с начальником оперчасти.
Фишер кивнул. И без дополнительных разъяснений было понятно, что познакомилась с ним Лора Генриховна еще в бытность нотариусом, когда загадочный начальник оперчасти наверняка служил в другом месте, но уже был нечист на руку.
ИК-2 оказалась красной донельзя. Это подтверждали румяные лица лагерного актива и откормленные, как на убой, сотрудники в сизом камуфляже. Начальник колонии, полковник Ремизов, напротив был долговязым мужчиной за сорок, а рубленая челюсть, нос римских статуй и блекло-голубые глаза придавали ему сходство с эсэсовцем, который по какому-то недоразумению носил форму российского офицера. Как показали дальнейшие события, сравнение оказалось верным.
Переодевшись в угольно-черную робу, Фишер окончательно стал представителем спецконтингента. Мешковатый пиджак с излишне длинными рукавами напоминал плохо сшитую куртку и полностью оправдывал свое жаргонное название "лепень". Брюки не по росту засаленными складками ложились на ботинки – тяжелые, сделанные из чего-то вроде кирзы, со скошенными от долгого ношения каблуками. Комковатый ватник и шапка-ушанка довершали образ лагерника, который тосковал по дому, писал письма заочницам и очень жалел свою пожилую мать.
Первые две недели Фишер провел в карантине. Приходили сотрудники по воспитательной работе, которые долго и муторно объясняли правила внутреннего распорядка, а когда они уходили, за дело принимался завхоз карантина, который тоже объяснял правила, но уже негласные. Первые противоречили вторым, однако нарушать нельзя было ни те, ни другие.
"Кафкианство какое-то", - неприязненно думал Фишер, стараясь не клевать носом.
Из карантина его переселили в длинный, как кишка, барак, где располагался отряд №2. Внутреннее убранство было до тошноты безликим: хлипкие тумбочки из ДСП, двухъярусные шконки, застеленные серыми одеялами, и коричневые шторки на окнах. Стены, крашенные зеленой эмалью, и дощатый пол охристого цвета отдавали клопомором. Место отлично подходило для того, чтобы покончить с собой.
Локалка[57], обнесенная забором из жести, выглядела немного уютнее – на ней лежал отпечаток индивидуального труда. По обе стороны от барачного крыльца гнездились пустые клумбы из покрышек, а на фанерном щите виднелся патриотически-китчевый рисунок с искривленными пропорциями – опешивший Георгий-Победоносец, который протыкал копьем неопознанную рептилию. Над батальной сценой тянулась трафаретная надпись, придававшая подвигу святого уголовный окрас: "На свободу – с чистой совестью". Фишер это утверждение на свой счет не принимал. Совесть его совсем не мучила.
[57] внутренний двор перед бараком
Знакомство с начальником оперчасти состоялось в тот же день. Майор Сухарев, дородный мужчина с рыжеватыми бровями и бледным, как тесто, конопатым лицом, занимал отдельный кабинет – казенно-синий, ярко освещенный зимним солнцем и настольной лампой. С портрета, висящего на стене, внимательно глядел в светлое будущее Путин, а возле окна стоял большой аквариум на металлических ножках.
Сидя за столом, Сухарев задумчиво постукивал пальцем по стопке личных дел, а Фишер, расположившийся напротив него на деревянном стуле, сохранял вежливое молчание и косился на подсвеченный аквариум. Глодал стекло мясистый сом, в водорослях сновали полосатые, как зебра, скалярии, а крохотные рыбешки, стайкой шныряющие в толще воды, неоново поблескивали боками.
- Нравится? – поинтересовался Сухарев, указав подбородком на аквариум.
- Нравится, гражданин майор, - поспешно ответил Фишер, - я тоже животных люблю. У меня дома энциклопедия осталась, "Птицы России".
- Да, Лора упоминала, что ты любишь наблюдать за птицами. Значит, и с этой должностью справишься.
- С какой именно должностью, гражданин майор?
- Лора сказала, что у тебя слабые легкие. На промке, как понимаешь, тебе работать не вариант. А вот библиотекарь из тебя получится хороший, - произнес Сухарев. Запустив руку в ящик стола, он положил под свет лампы красную нарукавную повязку.
- И что я должен делать? – насторожился Фишер.
- Глупые вопросы задаешь, Женя. Выдавать книги, заполнять карточки. Чем еще может заниматься библиотекарь?
- Я на всякий случай спросил. Мало ли что… - пробормотал Фишер. Опустив голову, он уперся взглядом в собственные брюки. На правом колене маслянисто поблескивало пятно, которое невозможно было отстирать.
- Думаешь в правильном направлении, - покровительственно улыбнулся Сухарев, показав белые зубы. – К тебе будут ходить не только за книгами, но и за общением. И вообще будут вести при тебе разговоры. Имена родственников, подробности вольной жизни, личные проблемы… Понимаешь?
- Я должен наблюдать, - с полувопросительной интонацией произнес Фишер. По спине, несмотря на теплый ватник, побежали мурашки.
- Молодец, Женя. Наблюдать, слушать и запоминать.
- Но это ведь… опасно, гражданин майор.
- Обычно мне докладывают обо всем письменно, на официальной основе, - вкрадчиво сказал Сухарев, подавшись вперед, - а ты будешь делать это устно. Тебя даже не будет в моих списках. Как по мне, отличный расклад. У тебя и вид подходящий. Интеллигентный, спокойный. Кто тебя заподозрит?
- Гм… - только и выдавил Фишер.
Пребывая в карантинном бараке, он догадался, что Лора Генриховна, подняв свои старые знакомства, попросту купила ему должность лагерного библиотекаря, и подводить её, отказываясь от предложения Сухарева, было бы расточительством.
"Как мало человеку нужно для счастья", - думал Фишер, расслабленно направляясь через многочисленные КПП к лагерному клубу, пока менее счастливые арестанты, не отмеченные красными повязками, мерзли на плацу, делая зарядку под гимн России.
Библиотека располагалась на втором этаже клуба, по соседству с музыкальной комнатой, где хранились гитары, духовые инструменты и отливающие перламутром баяны. Окно в читальном зале было занавешено узорчатым тюлем, и за его белесой паутиной виднелась опрятная церквушка с сизыми луковицами куполов. Лабиринт книгохранилища мог похвастать лишь потрепанными изданиями русской классики, производственными романами о советских рабочих и бульварным чтивом времен перестройки. Фишер выдавал арестантам книги, заполнял аккуратным почерком читательские карточки и держал ухо востро.
Посетители действительно любили поговорить – то с Фишером, то друг с другом. Со временем, правда, делать это переставали. Однако прибывал новый этап, еще не осведомленный о дополнительных обязанностях библиотекаря, и Фишер вновь шел в оперчасть, чтобы отчитаться перед майором Сухаревым. Жизнь текла своим чередом, и терзал Фишера лишь хронический бронхит, однако от него спасали лекарства, которые присылала Лора Генриховна.
Виделись они только на краткосрочных свиданиях, которые проходили в гулком помещении, разделенном надвое плотной решеткой. Когда Лора Генриховна покидала лагерь, оставались лишь вещественные следы её визита: сигареты в целлофановых пакетах, конфеты "Каракум" без фантиков и прозрачно-желтый мед в пластиковых бутылках.
Первый год заключения наложил на Фишера явный отпечаток: потемнели от чифира зубы, налился хрипотцой прокуренный голос, отяжелел немигающий взгляд. Фишер в очередной раз возмужал, однако это было болезненное возмужание, и вместе с ним вернулись в новом обличии навязчивые мысли – то ли мечты, то ли кошмары.
Протирая влажной тряпкой читательские столы, Фишер всё чаще уходил в себя. Ему представлялся безлюдный лес, дерзкий побег из лагеря, совершенный глубокой ночью, и волокнистое мясо безымянного сообщника, пожаренное на костре. Детали варьировались, однако суть фантазии оставалась неизменной: побег, лесная темень, людоедство.
Этим дневные грезы Фишера не исчерпывались - были и эротические видения. Женщина в мясницком фартуке волокла по темному коридору беспомощного работника банка, который задыхался от рыданий и сучил ногами, колотя по полу каблуками начищенных ботинок. Угрюмая медсестра затыкала ему рот окровавленным полотенцем, превращая крики ужаса в сдавленное мычание. Хладнокровная, как палач, сотрудница полиции душила его собачьим поводком. Все эти картины вызывали у Фишера возбуждение, приправленное страхом.
Наступило лето шестнадцатого года. До конца срока оставалось чуть больше шести месяцев. Фишер следил за порядком в библиотеке, ходил с доносами к майору Сухареву и мечтал о кровожадных женщинах, интерес к которым понемногу принимал патологические масштабы. Находясь в лагере физически, Фишер мысленно звал на помощь, ощущая на себе тяжесть чужого тела, плакал от бессилия перед неминуемым удушьем и закатывал стекленеющие глаза. Однако наваждение неизбежно спадало, Фишер вспоминал, где именно он находится, и желание быть задушенным сменялось своей противоположностью – стремлением задушить кого-нибудь другого. Если Фишер был в библиотеке один, то он уходил в книгохранилище и, тихо матерясь сквозь зубы, бил кулаками по стене, пока костяшки не покрывались ссадинами. Боль, пусть даже такая слабая, ненадолго снимала напряжение.
В октябре прибыл очередной этап, одним из пассажиров которого оказался Вадим Щукин – политический заключенный, осужденный по экстремистской статье. Майор Сухарев заведомо счел его баламутом и решил нанести удар превентивно, не марая при этом собственных рук.
- Ты не молчи, если он вдруг начнет тебе что-то доказывать, - наставлял он Фишера, хлебая чай из граненого стакана. - Поддержи разговор, изобрази заинтересованность. Чем больше этот гусь наговорит, тем лучше.
Недолго думая, Фишер согласился. Ничем серьезным ситуация с Щукиным закончиться не могла, да и поручение само по себе было простое – располагать к себе людей, хоть и ненадолго, Фишер умел.
Однако когда Щукин впервые показался в дверях библиотеки, Фишер понял, что о некоторых нюансах майор Сухарев умолчал. Вместо ошарашенного студента, который угодил в тюрьму из-за обостренного чувства справедливости, перед библиотекарским столом стоял курносый мужчина с непроницаемым лицом патологоанатома и тяжелыми кулаками. Глубоко посаженные зеленые глаза бегали из стороны в сторону, словно выискивая цель, а слова звучали скупо и отрывисто. Осторожность Щукина смахивала на паранойю: с другими арестантами он так и не сошелся, пометок в книгах не делал, а с Фишером и вовсе не разговаривал, лишь кидая на него брезгливые взгляды. Узнав, каким именно экстремистом был Щукин, Фишер пожалел, что вообще ввязался в эту историю – тот был националистом. Когда Фишер поделился с майором Сухаревым своими сомнениями, тот нахмурился и приказал начать разговор самому.
"Купила баба порося", - мрачно думал Фишер, покидая оперчасть. Было ясно, как день, что Щукин не станет беседовать по душам с человеком, который обладает еврейской внешностью и, словно подтверждая стереотипы, носит очки.
Через несколько дней Щукин вернулся, чтобы сдать "Молодую гвардию". Чуть ли не физически ощущая тяжесть своего положения, Фишер вспомнил, в каких именно книгах упоминаются концлагеря, и произнес:
- Еще "Судьба человека" есть. И Василь Быков.
Щукин прищурился и заиграл желваками. Заподозрив неладное, Фишер вместе со стулом подвинулся назад, однако Щукин проворно перегнулся через стол, свалив на пол ящичек с читательскими билетами, и ухватил Фишера за лацканы куртки.
- Э, ты чего? Руки убрал, - глухо сказал Фишер.
Щукин грубо его встряхнул:
- Я со стукачом говорить не собираюсь. Если еще раз попытаешься что-то у меня выпытать, я тебе ноги переломаю.
- Со стукачом? – переспросил Фишер. Он осознал, что дрожит, и стиснул зубы. Грудная клетка наполнилась жаром, закружилась отяжелевшая голова.
- Я тебя, жид, насквозь вижу. При оккупации такие, как ты, своих же за поблажки сжигали. Еще хоть раз со мной заговоришь…
Фишер понял, что рассказывать о дедушке-полицае уже поздно. Он криво усмехнулся:
- Я понял. Больше не буду. Только не бей.
Щукин тяжело вздохнул и разжал кулаки. Фишер поправил смятую куртку, осторожно вышел из-за стола и принялся трясущимися пальцами собирать с пола читательские билеты. Краем глаза он видел, как Щукин неспешно направляется к выходу, загребая ладонями сгустившийся воздух.
Оглушенный биением собственного сердца, Фишер выпрямился. Мир сузился до бледной полоски кожи между угольно-черным воротником и бритым затылком с щетиной светлых волос. Подняв невесомые руки, Фишер подскочил к Щукину со спины и сдавил ему горло локтевым захватом. Щукин захрипел, рефлекторно дернулся вперед и всем весом обмякающего тела потянул Фишера на вымытый, пахнущий хлоркой линолеум.
- За языком следи, мудак, - злорадно произнес Фишер и будто со стороны услышал собственный голос – хрипловатый, низкий, нутряной.
Щукину повезло. Баянист из музыкальной секции, который проходил в этот момент по коридору, услышал в библиотеке подозрительный шум и заглянул внутрь. Щукин без сознания лежал на полу, а склонившийся над ним Фишер, скаля желтые зубы, душил его голыми руками и бил затылком об пол.
Сотрудники привели Щукина в чувство, скрутили ему руки и потащили в штрафной изолятор. Осоловелого Фишера, который еле держался на ногах, конвоировали в оперчасть. Не замечая боли в локтях, Фишер вдыхал прохладный октябрьский воздух, в котором витал аромат жженых листьев, и мечтательно жмурился. То, о чем он мечтал больше года, наконец произошло.
- Женя, ты нахера это сделал? – угрожающе поинтересовался майор Сухарев, стукнув кулаком по столу. – Тебя никто не просил его убивать. Или ты забыл? Или ты не подумал?
- Я и не собирался убивать, гражданин майор, - с полуулыбкой ответил Фишер, - он меня жидом назвал. Я хотел… припугнуть.
- Ничему тебя жизнь не учит, - усмехнулся Сухарев. – Что еще он тебе говорил?
- Да ничего особенного. Что такие, как я, во время войны были предателями. Работали на администрацию в концлагерях. Капо, похоронные команды...
- То есть, разжигал межнациональную рознь.
Фишер непонимающе округлил глаза. Сухарев вынул из ящика стола чистый лист бумаги и положил его перед Фишером, прижав сверху копеечной ручкой.
- Пиши. "Щукин Вадим Михайлович угрожал мне физической расправой и доказывал, что малые народы России не имеют права на существование…"
- Прям с подписью?.. – промямлил Фишер. Он вновь задрожал, но на этот раз не от предвкушения драки.
- А ты как думал, Женя? – посмотрел на него Сухарев, как на слабоумного. – Пиши давай. И тогда я сделаю вид, что ты не пытался никого убить. Как-никак, январь на носу. Тебе, наверное, домой хочется…
Домой хотелось. Написав под диктовку Сухарева частично ложный донос, Фишер вернулся в библиотеку. Читательские билеты до сих пор валялись на полу, как опавшие виноградные листья. Фишер скрылся в книгохранилище, уткнулся лбом в шершавую стену и закрыл глаза. Официальный статус доносчика грозил новыми поручениями и, как обещал Щукин, возвращение которого было неизбежным, сломанными ногами.
Однако Щукин не вернулся. Чуть позже, подслушивая чужие разговоры, Фишер выяснил, что его перевели в психиатрическую больницу – за то, что тот, лежа в лазарете, пытался повеситься в туалете на куске проволоки. Под матрасом Щукина обнаружили скомканные письма товарищам по борьбе, написанные в шизофазической манере и без знаков препинания. Узнав об этом, Фишер с облегчением выдохнул. Теперь он мог ни о чем не беспокоиться.
В середине января, когда пошли на спад крещенские морозы, Фишер вышел за ворота колонии и увидел перед собой блеклый красношахтинский пейзаж. Пустую трассу окаймляли сугробы, присыпанные угольной пылью, вдалеке поблескивали инеем черные каркасы лесополосы, а крохотная точка солнца выглядывала из-за сизых облаков, словно пораженный катарактой глаз. Мороз мелкими иглами колол щеки и забирался под капюшон пуховика. Подоткнув вязаный шарф, Фишер закурил и побрел туда, где находилась станция.
Билеты, как оказалось, подорожали чуть ли не вдвое, а плесневело-зеленые электрички советского образца уступили место новым, еще не успевшим выгореть поездам РЖД, чья серо-красная гамма вызывала у Фишера трупные ассоциации. Коротая дорогу до Павлозаводска, он сидел возле окна, жевал купленные на станции пирожки и разглядывал пассажиров. Женщина в меховой шапке, похожая на учительницу, читала "День опричника". Стайка мальчишек, которые были пострижены, как гитлеровская молодежь тридцатых годов, громко слушала на колонке депрессивный рэп про ледяные гробницы. Девушка с фиолетовым каре терла голой ладонью замерзшее окно и припадала к получившемуся отверстию линзой декоративных очков. Стучали по рельсам колеса, отбивая монотонный, усыпляющий ритм.
Павлозаводск практически не изменился, словно время протекало мимо него. Оказавшись на вокзале, Фишер перешел через трамвайные пути и стал ждать нужный автобус. Когда взгляд женщины, которая сидела на скамейке, превратился из внимательного в опасливый, Фишер поймал себя на том, что расхаживает из стороны в сторону, сложив руки за спиной, и закурил, чтобы чем-то себя занять. Однако сигарету пришлось выбросить – к остановке подъехал оранжевый "пазик".
Автобус громко хрустел коробкой передач и ехал по знакомому маршруту. Из кабинки водителя, украшенной вымпелами футбольных команд и малиновой шторкой с бахромой, доносился незатейливый русский шансон. Прислоняясь виском к окну, Фишер видел школьный стадион, на котором чуть не ударил ножом Гену Блотнера, переулок, где разбил затылок об гаражную дверь Сеня Скорлупкин, и далекую кромку лесного массива.
Лора Генриховна оказалась дома. Встав на цыпочки, она обняла Фишера и погладила его по голове. Фишер пригнулся, чтобы оказаться одного с ней роста. Седые волосы Лоры Генриховны пахли яичным шампунем и духами "Красная Москва".
- Я так понимаю, ты решил сделать мне сюрприз. Однако угощать тебя пока нечем, - деловито сообщила она.
- Да ладно, бабуль. Я в поезде пирожков поел, я не голодный, - успокоил её Фишер и полез в карман за сигаретами.
- Можешь курить в доме, но только на веранде.
- Понял. На веранде, - повторил он. Разговаривать с людьми, не взвешивая мысленно каждое слово, было непривычно.
Уперев руки в бока, Лора Генриховна вздохнула:
- Ты чем думал, когда решил в криминал ввязаться, Енюша? Ты как теперь по специальности работать будешь? В банк тебя с судимостью не возьмут.
Фишер усмехнулся:
- В библиотеку возьмут. У меня стаж есть.
Лора Генриховна взглянула на него с таким укором, что улыбаться Фишеру сразу перехотелось. Чтобы загладить свой промах, он вызвался сходить в магазин за продуктами.
Приспособиться к нормальной жизни оказалось непросто. Поначалу сытная домашняя еда, чистые простыни в горошек и одежда, купленная в торговом центре, казались чем-то временным и неуместным. Общаясь с соседями по линии, Фишер мысленно одергивал себя всякий раз, когда начинал искать в их вопросах подвох, и отвечал развернуто, пытаясь казаться дружелюбным. Выяснилось, что Лора Генриховна сообщила соседям лишь о превышении самообороны, а о сутенерстве благоразумно умолчала. Фишера считали жертвой негуманного правосудия и утешали его фразой "лучше пусть трое судят, чем шестеро несут".
Трудоустроиться самостоятельно Фишеру не удалось из-за сомнительного резюме, однако на помощь вновь пришла Лора Генриховна, и уже в марте Фишер работал водителем катафалка в похоронном агентстве "Ленритуал", а чуть позже снял квартиру возле трамвайных путей и мясного рынка. По выходным он помогал Лоре Генриховне – ходил за продуктами, колол дрова и забивал индюков, а в свободное от работы время знакомился в тиндере с женщинами. Все они оказывались недостаточно жестокими, а некоторые и вовсе тактично сбегали после первой же ночи, находя Фишера пугающим, а его фетиши – травмоопасными.
Лора Генриховна скончалась в восемнадцатом году. Фишер был подавлен, словно ему против воли выдрали плоскогубцами здоровый зуб. На похоронах он изображал молчаливую скорбь, и его равнодушие сочли признаком мужества. Поминки организовывали подруги Лоры Генриховны, которым Фишер выдал необходимую сумму, сославшись на то, что ему очень тяжело морально. Ему поверили и в очередной раз сообщили, что Лора Генриховна отмучилась. Возражать Фишер не стал.
Взяв на работе отпуск, он купил на зоорынке черного котенка и заперся в бабушкином доме, куда снова переехал – на этот раз окончательно. Котенок, названный в честь императора Нерона, неуклюже играл с конфетным фантиком, точил об диван когти и, требовательно попискивая, лез Фишеру на руки, пока тот, укрытый пледом, лежал на диване и смотрел телевизор.
Не было больше ситкома про немецких солдат времен Первой Мировой, не было откровенных репортажей о лесбиянках из женской колонии и питерских каннибалах. Кинохроник Анатолия Сливко тоже больше не было. Фишера не покидало ощущение, будто он, уехав в Петербург, на шесть лет закрыл глаза и не заметил свершившихся перемен. В новостях рассказывали о военных действиях в Украине и Сирии. Лысеющий пропагандист, кокетливо избегая слова "фашизм", утверждал, что Россия идет по третьему пути, который дал миру Бенито Муссолини. Эпатажный актер и бывший священник призывал заживо сжигать гомосексуалистов в печах, а ехидный ведущий, чем-то смахивающий на Геббельса, проникновенно напоминал электорату, что Россия в любой момент может превратить Америку в радиоактивный пепел.
"И эти люди утверждают, что я агрессивный!" – возмущенно думал Фишер, переключая каналы. Впервые за несколько лет он искренне порадовался тому, что имеет судимость – сидевших в армию не призывали.
Прежним осталось лишь "Поле Чудес". Якубович посмеивался в седые усы, читали стихи нарядные дети, приехавшие на передачу с родителями, а блондинка в коротком зеленом платье дефилировала к стенду и открывала правильные буквы. Не дождавшись конца передачи, Фишер задремал и погрузился в тягостный, сумеречный сон. Умирающая Лора Генриховна просила отвести её к животным, и Фишер, сглатывая соленые слезы, вёл её в сторону птичника, где бродили по изрытому чернозему тучные индюки.
Когда воспоминания схлынули, сорокопута в кадре уже не было, а колючая ветка, унизанная крохотными трупиками, даже не покачивалась. Фишер выключил фотоаппарат и надел на объектив крышку. Задерживаться в лесу не было смысла.
Возвращаясь домой по узкой тропе, которая пролегала через шелестящий березняк, Фишер заметил на горизонте незнакомца. Темный силуэт шел ему навстречу, задевая макушкой ветви, и совсем скоро превратился в парня лет двадцати. Светлые, как солома, волосы отливали золотистой рыжиной, на мешковатой футболке улыбался череп с костями, а в худой руке покачивался пакет с бутылками. Фишер отошел с тропы и замер в подрагивающей тени березняка, усыпанной проблесками солнечного света. Парень прошел мимо, совсем не обратив на Фишера внимания, а затем и вовсе пропал из виду, скрывшись за пологом листьев.
Фишер еще долго стоял на месте и пристально глядел туда, где по инерции колыхались березовые ветви. Угольно-карие глаза поблескивали за стеклами очков, словно капли смолы. Крылья крючковатого носа шевелились, втягивая теплый воздух, пропахший полевым цветением.
Фишер с силой прикусил пересохшую губу. Во рту появился железистый привкус. Парень ушел слишком далеко, чтобы его можно было догнать. Убедив себя в этом, Фишер еще раз прикусил губу, слизнул кончиком языка выступившую каплю крови и направился домой. Солнце светило ему в спину, а длинная скошенная тень волочилась по земле, прячась в густых зарослях травы.
Наступило лето шестнадцатого года. До конца срока оставалось чуть больше шести месяцев. Фишер следил за порядком в библиотеке, ходил с доносами к майору Сухареву и мечтал о кровожадных женщинах, интерес к которым понемногу принимал патологические масштабы. Находясь в лагере физически, Фишер мысленно звал на помощь, ощущая на себе тяжесть чужого тела, плакал от бессилия перед неминуемым удушьем и закатывал стекленеющие глаза. Однако наваждение неизбежно спадало, Фишер вспоминал, где именно он находится, и желание быть задушенным сменялось своей противоположностью – стремлением задушить кого-нибудь другого. Если Фишер был в библиотеке один, то он уходил в книгохранилище и, тихо матерясь сквозь зубы, бил кулаками по стене, пока костяшки не покрывались ссадинами. Боль, пусть даже такая слабая, ненадолго снимала напряжение.
В октябре прибыл очередной этап, одним из пассажиров которого оказался Вадим Щукин – политический заключенный, осужденный по экстремистской статье. Майор Сухарев заведомо счел его баламутом и решил нанести удар превентивно, не марая при этом собственных рук.
- Ты не молчи, если он вдруг начнет тебе что-то доказывать, - наставлял он Фишера, хлебая чай из граненого стакана. - Поддержи разговор, изобрази заинтересованность. Чем больше этот гусь наговорит, тем лучше.
Недолго думая, Фишер согласился. Ничем серьезным ситуация с Щукиным закончиться не могла, да и поручение само по себе было простое – располагать к себе людей, хоть и ненадолго, Фишер умел.
Однако когда Щукин впервые показался в дверях библиотеки, Фишер понял, что о некоторых нюансах майор Сухарев умолчал. Вместо ошарашенного студента, который угодил в тюрьму из-за обостренного чувства справедливости, перед библиотекарским столом стоял курносый мужчина с непроницаемым лицом патологоанатома и тяжелыми кулаками. Глубоко посаженные зеленые глаза бегали из стороны в сторону, словно выискивая цель, а слова звучали скупо и отрывисто. Осторожность Щукина смахивала на паранойю: с другими арестантами он так и не сошелся, пометок в книгах не делал, а с Фишером и вовсе не разговаривал, лишь кидая на него брезгливые взгляды. Узнав, каким именно экстремистом был Щукин, Фишер пожалел, что вообще ввязался в эту историю – тот был националистом. Когда Фишер поделился с майором Сухаревым своими сомнениями, тот нахмурился и приказал начать разговор самому.
"Купила баба порося", - мрачно думал Фишер, покидая оперчасть. Было ясно, как день, что Щукин не станет беседовать по душам с человеком, который обладает еврейской внешностью и, словно подтверждая стереотипы, носит очки.
Через несколько дней Щукин вернулся, чтобы сдать "Молодую гвардию". Чуть ли не физически ощущая тяжесть своего положения, Фишер вспомнил, в каких именно книгах упоминаются концлагеря, и произнес:
- Еще "Судьба человека" есть. И Василь Быков.
Щукин прищурился и заиграл желваками. Заподозрив неладное, Фишер вместе со стулом подвинулся назад, однако Щукин проворно перегнулся через стол, свалив на пол ящичек с читательскими билетами, и ухватил Фишера за лацканы куртки.
- Э, ты чего? Руки убрал, - глухо сказал Фишер.
Щукин грубо его встряхнул:
- Я со стукачом говорить не собираюсь. Если еще раз попытаешься что-то у меня выпытать, я тебе ноги переломаю.
- Со стукачом? – переспросил Фишер. Он осознал, что дрожит, и стиснул зубы. Грудная клетка наполнилась жаром, закружилась отяжелевшая голова.
- Я тебя, жид, насквозь вижу. При оккупации такие, как ты, своих же за поблажки сжигали. Еще хоть раз со мной заговоришь…
Фишер понял, что рассказывать о дедушке-полицае уже поздно. Он криво усмехнулся:
- Я понял. Больше не буду. Только не бей.
Щукин тяжело вздохнул и разжал кулаки. Фишер поправил смятую куртку, осторожно вышел из-за стола и принялся трясущимися пальцами собирать с пола читательские билеты. Краем глаза он видел, как Щукин неспешно направляется к выходу, загребая ладонями сгустившийся воздух.
Оглушенный биением собственного сердца, Фишер выпрямился. Мир сузился до бледной полоски кожи между угольно-черным воротником и бритым затылком с щетиной светлых волос. Подняв невесомые руки, Фишер подскочил к Щукину со спины и сдавил ему горло локтевым захватом. Щукин захрипел, рефлекторно дернулся вперед и всем весом обмякающего тела потянул Фишера на вымытый, пахнущий хлоркой линолеум.
- За языком следи, мудак, - злорадно произнес Фишер и будто со стороны услышал собственный голос – хрипловатый, низкий, нутряной.
Щукину повезло. Баянист из музыкальной секции, который проходил в этот момент по коридору, услышал в библиотеке подозрительный шум и заглянул внутрь. Щукин без сознания лежал на полу, а склонившийся над ним Фишер, скаля желтые зубы, душил его голыми руками и бил затылком об пол.
Сотрудники привели Щукина в чувство, скрутили ему руки и потащили в штрафной изолятор. Осоловелого Фишера, который еле держался на ногах, конвоировали в оперчасть. Не замечая боли в локтях, Фишер вдыхал прохладный октябрьский воздух, в котором витал аромат жженых листьев, и мечтательно жмурился. То, о чем он мечтал больше года, наконец произошло.
- Женя, ты нахера это сделал? – угрожающе поинтересовался майор Сухарев, стукнув кулаком по столу. – Тебя никто не просил его убивать. Или ты забыл? Или ты не подумал?
- Я и не собирался убивать, гражданин майор, - с полуулыбкой ответил Фишер, - он меня жидом назвал. Я хотел… припугнуть.
- Ничему тебя жизнь не учит, - усмехнулся Сухарев. – Что еще он тебе говорил?
- Да ничего особенного. Что такие, как я, во время войны были предателями. Работали на администрацию в концлагерях. Капо, похоронные команды...
- То есть, разжигал межнациональную рознь.
Фишер непонимающе округлил глаза. Сухарев вынул из ящика стола чистый лист бумаги и положил его перед Фишером, прижав сверху копеечной ручкой.
- Пиши. "Щукин Вадим Михайлович угрожал мне физической расправой и доказывал, что малые народы России не имеют права на существование…"
- Прям с подписью?.. – промямлил Фишер. Он вновь задрожал, но на этот раз не от предвкушения драки.
- А ты как думал, Женя? – посмотрел на него Сухарев, как на слабоумного. – Пиши давай. И тогда я сделаю вид, что ты не пытался никого убить. Как-никак, январь на носу. Тебе, наверное, домой хочется…
Домой хотелось. Написав под диктовку Сухарева частично ложный донос, Фишер вернулся в библиотеку. Читательские билеты до сих пор валялись на полу, как опавшие виноградные листья. Фишер скрылся в книгохранилище, уткнулся лбом в шершавую стену и закрыл глаза. Официальный статус доносчика грозил новыми поручениями и, как обещал Щукин, возвращение которого было неизбежным, сломанными ногами.
Однако Щукин не вернулся. Чуть позже, подслушивая чужие разговоры, Фишер выяснил, что его перевели в психиатрическую больницу – за то, что тот, лежа в лазарете, пытался повеситься в туалете на куске проволоки. Под матрасом Щукина обнаружили скомканные письма товарищам по борьбе, написанные в шизофазической манере и без знаков препинания. Узнав об этом, Фишер с облегчением выдохнул. Теперь он мог ни о чем не беспокоиться.
В середине января, когда пошли на спад крещенские морозы, Фишер вышел за ворота колонии и увидел перед собой блеклый красношахтинский пейзаж. Пустую трассу окаймляли сугробы, присыпанные угольной пылью, вдалеке поблескивали инеем черные каркасы лесополосы, а крохотная точка солнца выглядывала из-за сизых облаков, словно пораженный катарактой глаз. Мороз мелкими иглами колол щеки и забирался под капюшон пуховика. Подоткнув вязаный шарф, Фишер закурил и побрел туда, где находилась станция.
Билеты, как оказалось, подорожали чуть ли не вдвое, а плесневело-зеленые электрички советского образца уступили место новым, еще не успевшим выгореть поездам РЖД, чья серо-красная гамма вызывала у Фишера трупные ассоциации. Коротая дорогу до Павлозаводска, он сидел возле окна, жевал купленные на станции пирожки и разглядывал пассажиров. Женщина в меховой шапке, похожая на учительницу, читала "День опричника". Стайка мальчишек, которые были пострижены, как гитлеровская молодежь тридцатых годов, громко слушала на колонке депрессивный рэп про ледяные гробницы. Девушка с фиолетовым каре терла голой ладонью замерзшее окно и припадала к получившемуся отверстию линзой декоративных очков. Стучали по рельсам колеса, отбивая монотонный, усыпляющий ритм.
Павлозаводск практически не изменился, словно время протекало мимо него. Оказавшись на вокзале, Фишер перешел через трамвайные пути и стал ждать нужный автобус. Когда взгляд женщины, которая сидела на скамейке, превратился из внимательного в опасливый, Фишер поймал себя на том, что расхаживает из стороны в сторону, сложив руки за спиной, и закурил, чтобы чем-то себя занять. Однако сигарету пришлось выбросить – к остановке подъехал оранжевый "пазик".
Автобус громко хрустел коробкой передач и ехал по знакомому маршруту. Из кабинки водителя, украшенной вымпелами футбольных команд и малиновой шторкой с бахромой, доносился незатейливый русский шансон. Прислоняясь виском к окну, Фишер видел школьный стадион, на котором чуть не ударил ножом Гену Блотнера, переулок, где разбил затылок об гаражную дверь Сеня Скорлупкин, и далекую кромку лесного массива.
Лора Генриховна оказалась дома. Встав на цыпочки, она обняла Фишера и погладила его по голове. Фишер пригнулся, чтобы оказаться одного с ней роста. Седые волосы Лоры Генриховны пахли яичным шампунем и духами "Красная Москва".
- Я так понимаю, ты решил сделать мне сюрприз. Однако угощать тебя пока нечем, - деловито сообщила она.
- Да ладно, бабуль. Я в поезде пирожков поел, я не голодный, - успокоил её Фишер и полез в карман за сигаретами.
- Можешь курить в доме, но только на веранде.
- Понял. На веранде, - повторил он. Разговаривать с людьми, не взвешивая мысленно каждое слово, было непривычно.
Уперев руки в бока, Лора Генриховна вздохнула:
- Ты чем думал, когда решил в криминал ввязаться, Енюша? Ты как теперь по специальности работать будешь? В банк тебя с судимостью не возьмут.
Фишер усмехнулся:
- В библиотеку возьмут. У меня стаж есть.
Лора Генриховна взглянула на него с таким укором, что улыбаться Фишеру сразу перехотелось. Чтобы загладить свой промах, он вызвался сходить в магазин за продуктами.
Приспособиться к нормальной жизни оказалось непросто. Поначалу сытная домашняя еда, чистые простыни в горошек и одежда, купленная в торговом центре, казались чем-то временным и неуместным. Общаясь с соседями по линии, Фишер мысленно одергивал себя всякий раз, когда начинал искать в их вопросах подвох, и отвечал развернуто, пытаясь казаться дружелюбным. Выяснилось, что Лора Генриховна сообщила соседям лишь о превышении самообороны, а о сутенерстве благоразумно умолчала. Фишера считали жертвой негуманного правосудия и утешали его фразой "лучше пусть трое судят, чем шестеро несут".
Трудоустроиться самостоятельно Фишеру не удалось из-за сомнительного резюме, однако на помощь вновь пришла Лора Генриховна, и уже в марте Фишер работал водителем катафалка в похоронном агентстве "Ленритуал", а чуть позже снял квартиру возле трамвайных путей и мясного рынка. По выходным он помогал Лоре Генриховне – ходил за продуктами, колол дрова и забивал индюков, а в свободное от работы время знакомился в тиндере с женщинами. Все они оказывались недостаточно жестокими, а некоторые и вовсе тактично сбегали после первой же ночи, находя Фишера пугающим, а его фетиши – травмоопасными.
Лора Генриховна скончалась в восемнадцатом году. Фишер был подавлен, словно ему против воли выдрали плоскогубцами здоровый зуб. На похоронах он изображал молчаливую скорбь, и его равнодушие сочли признаком мужества. Поминки организовывали подруги Лоры Генриховны, которым Фишер выдал необходимую сумму, сославшись на то, что ему очень тяжело морально. Ему поверили и в очередной раз сообщили, что Лора Генриховна отмучилась. Возражать Фишер не стал.
Взяв на работе отпуск, он купил на зоорынке черного котенка и заперся в бабушкином доме, куда снова переехал – на этот раз окончательно. Котенок, названный в честь императора Нерона, неуклюже играл с конфетным фантиком, точил об диван когти и, требовательно попискивая, лез Фишеру на руки, пока тот, укрытый пледом, лежал на диване и смотрел телевизор.
Не было больше ситкома про немецких солдат времен Первой Мировой, не было откровенных репортажей о лесбиянках из женской колонии и питерских каннибалах. Кинохроник Анатолия Сливко тоже больше не было. Фишера не покидало ощущение, будто он, уехав в Петербург, на шесть лет закрыл глаза и не заметил свершившихся перемен. В новостях рассказывали о военных действиях в Украине и Сирии. Лысеющий пропагандист, кокетливо избегая слова "фашизм", утверждал, что Россия идет по третьему пути, который дал миру Бенито Муссолини. Эпатажный актер и бывший священник призывал заживо сжигать гомосексуалистов в печах, а ехидный ведущий, чем-то смахивающий на Геббельса, проникновенно напоминал электорату, что Россия в любой момент может превратить Америку в радиоактивный пепел.
"И эти люди утверждают, что я агрессивный!" – возмущенно думал Фишер, переключая каналы. Впервые за несколько лет он искренне порадовался тому, что имеет судимость – сидевших в армию не призывали.
Прежним осталось лишь "Поле Чудес". Якубович посмеивался в седые усы, читали стихи нарядные дети, приехавшие на передачу с родителями, а блондинка в коротком зеленом платье дефилировала к стенду и открывала правильные буквы. Не дождавшись конца передачи, Фишер задремал и погрузился в тягостный, сумеречный сон. Умирающая Лора Генриховна просила отвести её к животным, и Фишер, сглатывая соленые слезы, вёл её в сторону птичника, где бродили по изрытому чернозему тучные индюки.
Когда воспоминания схлынули, сорокопута в кадре уже не было, а колючая ветка, унизанная крохотными трупиками, даже не покачивалась. Фишер выключил фотоаппарат и надел на объектив крышку. Задерживаться в лесу не было смысла.
Возвращаясь домой по узкой тропе, которая пролегала через шелестящий березняк, Фишер заметил на горизонте незнакомца. Темный силуэт шел ему навстречу, задевая макушкой ветви, и совсем скоро превратился в парня лет двадцати. Светлые, как солома, волосы отливали золотистой рыжиной, на мешковатой футболке улыбался череп с костями, а в худой руке покачивался пакет с бутылками. Фишер отошел с тропы и замер в подрагивающей тени березняка, усыпанной проблесками солнечного света. Парень прошел мимо, совсем не обратив на Фишера внимания, а затем и вовсе пропал из виду, скрывшись за пологом листьев.
Фишер еще долго стоял на месте и пристально глядел туда, где по инерции колыхались березовые ветви. Угольно-карие глаза поблескивали за стеклами очков, словно капли смолы. Крылья крючковатого носа шевелились, втягивая теплый воздух, пропахший полевым цветением.
Фишер с силой прикусил пересохшую губу. Во рту появился железистый привкус. Парень ушел слишком далеко, чтобы его можно было догнать. Убедив себя в этом, Фишер еще раз прикусил губу, слизнул кончиком языка выступившую каплю крови и направился домой. Солнце светило ему в спину, а длинная скошенная тень волочилась по земле, прячась в густых зарослях травы.
Продуктовый магазин "Светлана" закрывался на ночь. Кутаясь в грязные лохмотья, бомж с одутловатым лицом и тощей собакой нехотя покинул крыльцо магазина и растворился в темной синеве панельных дворов. Чуть позже, когда окна домов налились желтоватым светом, на крыльце показалась субтильная продавщица, которая забирала домой просроченное молоко, а по выходным ходила на кладбище за конфетами. Молоком она поила дворовых кошек, а конфеты хранила на кухне, чтобы в доме имелись сладости к чаю.
Рассеянно улыбнувшись самой себе, продавщица перешла дорогу и скрылась в тенистом парке, за которым начиналась неухоженная часть набережной, поросшая камышом. Пронзительно галдели речные чайки, на Павлозаводск ложилась майская ночь, а цветочный киоск, примыкающий к магазину "Светлана", размеренно моргал паутиной красно-зеленых гирлянд. Неля куталась в старую кофту, сидела в продавленном кресле, которое привезла с дачи хозяйка киоска, и временно подменяла Машу – подругу, которая обычно приглашала её в публичные места, а на прошлой неделе заболела кишечным гриппом. Опадали лепестки увядающих роз, жались друг к другу синюшные от пасхального красителя астры, а из дешевой пластиковой вазы, которая стояла в углу, торчала пышная охапка искусственных гвоздик.
Неля согласилась помочь Маше лишь потому, что работала та обычно в ночную смену, с шести вечера до шести утра. Высокой проходимостью точка похвастать не могла, хоть и соседствовала с парком, а по ночам покупателей не было вовсе. Неля, которая два года жила в Петербурге и полтора из них занималась проституцией, не считала это работой. Когда ей было девятнадцать лет, мужчины называли её госпожой Гертрудой, невольно ассоциируя это имя с концлагерями, и щедро платили за демонстрацию превосходства, которая некоторых интересовала даже больше, чем секс.
Посещая двухкомнатную квартиру на Социалистической, где тускло мерцали хрустальные люстры и змеились по обоям геральдические лилии, неотличимые друг от друга мужчины подчинялись то проститутке в кружевном белье, то властной медсестре, то надзирательнице в черной форме СС. Все эти мужчины ценили Нелю за жестокость и в полицию, несмотря на полученные шрамы, не обращались. Неля наслаждалась жизнью, тратила деньги на реквизит и нюхала мефедрон, медленно сбрасывая и без того подростковый вес.
Всё разладилось в мае четырнадцатого года. Здоровье Нели подкосилось: на коже высыпали красноватые бугорки прыщей, зубы начали крошиться, оставляя в еде хрустящие осколки эмали, а месячные пропали, хотя беременна Неля не была. Вывод она сделала однозначный - с мефедроном нужно было завязывать. Желательно, насухую. Оказавшись подальше от легких денег, знакомых барыг и Петербурга в целом.
Жора, - пьющий сутенер, который за определенный процент рекомендовал Нелю пресытившимся мазохистам, - отреагировал на эту новость своеобразно: сначала искренне пожелал успехов, а затем предложил сорвать напоследок солидный куш, поучаствовав в шантаже одного из её клиентов. Этот седеющий мужчина с безвольным подбородком тяготел к нацистской эстетике, представлялся Денисом и вызывал у Нели иррациональное, ничем не объяснимое раздражение, словно был проползшим по хлебу тараканом.
- Просто, как три копейки, - объяснял Жора, вальяжно развалившись в кожаном кресле, - этот пидор не захочет, чтобы запись со скрытой камеры попала в интернет, и передаст мне миллион рублей. А я отдам тебе половину.
- Откуда такие фантастические суммы? – скептически поинтересовалась Неля. Она сидела в другом кресле, курила тонкую сигарету и стряхивала пепел в медный цветок, который стоял на краю журнального столика.
- Поверь мне, он заплатит. Если бы ты знала, какой у него дом, то не задавала бы такие вопросы.
Жора держался уверенно, словно это Неля была у него в гостях, а не наоборот. Несмотря на проблемы с алкоголем и нездоровую тягу к женским культям, он считал себя состоявшимся мужчиной, однако временами явно переоценивал свои возможности.
- С чего ты взял, что он тебе заплатит? Может, он вообще в мусарню пойдет.
- И что он им скажет? Что его выебала баба в фашистской форме?
Неля ткнула окурком в пепельницу, представив на её месте безликий жилистый торс. Как и все сутенеры мужского пола, Жора считал работу своих подопечных плевым делом, а деньги получал, по сути, ни за что. Мысленно порадовавшись, что она не сотрудничает с ним на постоянной основе, Неля щелкнула зажигалкой и вновь закурила.
- Как я понял, ты уходишь из профессии, чтобы не торчать, - перешел Жора на доверительный тон. – Если он тебе в отзыве напишет, что ты клиентов шантажируешь, то вернуться обратно будет нелегко. К тому же, я заплачу тебе пятьсот косарей – просто так.
- Если бы ты сам с этими психами ебался, то у тебя бы через полгода либидо на ноль упало.
- Я что, пидор, что ли? – нахмурился Жора. – И вообще это к делу не относится. Ты пойми: если он пойдет к ментам, то испортит себе карьеру. Он ведь книжки пишет, для детей. Про дружбу и вечные каникулы. Прикинь?
- Очередной забитый гуманитарий, - резюмировала Неля.
О культурной профессии Дениса она слышала впервые, потому что книги не читала – особенно детские, отдавая предпочтение старым фильмам ужасов и криминальным передачам. Вспомнив всех отличников, которых она тыкала лицом в половые тряпки, пока училась в школе, Неля представила, как Денис в панике мечется по квартире, возможно, стараясь не вызвать подозрений у жены, и глухо засмеялась.
- Если он такой лошара, то можно попробовать, - согласилась она и лукаво посмотрела на Жору из-под челки. - Ты только скажи мне вот что… Зачем тебе деньги понадобились? У тебя дела хорошо идут. Вроде бы.
Жора задумался. Медленно выдохнув дым, он поморщился и с неохотой ответил:
- Меня недавно чуть не приняли на контрольной закупке. Пришлось влезть в долги. Теперь надо возвращать, а то проценты набегут.
Денис ожидания Нели оправдал, отреагировав на форс-мажор неподдельным страхом. Он слал ей умоляющие сообщения, старательно давил на жалость и обещал переписать на неё недавно купленный автомобиль, однако неизбежно сорвался на мат, в котором сквозило отчаяние преступника, загнанного в грязный тупик. Скучающе вздохнув, Неля внесла Дениса в черный список. Удовольствие, как это обычно бывало, продлилось недолго. Теперь оставалось лишь дожидаться третьего июня – дня, когда Жора должен был получить выкуп и отдать Неле причитающуюся долю.
Однако Жора, в отличие от Дениса, поступил по-свински. Связаться с ним в назначенный день оказалось невозможно.
Унижаться Неля не стала. Четвертого июня она собрала чемоданы, купила билет до Павлозаводска и решила напоследок побывать в Девяткино, где Жора уже третий год снимал частный дом. Одевшись в черную толстовку, свободные джинсы и мягкие кроссовки, Неля налегке вышла из подъезда и спустилась в метро. Вспыльчивый характер, закаленный на песчаных карьерах и заброшенных стройках, взял свое и натолкнул Нелю на единственно верное, как ей тогда казалось, решение.
Уже в Девяткино Неля запоздало сообразила, что Жора, дома у которого она в последний раз была несколько месяцев назад, за это время вполне мог обзавестись сторожевой собакой. Однако когда Неля миновала извилистый лабиринт улиц, над которым нависали угловатые крыши и усыпанное звездами небо, стало ясно, что собаки у Жоры нет. Пока Неля забиралась на фонарный столб, чтобы перепрыгнуть оттуда на металлический забор из профнастила, покрытый коричневой краской и разводами ржавчины, полумрак во дворе Жоры молчал.
Ухватившись за край забора, Неля неуклюже через него перевалилась и мешком упала в заросли сорняков. Висящий около крыльца фонарь отбрасывал на бетон двора грязно-желтый круг. В прохладном воздухе тяжело перекатывался ветер. Перед темным окном спальни, мешая заглянуть внутрь, покачивал душистыми кистями сиреневый куст. Неля встала, отряхнулась и пощупала карман толстовки - зажигалка для газовой плиты была на месте. Прищурившись, Неля подошла к крыльцу, которое намеревалась поджечь, чтобы Жора испугался или, что устроило бы её гораздо больше, угорел в дыму пожара.
Дом молчал. Из-за приоткрытой входной двери, обитой дерматином, вырывалась тонкая струна света, которая скошенной линией перечеркивала рассохшиеся ступени и таяла в густой тени. Неля медленно поднялась на крыльцо и, стараясь не скрипеть петлями, заглянула в прихожую, где едва могли уместиться два человека.
За тесным коробом прихожей начинался сумрачный коридор. На полу лежала вылинявшая, малиновая с зеленым, ковровая дорожка, из дверного проема, ведущего в зал, лился свет зажженной люстры, а конец коридора терялся в черноте, где мертвенно поблескивал кухонный кафель. Сердце Нели забилось, как пойманный в клетку воробей. Неслышно ступая по ковровой дорожке, она приблизилась к свету и осмотрелась.
В зале воняло перегаром и дымом выкуренных сигарет. Двустворчатая дверь с рифленым стеклом, за которой скрывалась темная спальня, была закрыта. На крашеном подоконнике, возле горшка с алоэ стояла наполовину полная бутылка водки. Вторая бутылка, уже пустая, валялась около дивана, а на диване, укрывшись серым пледом в шотландскую клетку, спал Жора – взлохмаченный, неопрятный, раскинувший крепкие руки. Из спортивных штанов торчали ноги в грязных носках, а на мясистом лице, как гниющее дупло, чернел приоткрытый рот.
Неля маслянисто сверкнула глазами. Крадясь по ковру, чтобы подошвы кроссовок не постукивали об дощатый пол, она стала подбираться к подоконнику. Водки, которая оставалась в бутылке, должно было хватить, чтобы облить угол пледа, которым укрылся Жора, и затем его поджечь. Проходя мимо дивана, Неля запоздало услышала, как у неё под ногой скрипнула доска. Жора разлепил сонные глаза и схватил Нелю за запястье – скорее машинально, чем осознанно.
- Это ты, - утвердительно произнес он. Его взгляд был мутноватым, как подернутая ряской лужа.
- Нет, блядь, уголовный розыск! – прошипела Неля сквозь зубы и дернула рукой. - Отпусти меня уже! Сам дверь не запер, а теперь на меня кидается. Если бы вошел кто-то другой…
- Что ты тут делаешь? Это он тебя подослал?
- Ты совсем больной? – содрогнулась Неля от накатившей ярости. - Никто меня не подсылал, я сама пришла! Где деньги, Лебовски? Где, блядь, моя половина?!
- Лебовски? – мрачно переспросил Жора и уставился перед собой. – Лебовски…
У Нели возникло недоброе предчувствие. Что-то было не так. Жора вел себя слишком странно – даже по меркам пьяных. Она вновь попыталась вырваться, однако Жора еще крепче стиснул её запястье. Посмотрев Неле в глаза, он глухо произнес:
- Так я и думал. Это он тебя подговорил.
- Кто? – опасливо выдавила Неля. Желудок потяжелел, налившись предчувствием тошноты.
- Тот жидок, который меня ментам сдал! – брызнул слюной Жора.
Всё произошло слишком быстро. Упав спиной на ковер, Неля вскрикнула от боли и почувствовала, как сомкнулись вокруг горла душащие пальцы. Придавленная массой живого туловища, Неля дергалась, скребла ногтями по Жориным рукам и хватала ртом воздух, как брошенная в ведро рыба, однако силы были неравны - отощавшая женщина не могла противостоять мускулистому мужчине. За темной головой Жоры расцвел гнойно-желтый ореол люстры, и Неля провалилась в удушливый мрак, пахнущий пылью и сигаретным дымом.
Лишь через несколько минут она неповоротливо сообразила, что этот мрак окутывает её со всех сторон, будто ватный кокон. Пол покачивался и глухо рокотал.
"Багажник…" – безучастно подумала Неля. Она осторожно пошевелила руками, кокон послушно сдвинулся, и Неля уткнулась носом в прокуренную ткань – тот самый плед, который должен был загореться над спящим Жорой. Машина закачалась, словно подхваченная волнами лодка. Неля принялась выпутываться из пледа, однако лишь ударилась правым локтем об крышку багажника, а левым уткнулась в нечто объемное, напоминающее на ощупь мешок с сырыми тряпками.
Качка прекратилась, и мотор умолк. Хлопнула дверца машины, послышались шуршащие шаги. Неля приняла прежнее положение, закрыла глаза и прикусила губу, чтобы случайно не закричать. Она дышала как можно тише, она не могла допустить, чтобы Жора осознал свою ошибку и задушил её окончательно. Крышка багажника со скрипом приподнялась, и Неля, подхваченная мощными руками, рухнула на мягкую поверхность. Ничего не говоря, Жора ухватил её за ногу и куда-то поволок. Неля не шевелилась, сохраняя безвольную пластику свежего трупа.
В ночной тишине раздался торопливый шорох, шумно затрещали ветви. Жора отпустил Нелю. Стиснув зубы, она позволила своей ноге упасть под болезненным углом.
- Куда, бля?! Пизда тебе! – яростно выкрикнул Жора. Его голос, теряющийся в грузном топоте, куда-то удалялся, оставляя после себя лишь утробное эхо.
Неля сжалась, как пружина. Задергав конечностями, она выскочила из пледа и увидела вокруг себя поляну, окутанную зеленоватой тьмой. К звездному небу тянулись черные силуэты деревьев, тлели во мраке габаритные огни автомобиля с распахнутым зевом багажника. Звуки погони затихали, медленно растворяясь в угрюмой чаще.
- Я убью тебя!.. – еле слышно прокричал Жора и что-то добавил, но этих слов было уже не разобрать.
Вскочив на ноги, Неля закуталась в плед, чтобы не выдать себя светлым пятном волос, и побежала в противоположную сторону. Не замечая ветвей, которые били её по лицу, она лавировала между деревьев, с размаху падала на холодную землю, усыпанную сухими сучьями, и вновь поднималась. В ушах гудел кровоток, пронзительно свистел ветер, кричали встревоженные птицы.
Остановилась Неля лишь на обочине безлюдной дороги. Серебрился под лунным свечением асфальт, перекатисто шелестела листва. Поблизости не было никого – в том числе и Жоры. Сипло дыша, Неля привалилась к искривленной осине. Гудящие ноги подкашивались, в шее разбухшим комом пульсировала боль, а под изорванными джинсами кровоточили содранные ноги. Глядя в пустоту, Неля улыбнулась и издала нервный смешок, но услышала лишь хрип, напоминающий лай старой собаки.
В город Неля вернулась на попутке и с удивлением обнаружила, что во время бегства сделала большой крюк – водитель высадил её в Кудрово. Вызвав такси, Неля наконец оказалась дома. Из зеркала на неё уставилось чужое лицо: застывшее в тупом изумлении, неуловимо изменившееся, бледное, как творог. Под глазами залегли синюшные круги, кожа вспухла свежими царапинами, а шею размытым кольцом обхватывали бледно-лиловые кровоподтеки – следы неудавшегося удушения.
Переодевшись, Неля замазала царапины тональным кремом, повязала на шею шелковый платок и уехала на вокзал. Петербургский период её жизни закончился, как растаявший поутру горячечный кошмар.
За те несколько дней, что поезд добирался до Павлозаводска, Неля многое успела обдумать. Стало ясно, что Жора, который все-таки допился до белой горячки, принял её обморок за наступившую смерть, после чего решил избавиться от трупа, попросив о помощи кого-то еще. Виновны были оба. Преступление Жоры заключалось в том, что он не выполнил свою часть договора и попытался от Нели избавиться – пусть даже в нетрезвом состоянии. Преступление неизвестного сообщника тоже было непростительным: он помогал Жоре вывозить труп из города, хоть и сдал назад, когда машина доехала до лесного массива.
Нелю снедало желание отыскать и Жору, и его сообщника, чтобы отомстить им, подобно главной героине фильма "Я плюю на ваши могилы", однако сделать это было проблематично, практически невозможно. Оставалось лишь жить в родном городе, постепенно отвыкать от мефедрона и вести рутинное существование, не омраченное уголовщиной. Неля везде умела находить плюсы – даже в таких потрясениях.
Заново познакомившись с семьей, Неля осела в Павлозаводске, устроилась работать на мясной рынок и со временем переосмыслила произошедшее. Конечно, загадочный сообщник был перед ней виноват, однако искупил свою вину тем, что перетянул внимание Жоры на себя. В какой-то степени он даже спас Нелю, хотя наверняка им двигал страх за собственную жизнь. Сменив гнев на милость, Неля передумала ему мстить. Подобный человек был достоин лишь брезгливой жалости.
Когда на цветочный киоск навалилась полуночная тишина, разрываемая лишь криками чаек, Неля откинулась в кресле и уснула. Голубоватый свет телевизора падал на беленые стены зала, каскады пушистых гирлянд и высокую елку, украшенную зеркальными шарами – бутылочно-зелеными, бирюзово-синими, медово-желтыми... В новогоднем мюзикле, размахивая искусственным подсолнухом, пела Верка Сердючка. За окнами потрескивали бенгальские огни, на кухне тягуче смеялись люди, а в темном проеме спальни стояла молодая комсомолка. Из-под красной косынки выбивались черные кудри, длинный нос напоминал птичий клюв, а за стеклышками пенсне горели желтым бездонные глаза. Неля узнала бабушку Дору, которая родилась в конце девятнадцатого века, в сороковых пропала без вести на оккупированных территориях и уж точно не могла пребывать в ранних нулевых. От неё пахло землей, чердачной пылью и сухими травами.
Бабушка повернула голову, и Неля осознала, что та смотрит прямо на неё. Растянув губы в плотоядной улыбке, бабушка протянула Неле новогоднюю маску лисицы – бугристый слепок из папье-маше, покрытый наслоениями рыжей гуаши. На кухне раздался хрустальный звон. Смеющиеся гости чокались бокалами и готовились перейти в следующий год.
Неля с сожалением вернулась к реальности. За паутиной мигающих гирлянд наливался бледной синевой воздух раннего утра, а по закрытому окошку киоска настойчиво стучала костяшками темноволосая женщина лет сорока. Неуклюже выбравшись из кресла, Неля открыла окошко.
- Вы почему на работе спите? – с мрачным видом осведомилась женщина.
- Задремала, - соврала Неля, любезно улыбнувшись.
Женщина лишь поморщилась. В ней было что-то от возрастных доминатрикс, знакомых Неле по Петербургу: то ли стереотипное каре до плеч, то ли багровые от помады губы, то ли черное платье с кружевным воротником, на котором поблескивала мелкими изумрудами брошь в виде мухи.
- Шесть пластмассовых гвоздик, - холодно распорядилась женщина, - заверните в прозрачную пленку и обвяжите черной лентой. Мне нужно на кладбище.
"Куда же еще", - подумала Неля. Вытащив из вазы гвоздики, она аккуратно их упаковала. Женщина расплатилась, с опаской взяла букет, словно боялась его уронить, и, цокая каблуками, удалилась к обочине, где был припаркован лаково-черный автомобиль, похожий на "жигули". Сев за руль, женщина тронулась с места и поехала в сторону набережной.
Проводив взглядом странный автомобиль, Неля зевнула в ладонь и выключила гирлянды. В Павлозаводске начинался очередной дремотный день, заполненный тополиным пухом, ароматами уличных клумб и предвкушением долгих летних каникул.
Рассеянно улыбнувшись самой себе, продавщица перешла дорогу и скрылась в тенистом парке, за которым начиналась неухоженная часть набережной, поросшая камышом. Пронзительно галдели речные чайки, на Павлозаводск ложилась майская ночь, а цветочный киоск, примыкающий к магазину "Светлана", размеренно моргал паутиной красно-зеленых гирлянд. Неля куталась в старую кофту, сидела в продавленном кресле, которое привезла с дачи хозяйка киоска, и временно подменяла Машу – подругу, которая обычно приглашала её в публичные места, а на прошлой неделе заболела кишечным гриппом. Опадали лепестки увядающих роз, жались друг к другу синюшные от пасхального красителя астры, а из дешевой пластиковой вазы, которая стояла в углу, торчала пышная охапка искусственных гвоздик.
Неля согласилась помочь Маше лишь потому, что работала та обычно в ночную смену, с шести вечера до шести утра. Высокой проходимостью точка похвастать не могла, хоть и соседствовала с парком, а по ночам покупателей не было вовсе. Неля, которая два года жила в Петербурге и полтора из них занималась проституцией, не считала это работой. Когда ей было девятнадцать лет, мужчины называли её госпожой Гертрудой, невольно ассоциируя это имя с концлагерями, и щедро платили за демонстрацию превосходства, которая некоторых интересовала даже больше, чем секс.
Посещая двухкомнатную квартиру на Социалистической, где тускло мерцали хрустальные люстры и змеились по обоям геральдические лилии, неотличимые друг от друга мужчины подчинялись то проститутке в кружевном белье, то властной медсестре, то надзирательнице в черной форме СС. Все эти мужчины ценили Нелю за жестокость и в полицию, несмотря на полученные шрамы, не обращались. Неля наслаждалась жизнью, тратила деньги на реквизит и нюхала мефедрон, медленно сбрасывая и без того подростковый вес.
Всё разладилось в мае четырнадцатого года. Здоровье Нели подкосилось: на коже высыпали красноватые бугорки прыщей, зубы начали крошиться, оставляя в еде хрустящие осколки эмали, а месячные пропали, хотя беременна Неля не была. Вывод она сделала однозначный - с мефедроном нужно было завязывать. Желательно, насухую. Оказавшись подальше от легких денег, знакомых барыг и Петербурга в целом.
Жора, - пьющий сутенер, который за определенный процент рекомендовал Нелю пресытившимся мазохистам, - отреагировал на эту новость своеобразно: сначала искренне пожелал успехов, а затем предложил сорвать напоследок солидный куш, поучаствовав в шантаже одного из её клиентов. Этот седеющий мужчина с безвольным подбородком тяготел к нацистской эстетике, представлялся Денисом и вызывал у Нели иррациональное, ничем не объяснимое раздражение, словно был проползшим по хлебу тараканом.
- Просто, как три копейки, - объяснял Жора, вальяжно развалившись в кожаном кресле, - этот пидор не захочет, чтобы запись со скрытой камеры попала в интернет, и передаст мне миллион рублей. А я отдам тебе половину.
- Откуда такие фантастические суммы? – скептически поинтересовалась Неля. Она сидела в другом кресле, курила тонкую сигарету и стряхивала пепел в медный цветок, который стоял на краю журнального столика.
- Поверь мне, он заплатит. Если бы ты знала, какой у него дом, то не задавала бы такие вопросы.
Жора держался уверенно, словно это Неля была у него в гостях, а не наоборот. Несмотря на проблемы с алкоголем и нездоровую тягу к женским культям, он считал себя состоявшимся мужчиной, однако временами явно переоценивал свои возможности.
- С чего ты взял, что он тебе заплатит? Может, он вообще в мусарню пойдет.
- И что он им скажет? Что его выебала баба в фашистской форме?
Неля ткнула окурком в пепельницу, представив на её месте безликий жилистый торс. Как и все сутенеры мужского пола, Жора считал работу своих подопечных плевым делом, а деньги получал, по сути, ни за что. Мысленно порадовавшись, что она не сотрудничает с ним на постоянной основе, Неля щелкнула зажигалкой и вновь закурила.
- Как я понял, ты уходишь из профессии, чтобы не торчать, - перешел Жора на доверительный тон. – Если он тебе в отзыве напишет, что ты клиентов шантажируешь, то вернуться обратно будет нелегко. К тому же, я заплачу тебе пятьсот косарей – просто так.
- Если бы ты сам с этими психами ебался, то у тебя бы через полгода либидо на ноль упало.
- Я что, пидор, что ли? – нахмурился Жора. – И вообще это к делу не относится. Ты пойми: если он пойдет к ментам, то испортит себе карьеру. Он ведь книжки пишет, для детей. Про дружбу и вечные каникулы. Прикинь?
- Очередной забитый гуманитарий, - резюмировала Неля.
О культурной профессии Дениса она слышала впервые, потому что книги не читала – особенно детские, отдавая предпочтение старым фильмам ужасов и криминальным передачам. Вспомнив всех отличников, которых она тыкала лицом в половые тряпки, пока училась в школе, Неля представила, как Денис в панике мечется по квартире, возможно, стараясь не вызвать подозрений у жены, и глухо засмеялась.
- Если он такой лошара, то можно попробовать, - согласилась она и лукаво посмотрела на Жору из-под челки. - Ты только скажи мне вот что… Зачем тебе деньги понадобились? У тебя дела хорошо идут. Вроде бы.
Жора задумался. Медленно выдохнув дым, он поморщился и с неохотой ответил:
- Меня недавно чуть не приняли на контрольной закупке. Пришлось влезть в долги. Теперь надо возвращать, а то проценты набегут.
Денис ожидания Нели оправдал, отреагировав на форс-мажор неподдельным страхом. Он слал ей умоляющие сообщения, старательно давил на жалость и обещал переписать на неё недавно купленный автомобиль, однако неизбежно сорвался на мат, в котором сквозило отчаяние преступника, загнанного в грязный тупик. Скучающе вздохнув, Неля внесла Дениса в черный список. Удовольствие, как это обычно бывало, продлилось недолго. Теперь оставалось лишь дожидаться третьего июня – дня, когда Жора должен был получить выкуп и отдать Неле причитающуюся долю.
Однако Жора, в отличие от Дениса, поступил по-свински. Связаться с ним в назначенный день оказалось невозможно.
Унижаться Неля не стала. Четвертого июня она собрала чемоданы, купила билет до Павлозаводска и решила напоследок побывать в Девяткино, где Жора уже третий год снимал частный дом. Одевшись в черную толстовку, свободные джинсы и мягкие кроссовки, Неля налегке вышла из подъезда и спустилась в метро. Вспыльчивый характер, закаленный на песчаных карьерах и заброшенных стройках, взял свое и натолкнул Нелю на единственно верное, как ей тогда казалось, решение.
Уже в Девяткино Неля запоздало сообразила, что Жора, дома у которого она в последний раз была несколько месяцев назад, за это время вполне мог обзавестись сторожевой собакой. Однако когда Неля миновала извилистый лабиринт улиц, над которым нависали угловатые крыши и усыпанное звездами небо, стало ясно, что собаки у Жоры нет. Пока Неля забиралась на фонарный столб, чтобы перепрыгнуть оттуда на металлический забор из профнастила, покрытый коричневой краской и разводами ржавчины, полумрак во дворе Жоры молчал.
Ухватившись за край забора, Неля неуклюже через него перевалилась и мешком упала в заросли сорняков. Висящий около крыльца фонарь отбрасывал на бетон двора грязно-желтый круг. В прохладном воздухе тяжело перекатывался ветер. Перед темным окном спальни, мешая заглянуть внутрь, покачивал душистыми кистями сиреневый куст. Неля встала, отряхнулась и пощупала карман толстовки - зажигалка для газовой плиты была на месте. Прищурившись, Неля подошла к крыльцу, которое намеревалась поджечь, чтобы Жора испугался или, что устроило бы её гораздо больше, угорел в дыму пожара.
Дом молчал. Из-за приоткрытой входной двери, обитой дерматином, вырывалась тонкая струна света, которая скошенной линией перечеркивала рассохшиеся ступени и таяла в густой тени. Неля медленно поднялась на крыльцо и, стараясь не скрипеть петлями, заглянула в прихожую, где едва могли уместиться два человека.
За тесным коробом прихожей начинался сумрачный коридор. На полу лежала вылинявшая, малиновая с зеленым, ковровая дорожка, из дверного проема, ведущего в зал, лился свет зажженной люстры, а конец коридора терялся в черноте, где мертвенно поблескивал кухонный кафель. Сердце Нели забилось, как пойманный в клетку воробей. Неслышно ступая по ковровой дорожке, она приблизилась к свету и осмотрелась.
В зале воняло перегаром и дымом выкуренных сигарет. Двустворчатая дверь с рифленым стеклом, за которой скрывалась темная спальня, была закрыта. На крашеном подоконнике, возле горшка с алоэ стояла наполовину полная бутылка водки. Вторая бутылка, уже пустая, валялась около дивана, а на диване, укрывшись серым пледом в шотландскую клетку, спал Жора – взлохмаченный, неопрятный, раскинувший крепкие руки. Из спортивных штанов торчали ноги в грязных носках, а на мясистом лице, как гниющее дупло, чернел приоткрытый рот.
Неля маслянисто сверкнула глазами. Крадясь по ковру, чтобы подошвы кроссовок не постукивали об дощатый пол, она стала подбираться к подоконнику. Водки, которая оставалась в бутылке, должно было хватить, чтобы облить угол пледа, которым укрылся Жора, и затем его поджечь. Проходя мимо дивана, Неля запоздало услышала, как у неё под ногой скрипнула доска. Жора разлепил сонные глаза и схватил Нелю за запястье – скорее машинально, чем осознанно.
- Это ты, - утвердительно произнес он. Его взгляд был мутноватым, как подернутая ряской лужа.
- Нет, блядь, уголовный розыск! – прошипела Неля сквозь зубы и дернула рукой. - Отпусти меня уже! Сам дверь не запер, а теперь на меня кидается. Если бы вошел кто-то другой…
- Что ты тут делаешь? Это он тебя подослал?
- Ты совсем больной? – содрогнулась Неля от накатившей ярости. - Никто меня не подсылал, я сама пришла! Где деньги, Лебовски? Где, блядь, моя половина?!
- Лебовски? – мрачно переспросил Жора и уставился перед собой. – Лебовски…
У Нели возникло недоброе предчувствие. Что-то было не так. Жора вел себя слишком странно – даже по меркам пьяных. Она вновь попыталась вырваться, однако Жора еще крепче стиснул её запястье. Посмотрев Неле в глаза, он глухо произнес:
- Так я и думал. Это он тебя подговорил.
- Кто? – опасливо выдавила Неля. Желудок потяжелел, налившись предчувствием тошноты.
- Тот жидок, который меня ментам сдал! – брызнул слюной Жора.
Всё произошло слишком быстро. Упав спиной на ковер, Неля вскрикнула от боли и почувствовала, как сомкнулись вокруг горла душащие пальцы. Придавленная массой живого туловища, Неля дергалась, скребла ногтями по Жориным рукам и хватала ртом воздух, как брошенная в ведро рыба, однако силы были неравны - отощавшая женщина не могла противостоять мускулистому мужчине. За темной головой Жоры расцвел гнойно-желтый ореол люстры, и Неля провалилась в удушливый мрак, пахнущий пылью и сигаретным дымом.
Лишь через несколько минут она неповоротливо сообразила, что этот мрак окутывает её со всех сторон, будто ватный кокон. Пол покачивался и глухо рокотал.
"Багажник…" – безучастно подумала Неля. Она осторожно пошевелила руками, кокон послушно сдвинулся, и Неля уткнулась носом в прокуренную ткань – тот самый плед, который должен был загореться над спящим Жорой. Машина закачалась, словно подхваченная волнами лодка. Неля принялась выпутываться из пледа, однако лишь ударилась правым локтем об крышку багажника, а левым уткнулась в нечто объемное, напоминающее на ощупь мешок с сырыми тряпками.
Качка прекратилась, и мотор умолк. Хлопнула дверца машины, послышались шуршащие шаги. Неля приняла прежнее положение, закрыла глаза и прикусила губу, чтобы случайно не закричать. Она дышала как можно тише, она не могла допустить, чтобы Жора осознал свою ошибку и задушил её окончательно. Крышка багажника со скрипом приподнялась, и Неля, подхваченная мощными руками, рухнула на мягкую поверхность. Ничего не говоря, Жора ухватил её за ногу и куда-то поволок. Неля не шевелилась, сохраняя безвольную пластику свежего трупа.
В ночной тишине раздался торопливый шорох, шумно затрещали ветви. Жора отпустил Нелю. Стиснув зубы, она позволила своей ноге упасть под болезненным углом.
- Куда, бля?! Пизда тебе! – яростно выкрикнул Жора. Его голос, теряющийся в грузном топоте, куда-то удалялся, оставляя после себя лишь утробное эхо.
Неля сжалась, как пружина. Задергав конечностями, она выскочила из пледа и увидела вокруг себя поляну, окутанную зеленоватой тьмой. К звездному небу тянулись черные силуэты деревьев, тлели во мраке габаритные огни автомобиля с распахнутым зевом багажника. Звуки погони затихали, медленно растворяясь в угрюмой чаще.
- Я убью тебя!.. – еле слышно прокричал Жора и что-то добавил, но этих слов было уже не разобрать.
Вскочив на ноги, Неля закуталась в плед, чтобы не выдать себя светлым пятном волос, и побежала в противоположную сторону. Не замечая ветвей, которые били её по лицу, она лавировала между деревьев, с размаху падала на холодную землю, усыпанную сухими сучьями, и вновь поднималась. В ушах гудел кровоток, пронзительно свистел ветер, кричали встревоженные птицы.
Остановилась Неля лишь на обочине безлюдной дороги. Серебрился под лунным свечением асфальт, перекатисто шелестела листва. Поблизости не было никого – в том числе и Жоры. Сипло дыша, Неля привалилась к искривленной осине. Гудящие ноги подкашивались, в шее разбухшим комом пульсировала боль, а под изорванными джинсами кровоточили содранные ноги. Глядя в пустоту, Неля улыбнулась и издала нервный смешок, но услышала лишь хрип, напоминающий лай старой собаки.
В город Неля вернулась на попутке и с удивлением обнаружила, что во время бегства сделала большой крюк – водитель высадил её в Кудрово. Вызвав такси, Неля наконец оказалась дома. Из зеркала на неё уставилось чужое лицо: застывшее в тупом изумлении, неуловимо изменившееся, бледное, как творог. Под глазами залегли синюшные круги, кожа вспухла свежими царапинами, а шею размытым кольцом обхватывали бледно-лиловые кровоподтеки – следы неудавшегося удушения.
Переодевшись, Неля замазала царапины тональным кремом, повязала на шею шелковый платок и уехала на вокзал. Петербургский период её жизни закончился, как растаявший поутру горячечный кошмар.
За те несколько дней, что поезд добирался до Павлозаводска, Неля многое успела обдумать. Стало ясно, что Жора, который все-таки допился до белой горячки, принял её обморок за наступившую смерть, после чего решил избавиться от трупа, попросив о помощи кого-то еще. Виновны были оба. Преступление Жоры заключалось в том, что он не выполнил свою часть договора и попытался от Нели избавиться – пусть даже в нетрезвом состоянии. Преступление неизвестного сообщника тоже было непростительным: он помогал Жоре вывозить труп из города, хоть и сдал назад, когда машина доехала до лесного массива.
Нелю снедало желание отыскать и Жору, и его сообщника, чтобы отомстить им, подобно главной героине фильма "Я плюю на ваши могилы", однако сделать это было проблематично, практически невозможно. Оставалось лишь жить в родном городе, постепенно отвыкать от мефедрона и вести рутинное существование, не омраченное уголовщиной. Неля везде умела находить плюсы – даже в таких потрясениях.
Заново познакомившись с семьей, Неля осела в Павлозаводске, устроилась работать на мясной рынок и со временем переосмыслила произошедшее. Конечно, загадочный сообщник был перед ней виноват, однако искупил свою вину тем, что перетянул внимание Жоры на себя. В какой-то степени он даже спас Нелю, хотя наверняка им двигал страх за собственную жизнь. Сменив гнев на милость, Неля передумала ему мстить. Подобный человек был достоин лишь брезгливой жалости.
Когда на цветочный киоск навалилась полуночная тишина, разрываемая лишь криками чаек, Неля откинулась в кресле и уснула. Голубоватый свет телевизора падал на беленые стены зала, каскады пушистых гирлянд и высокую елку, украшенную зеркальными шарами – бутылочно-зелеными, бирюзово-синими, медово-желтыми... В новогоднем мюзикле, размахивая искусственным подсолнухом, пела Верка Сердючка. За окнами потрескивали бенгальские огни, на кухне тягуче смеялись люди, а в темном проеме спальни стояла молодая комсомолка. Из-под красной косынки выбивались черные кудри, длинный нос напоминал птичий клюв, а за стеклышками пенсне горели желтым бездонные глаза. Неля узнала бабушку Дору, которая родилась в конце девятнадцатого века, в сороковых пропала без вести на оккупированных территориях и уж точно не могла пребывать в ранних нулевых. От неё пахло землей, чердачной пылью и сухими травами.
Бабушка повернула голову, и Неля осознала, что та смотрит прямо на неё. Растянув губы в плотоядной улыбке, бабушка протянула Неле новогоднюю маску лисицы – бугристый слепок из папье-маше, покрытый наслоениями рыжей гуаши. На кухне раздался хрустальный звон. Смеющиеся гости чокались бокалами и готовились перейти в следующий год.
Неля с сожалением вернулась к реальности. За паутиной мигающих гирлянд наливался бледной синевой воздух раннего утра, а по закрытому окошку киоска настойчиво стучала костяшками темноволосая женщина лет сорока. Неуклюже выбравшись из кресла, Неля открыла окошко.
- Вы почему на работе спите? – с мрачным видом осведомилась женщина.
- Задремала, - соврала Неля, любезно улыбнувшись.
Женщина лишь поморщилась. В ней было что-то от возрастных доминатрикс, знакомых Неле по Петербургу: то ли стереотипное каре до плеч, то ли багровые от помады губы, то ли черное платье с кружевным воротником, на котором поблескивала мелкими изумрудами брошь в виде мухи.
- Шесть пластмассовых гвоздик, - холодно распорядилась женщина, - заверните в прозрачную пленку и обвяжите черной лентой. Мне нужно на кладбище.
"Куда же еще", - подумала Неля. Вытащив из вазы гвоздики, она аккуратно их упаковала. Женщина расплатилась, с опаской взяла букет, словно боялась его уронить, и, цокая каблуками, удалилась к обочине, где был припаркован лаково-черный автомобиль, похожий на "жигули". Сев за руль, женщина тронулась с места и поехала в сторону набережной.
Проводив взглядом странный автомобиль, Неля зевнула в ладонь и выключила гирлянды. В Павлозаводске начинался очередной дремотный день, заполненный тополиным пухом, ароматами уличных клумб и предвкушением долгих летних каникул.
Глава 8
Сюрреалистический акт
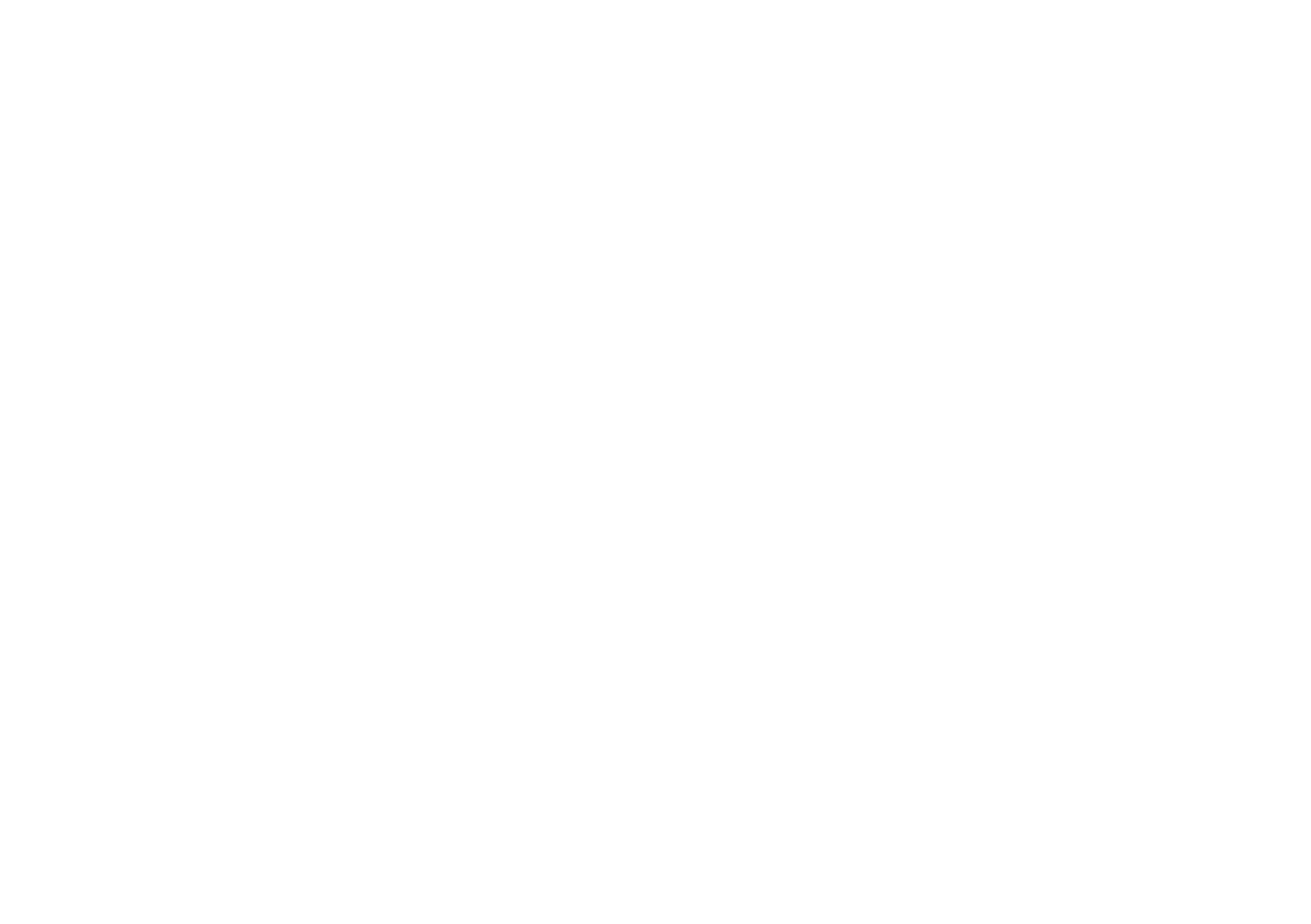
1969 год, 30 января
- Куда переезжаем, герр барон? – в зеркале заднего вида отражались бойкие глаза Гельмута, следящие за темной дорогой. - Возле набережной есть гостиница "Альпенхоф", возле речного вокзала – гостиница "Чайка".
- "Чайка", - апатично отозвался Рудольф с заднего сиденья "мерседеса".
Десятидневная инспекция подошла к концу. Еще утром, когда Рудольф отправлялся в Гитлерштадт, чтобы отвезти в управление СС собранные документы, а затем заглянуть в архив, комендант Менгеле пожелал ему счастливого пути и пригласил на воскресный ужин. Теперь оставалось лишь забрать из концлагеря чемоданы, переехать в гостиницу с хорошим рестораном и дождаться ответа от гитлерштадтского управления. После этого можно было с чистой совестью возвращаться в Берлин – к рутинной работе, кокаиновым кутежам и фертильным немкам из "Лебенсборна".
Паульмунд прощался с Рудольфом. В холодном полумраке городского вечера мелькали желтые искры синиц, качала ветвями рябина, усыпанная алыми гроздьями, а с бледных березовых стволов тяжело смотрели черные, как уголь, глаза. Свет фонарей выхватывал из темноты фрагменты панельных домов. Перед драматическим театром имени Эккарта махал лопатой дворник. По обе стороны дороги то и дело возникали автобусные остановки из профнастила, окруженные мерцающими барханами сугробов.
Объявления на остановках складывались в калейдоскоп провинциальной жизни: кто-то скупал волосы, кто-то искал пропавших сыновей, кто-то продавал финские дубленки. Кровавыми пятнами выделялись листовки, которые приглашали офицеров СС на ядерные полигоны рейхскомиссариата Туркестан, обещая взамен удвоенное жалование и бесплатное жилье. Балансировали на грани официальной пропаганды и дегенеративного искусства афиши, анонсирующие новый для Паульмунда фильм – антисемитский триллер "Стальная ночь". Выглядели афиши безвкусно: над немецкой женщиной, чье лицо было искажено страхом, нависал черный профиль с горбатым носом, а в нижней части кадра блестело кипенно-белым лезвие ножа. Рудольф нехотя признал свое поражение. Стянув с головы фуражку, он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза.
Четыре часа, которые Рудольф провел в архиве управления СС, ничего не дали. Штурмманн Страшко характеризовался положительно, служебных выговоров не получал уже полтора года, а последний, датированный сентябрем шестьдесят седьмого, за рамки лагерных приличий не выходил. В тот день Анатолий Страшко, - трезвенник, любитель турпоходов и отец двух мальчиков, - почему-то оказался пьяным и жестоко избил заключенного-мишлинга. Страшко лишили премии, а мишлинга, который получил одиннадцать переломов, перевели в спецкорпус горбольницы Паульмунда, где он и провел остаток срока, после чего исчез из поля зрения местных властей.
Тому, что звали этого мишлинга Октав Леопольд Гаже, Рудольф практически не удивился. Гораздо сильнее его удивило то, что Страшко все-таки наказали за неуставное насилие, хотя этому наверняка поспособствовал инспектор ВФХА – гауптштурмфюрер Юнеман, который тогда инспектировал лагерь и оказался невольным свидетелем инцидента.
Рудольф с горечью осознавал, что больше Страшко так не ошибется. Тот чуть ли не бравировал перед сослуживцами своим садизмом, и лишь Рубинштейн знал, что скрывается под ним нездоровая тяга к мертвечине, однако в качестве свидетеля Рубинштейн был бесполезен. Попав на допрос, он явно начал бы доказывать, что позирует для Страшко добровольно, всего лишь изображая потерю сознания, а сигареты тушит об себя сам, потому что нездоров психически – как и полагалось еврею. Тяжело вздохнув, Рудольф открыл глаза. За окном искрилась снежная пустошь, а над ней черной ракушкой нависало небо, усыпанное мерцающим порохом звезд.
Когда "мерседес" заехал на территорию концлагеря, Гельмут припарковался у крыльца общежития и отправился за вещами. Рудольф последовал его примеру, однако уже в коридоре понял – что-то было не так. На дверной ручке его комнаты висела табличка с надписью "не беспокоить". Медленно открыв дверь, Рудольф без единого звука проскользнул внутрь. То, что он увидел, заставило его удивленно вскинуть брови.
Стоял возле кровати собранный чемодан, вполсилы горела люстра, отбрасывая на светло-коричневые стены зыбкие потеки света. Работал телевизор, на выпуклом экране которого близилась к завершению жизнь гитлерюнге Квекса. В самом центре опустевшего стола белел тетрадный лист в косую линейку, которого утром здесь не было. Он лежал так, чтобы точно броситься вошедшему в глаза.
Запершись на ключ, Рудольф подошел к столу и перевернул лист. На обратной стороне обнаружилась тревожная записка.
"У меня есть что сообщить. Сегодня я буду в библиотеке до десяти часов вечера. Приходите сегодня. Завтра может быть поздно. Р.", - сообщал по-немецки чей-то размашистый почерк.
Ледянисто-голубые глаза Рудольфа заблестели, как шарики ртути. Издав довольный смешок, он сунул записку во внутренний карман шинели.
"Это точно. Завтра может быть поздно", - усмехнулся Рудольф собственному отражению в оконном стекле. С фуражки скалила зубы мертвая голова, а лакированный козырек отбрасывал на лицо густую тень, лишая Рудольфа человеческих черт и придавая ему сходство с гофмановским доппельгангером.
Выключив телевизор, Рудольф погасил свет и с чемоданом в руке покинул комнату. Внимательный взгляд вахтера-эсэсовца он проигнорировал, а Гельмуту приказал погрузить чемодан в багажник. Тот, как и всегда, лишь молча кивнул и выполнил приказ, а Рудольф, миновав КПП с равнодушным фельдфебелем, прошел в мужской сектор.
Лагерная жизнь затухала. Стройным рядом тянулись вдаль жилые бараки из рыжего кирпича, яркие лучи прожекторов сонно переваливались через бетонный забор, увитый колючей проволокой, а на аппельплацу убирали снег заключенные с лопатами, подталкиваемые хриплым ветром. Чуть в стороне, неподалеку от крематория и административного сектора возвышался бетонный короб культурхауза. Под его плоской крышей тлели ледянистой желтизной окна коридора, в котором располагались музыкальная секция, театральная секция и библиотека.
Прокравшись сквозь сумрачное фойе, украшенное репродукциями, на которых возвращались домой солдаты, собирали урожай крестьяне и отдыхали альпийские стрелки, Рудольф поднялся на второй этаж и, сам не понимая почему, нерешительно замер. В длинном сером коридоре, тускло освещенном парой люминесцентных ламп, стояла сонная, неживая тишина. Дверь, которая вела в театральную секцию, была заперта. Из кабинета музыкальной секции не доносилось ни звука. В конце коридора, вырываясь из-за приоткрытой двери библиотеки, ложилась на мозаичный пол бледная полоса света.
Стряхнув с себя тягостное оцепенение, Рудольф двинулся вперед и шагнул в читальный зал. Рубинштейн был там. Имитируя бурную деятельность, он сосредоточенно возил шваброй по светлому линолеуму, который и без того блестел. От тряпки пахло хлоркой, в оцинкованном ведре жались друг к другу мыльные пузыри. Сквозь запахи стерильности пробивался ледянисто-свежий, бьющий по ноздрям, словно кокаин, аромат одеколона "Альпы".
- Я пришел. Что случилось? – командным тоном спросил Рудольф, прикрыв за собой дверь.
Рубинштейн вздрогнул. Резко повернув голову, он придушенно вскрикнул, однако тут же узнал Рудольфа, и его обветренные губы растянулись в заискивающей улыбке. Он сдернул мютцен, и на бледный лоб ссыпалась жирная прядь русых волос.
- Как вы тихо ходите. Прямо как герр штурмманн, - сообщил Рубинштейн, глядя на Рудольфа снизу вверх. Его серые миндалевидные глаза лихорадочно блестели.
Рудольф поморщился. Поведение Рубинштейна ничем не отличалось от жалкого и гаденького образца, который тщательно воспроизводился в антисемитских фильмах. Сам того не зная, Рубинштейн сейчас на практике доказывал их правоту.
- Извините… - смутился Рубинштейн, не услышав ответной реплики.
Выпрямившись, он прислонил швабру к стене и нервным движением убрал со лба прядь волос. Закусив губу, он бездумно уставился на сапоги Рудольфа, припорошенные снегом.
Выглядел Рубинштейн неважно. Подрагивали пальцы, темнел на скуле голубовато-серый синяк, моргал не в такт левый глаз. Рудольфу даже показалось, что Рубинштейн, которого он пять дней назад посчитал щуплым, за это время отощал еще сильнее: лицевые кости заострились, а полосатая роба повисла мешком. Теперь черный пиджак с нарукавной повязкой придавал Рубинштейну сходство с подростком из предвоенного гетто, который донашивает одежду за умершими родственниками.
- Кто оставил записку у меня на столе? – без обиняков спросил Рудольф.
- Таня. Таня Нобель, она носит вам простыни и завтрак, - пробормотал Рубинштейн. Волнение плохо сказывалось на его немецком вокабуляре. – Подождите минуту, пожалуйста. Я всё спрятал, я сейчас принесу.
Неуклюже развернувшись на месте, Рубинштейн скрылся в книгохранилище. Прислушиваясь к затихающему шороху его валенок, Рудольф медленно прошел в центр читального зала. За окном возвышалась кирпичная труба крематория. Колыхался под напором сквозняка узорчатый тюль. С застекленного портрета, висящего на стене, пристально глядел темноглазый Геббельс. Что-то было не так, однако Рудольф не мог понять, что именно. Неуловимый диссонанс ускользал от его внимания, словно зыбкая лесная тень.
Вернувшись в читальный зал, Рубинштейн с опаской посмотрел на Рудольфа и протянул ему неподписанный почтовый конверт с изображением снегиря. Конверт был грязным, мятым и весьма засаленным, будто его долго носили в кармане.
- Пожалуйста, герр гауптштурмфюрер. Вот оно, - тихо произнес Рубинштейн.
- Что - оно? – насторожился Рудольф. Он был в перчатках, но лишний раз прикасаться к конверту не хотел.
Рубинштейн искривил рот в судорожной улыбке:
- Сами посмотрите. Это… Я даже слов не могу подобрать.
Осторожно взяв конверт, Рудольф приоткрыл его и заметил погнутую кромку цветной фотографии. Не желая выглядеть перед Рубинштейном трусом, он решительно вытащил фотографию, кинул на неё оценивающий взгляд и замер, словно кто-то коснулся его горла холодными пальцами.
Лишь через несколько секунд Рудольф осознал, что видит не манекен, одетый в униформу гитлерюгенда, а настоящего ребенка – мальчика лет двенадцати, который стоял на фоне зеленой стены, выкрашенной масляной краской. На пшеничных волосах виднелись бурые мазки, оставленные чьей-то окровавленной рукой, балтийское лицо пестрело свекольно-черными синяками, а из заплаканных глаз выплескивался немой ужас. Черные форменные брюки, коричневая рубашка и черный галстук с кожаным узлом были испачканы кровью. Определить, где именно находился мальчик, не представлялось возможным – такие стены имелись чуть ли не в каждом государственном учреждении.
- Ты где это взял?.. – севшим голосом спросил Рудольф, глядя на избитое лицо гитлерюнге, труп которого пять дней назад нашли возле пожарной части.
- Недавно приходил герр штурмманн… Он душил меня, а потом я нашел конверт на полу. Он его выронил. Наверное, носил с собой… - промямлил Рубинштейн по ту сторону глухой пелены.
- Недавно? – переспросил Рудольф, удерживая фотографию дрожащими пальцами.
- Примерно час назад, герр гауптштурмфюрер. Я потому и написал, что это очень срочно. Если бы он вернулся…
Рудольф исподлобья глянул на побледневшего Рубинштейна. Тот сморгнул навернувшиеся слезы и попытался изобразить вежливую улыбку, однако вместо этого тихо засмеялся – механически и прерывисто, как сумасшедший. Рудольф нахмурил брови. Спрятав конверт с фотографией во внутренний карман шинели, он схватил Рубинштейна за лацканы пиджака.
- Ты над чем смеешься, унтерменш? Может, мне тоже расскажешь? – грубо встряхнул его Рудольф, подтащив к себе. – А то я стою тут, как дурак, и ничего не понимаю. Так не пойдет.
- До меня только сейчас дошло, что герр штурмманн точно не делал со мной… ничего противозаконного, - сбивчиво произнес Рубинштейн. – Я для него… слишком старый.
Побагровев, Рудольф оттолкнул его. С шумом повалившись на влажный пол, Рубинштейн ударился затылком об ножку стола и простонал от внезапной боли, как уличная собака. Рудольф промолчал, готовясь к тому, что Рубинштейн сейчас попытается встать и упадет обратно, однако тот оперся на локти и довольно ловко поднялся.
Непринужденно отряхнув пиджак, он потер ладонью ушибленный затылок и робко произнес:
- Простите, герр гауптштурмфюрер. Я всегда шучу, когда мне страшно.
- Шуточки у тебя дегенератские.
- Зато я детей не обижаю, герр гауптштурмфюрер.
Рудольф сложил руки на груди. Сосчитав до десяти, он передумал бить Рубинштейна по лицу и задумался о том, что было действительно важно. Фотография связанного гитлерюнге могла запустить расследование хотя бы одного убийства, совершенного Анатолием Страшко – старшим надзирателем, членом СС и сыном офицера из дивизии "Галичина". Увидев доказательство собственными глазами, Рудольф окончательно убедился в том, что именно штурмманн Страшко убивал гитлерюнге, трупы которых находили на окраинах Паульмунда, а в перерывах между убийствами истязал бесправных мишлингов, которые уж точно не могли на него пожаловаться. И если до мишлингов, которые попали в лагерь заслуженно, Рудольфу совсем не было дела, то смерть мальчишек, из которых уже не могли вырасти образцовые граждане Рейха, возмущала его гораздо сильнее.
"Значит, он и Октава душил, - запоздало осознал Рудольф, - а два года назад тут тоже дети пропадали…"
- Сегодня я читал "Паульмундер адлер", - глухо произнес Рубинштейн. – Вы знаете, что вчера нашли труп мальчика? Тело без головы и ног, на промзоне возле химзавода. Тоже из гитлерюгенда. Слышал, что крови почти не осталось. А ведь местные говорили, что это ритуальные убийства, что это евреи…
- Хватит злорадствовать. Лучше сделай так, чтобы Страшко искал конверт где-нибудь в другом месте, - перебил его Рудольф. - Надеюсь, ты справишься. Это уж точно в твоих интересах.
- Я постараюсь, герр гауптштурмфюрер. Я умею лгать, - поднял Рубинштейн виноватые глаза и угодливо улыбнулся.
"Еще бы ты не умел", - подумал Рудольф, глядя на его семитское лицо.
Полагаться на Рубинштейна было рискованно, однако других вариантов не оставалось. Рудольф не желал уезжать, махнув рукой на убийства немецких детей. В конце концов, он ведь присягал на верность великому фюреру – пусть даже мертвому. Подведя Страшко под расстрел, Рудольф мог заслужить любовь отца и стать таким же, как дядюшка Альберт, который побывал во всех уголках восточных территорий, который не страдал от ночных кошмаров и не превратился в алкоголика, который расстреливал врагов, стоя на краю рва, чтобы брызги крови не попадали на сапоги. После акций дядюшку Альберта не рвало. Равняться на него определенно стоило.
- Герр староста сказал, что инспекция закончилась, и вы уезжаете из лагеря завтра…
- Сейчас. Я уезжаю сейчас. Постарайся не облажаться, пока я буду общаться с органами.
- Конечно, герр гауптштурмфюрер. Я постараюсь изо всех сил. Хорошей вам дороги, - сбивчиво произнес Рубинштейн.
Отвечать ему вежливостью было не обязательно. Рудольф вышел из библиотеки в пустой коридор и, сохраняя спокойный вид, спустился на первый этаж. В сгустившейся тьме фойе бледнели лица солдат, крестьян и альпийских стрелков.
"Приехать в Паульмунд, позвонить папе, рассказать ему про мальчиков… - лихорадочно планировал Рудольф. – Если подключить папу, то местные точно не отвертятся от того, что у них в гау уже несколько лет орудует маньяк".
Выскочив на крыльцо культурхауза, Рудольф устремился к административному сектору. Хрустел под сапогами лед, хлопали полы шинели, колко мерцали во мраке звезды. Рудольф вдруг осознал, что чувствует спиной чей-то внимательный взгляд. Остановившись, он развернулся и посмотрел на культурхауз. В ледянисто-желтом окне коридора чернел неподвижный силуэт Рубинштейна. Рудольфу невольно вспомнились многочисленные афиши "Стальной ночи", перемежающиеся объявлениями о пропавших мальчиках, и ему стало не по себе. Привычный мир, подчиняющийся установленному распорядку, медленно и неумолимо соскальзывал в холодную бытийную тьму.
"Какого черта я вообще отвлекаюсь на этого жида? С ним уже всё кончено. Надо спешить", - успокоил себя Рудольф.
Резко развернувшись, он продолжил свой путь. Время уходило, конверт с фотографией лежал в кармане шинели тягостным грузом. Снежинки кружились в воздухе, как привлеченные смрадом мухи. Всё оставалось позади: и безлюдный культурхауз, и раболепный убийца Рубинштейн, и неспешная жизнь, которую Рудольф вел уже тридцать лет.
- Куда переезжаем, герр барон? – в зеркале заднего вида отражались бойкие глаза Гельмута, следящие за темной дорогой. - Возле набережной есть гостиница "Альпенхоф", возле речного вокзала – гостиница "Чайка".
- "Чайка", - апатично отозвался Рудольф с заднего сиденья "мерседеса".
Десятидневная инспекция подошла к концу. Еще утром, когда Рудольф отправлялся в Гитлерштадт, чтобы отвезти в управление СС собранные документы, а затем заглянуть в архив, комендант Менгеле пожелал ему счастливого пути и пригласил на воскресный ужин. Теперь оставалось лишь забрать из концлагеря чемоданы, переехать в гостиницу с хорошим рестораном и дождаться ответа от гитлерштадтского управления. После этого можно было с чистой совестью возвращаться в Берлин – к рутинной работе, кокаиновым кутежам и фертильным немкам из "Лебенсборна".
Паульмунд прощался с Рудольфом. В холодном полумраке городского вечера мелькали желтые искры синиц, качала ветвями рябина, усыпанная алыми гроздьями, а с бледных березовых стволов тяжело смотрели черные, как уголь, глаза. Свет фонарей выхватывал из темноты фрагменты панельных домов. Перед драматическим театром имени Эккарта махал лопатой дворник. По обе стороны дороги то и дело возникали автобусные остановки из профнастила, окруженные мерцающими барханами сугробов.
Объявления на остановках складывались в калейдоскоп провинциальной жизни: кто-то скупал волосы, кто-то искал пропавших сыновей, кто-то продавал финские дубленки. Кровавыми пятнами выделялись листовки, которые приглашали офицеров СС на ядерные полигоны рейхскомиссариата Туркестан, обещая взамен удвоенное жалование и бесплатное жилье. Балансировали на грани официальной пропаганды и дегенеративного искусства афиши, анонсирующие новый для Паульмунда фильм – антисемитский триллер "Стальная ночь". Выглядели афиши безвкусно: над немецкой женщиной, чье лицо было искажено страхом, нависал черный профиль с горбатым носом, а в нижней части кадра блестело кипенно-белым лезвие ножа. Рудольф нехотя признал свое поражение. Стянув с головы фуражку, он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза.
Четыре часа, которые Рудольф провел в архиве управления СС, ничего не дали. Штурмманн Страшко характеризовался положительно, служебных выговоров не получал уже полтора года, а последний, датированный сентябрем шестьдесят седьмого, за рамки лагерных приличий не выходил. В тот день Анатолий Страшко, - трезвенник, любитель турпоходов и отец двух мальчиков, - почему-то оказался пьяным и жестоко избил заключенного-мишлинга. Страшко лишили премии, а мишлинга, который получил одиннадцать переломов, перевели в спецкорпус горбольницы Паульмунда, где он и провел остаток срока, после чего исчез из поля зрения местных властей.
Тому, что звали этого мишлинга Октав Леопольд Гаже, Рудольф практически не удивился. Гораздо сильнее его удивило то, что Страшко все-таки наказали за неуставное насилие, хотя этому наверняка поспособствовал инспектор ВФХА – гауптштурмфюрер Юнеман, который тогда инспектировал лагерь и оказался невольным свидетелем инцидента.
Рудольф с горечью осознавал, что больше Страшко так не ошибется. Тот чуть ли не бравировал перед сослуживцами своим садизмом, и лишь Рубинштейн знал, что скрывается под ним нездоровая тяга к мертвечине, однако в качестве свидетеля Рубинштейн был бесполезен. Попав на допрос, он явно начал бы доказывать, что позирует для Страшко добровольно, всего лишь изображая потерю сознания, а сигареты тушит об себя сам, потому что нездоров психически – как и полагалось еврею. Тяжело вздохнув, Рудольф открыл глаза. За окном искрилась снежная пустошь, а над ней черной ракушкой нависало небо, усыпанное мерцающим порохом звезд.
Когда "мерседес" заехал на территорию концлагеря, Гельмут припарковался у крыльца общежития и отправился за вещами. Рудольф последовал его примеру, однако уже в коридоре понял – что-то было не так. На дверной ручке его комнаты висела табличка с надписью "не беспокоить". Медленно открыв дверь, Рудольф без единого звука проскользнул внутрь. То, что он увидел, заставило его удивленно вскинуть брови.
Стоял возле кровати собранный чемодан, вполсилы горела люстра, отбрасывая на светло-коричневые стены зыбкие потеки света. Работал телевизор, на выпуклом экране которого близилась к завершению жизнь гитлерюнге Квекса. В самом центре опустевшего стола белел тетрадный лист в косую линейку, которого утром здесь не было. Он лежал так, чтобы точно броситься вошедшему в глаза.
Запершись на ключ, Рудольф подошел к столу и перевернул лист. На обратной стороне обнаружилась тревожная записка.
"У меня есть что сообщить. Сегодня я буду в библиотеке до десяти часов вечера. Приходите сегодня. Завтра может быть поздно. Р.", - сообщал по-немецки чей-то размашистый почерк.
Ледянисто-голубые глаза Рудольфа заблестели, как шарики ртути. Издав довольный смешок, он сунул записку во внутренний карман шинели.
"Это точно. Завтра может быть поздно", - усмехнулся Рудольф собственному отражению в оконном стекле. С фуражки скалила зубы мертвая голова, а лакированный козырек отбрасывал на лицо густую тень, лишая Рудольфа человеческих черт и придавая ему сходство с гофмановским доппельгангером.
Выключив телевизор, Рудольф погасил свет и с чемоданом в руке покинул комнату. Внимательный взгляд вахтера-эсэсовца он проигнорировал, а Гельмуту приказал погрузить чемодан в багажник. Тот, как и всегда, лишь молча кивнул и выполнил приказ, а Рудольф, миновав КПП с равнодушным фельдфебелем, прошел в мужской сектор.
Лагерная жизнь затухала. Стройным рядом тянулись вдаль жилые бараки из рыжего кирпича, яркие лучи прожекторов сонно переваливались через бетонный забор, увитый колючей проволокой, а на аппельплацу убирали снег заключенные с лопатами, подталкиваемые хриплым ветром. Чуть в стороне, неподалеку от крематория и административного сектора возвышался бетонный короб культурхауза. Под его плоской крышей тлели ледянистой желтизной окна коридора, в котором располагались музыкальная секция, театральная секция и библиотека.
Прокравшись сквозь сумрачное фойе, украшенное репродукциями, на которых возвращались домой солдаты, собирали урожай крестьяне и отдыхали альпийские стрелки, Рудольф поднялся на второй этаж и, сам не понимая почему, нерешительно замер. В длинном сером коридоре, тускло освещенном парой люминесцентных ламп, стояла сонная, неживая тишина. Дверь, которая вела в театральную секцию, была заперта. Из кабинета музыкальной секции не доносилось ни звука. В конце коридора, вырываясь из-за приоткрытой двери библиотеки, ложилась на мозаичный пол бледная полоса света.
Стряхнув с себя тягостное оцепенение, Рудольф двинулся вперед и шагнул в читальный зал. Рубинштейн был там. Имитируя бурную деятельность, он сосредоточенно возил шваброй по светлому линолеуму, который и без того блестел. От тряпки пахло хлоркой, в оцинкованном ведре жались друг к другу мыльные пузыри. Сквозь запахи стерильности пробивался ледянисто-свежий, бьющий по ноздрям, словно кокаин, аромат одеколона "Альпы".
- Я пришел. Что случилось? – командным тоном спросил Рудольф, прикрыв за собой дверь.
Рубинштейн вздрогнул. Резко повернув голову, он придушенно вскрикнул, однако тут же узнал Рудольфа, и его обветренные губы растянулись в заискивающей улыбке. Он сдернул мютцен, и на бледный лоб ссыпалась жирная прядь русых волос.
- Как вы тихо ходите. Прямо как герр штурмманн, - сообщил Рубинштейн, глядя на Рудольфа снизу вверх. Его серые миндалевидные глаза лихорадочно блестели.
Рудольф поморщился. Поведение Рубинштейна ничем не отличалось от жалкого и гаденького образца, который тщательно воспроизводился в антисемитских фильмах. Сам того не зная, Рубинштейн сейчас на практике доказывал их правоту.
- Извините… - смутился Рубинштейн, не услышав ответной реплики.
Выпрямившись, он прислонил швабру к стене и нервным движением убрал со лба прядь волос. Закусив губу, он бездумно уставился на сапоги Рудольфа, припорошенные снегом.
Выглядел Рубинштейн неважно. Подрагивали пальцы, темнел на скуле голубовато-серый синяк, моргал не в такт левый глаз. Рудольфу даже показалось, что Рубинштейн, которого он пять дней назад посчитал щуплым, за это время отощал еще сильнее: лицевые кости заострились, а полосатая роба повисла мешком. Теперь черный пиджак с нарукавной повязкой придавал Рубинштейну сходство с подростком из предвоенного гетто, который донашивает одежду за умершими родственниками.
- Кто оставил записку у меня на столе? – без обиняков спросил Рудольф.
- Таня. Таня Нобель, она носит вам простыни и завтрак, - пробормотал Рубинштейн. Волнение плохо сказывалось на его немецком вокабуляре. – Подождите минуту, пожалуйста. Я всё спрятал, я сейчас принесу.
Неуклюже развернувшись на месте, Рубинштейн скрылся в книгохранилище. Прислушиваясь к затихающему шороху его валенок, Рудольф медленно прошел в центр читального зала. За окном возвышалась кирпичная труба крематория. Колыхался под напором сквозняка узорчатый тюль. С застекленного портрета, висящего на стене, пристально глядел темноглазый Геббельс. Что-то было не так, однако Рудольф не мог понять, что именно. Неуловимый диссонанс ускользал от его внимания, словно зыбкая лесная тень.
Вернувшись в читальный зал, Рубинштейн с опаской посмотрел на Рудольфа и протянул ему неподписанный почтовый конверт с изображением снегиря. Конверт был грязным, мятым и весьма засаленным, будто его долго носили в кармане.
- Пожалуйста, герр гауптштурмфюрер. Вот оно, - тихо произнес Рубинштейн.
- Что - оно? – насторожился Рудольф. Он был в перчатках, но лишний раз прикасаться к конверту не хотел.
Рубинштейн искривил рот в судорожной улыбке:
- Сами посмотрите. Это… Я даже слов не могу подобрать.
Осторожно взяв конверт, Рудольф приоткрыл его и заметил погнутую кромку цветной фотографии. Не желая выглядеть перед Рубинштейном трусом, он решительно вытащил фотографию, кинул на неё оценивающий взгляд и замер, словно кто-то коснулся его горла холодными пальцами.
Лишь через несколько секунд Рудольф осознал, что видит не манекен, одетый в униформу гитлерюгенда, а настоящего ребенка – мальчика лет двенадцати, который стоял на фоне зеленой стены, выкрашенной масляной краской. На пшеничных волосах виднелись бурые мазки, оставленные чьей-то окровавленной рукой, балтийское лицо пестрело свекольно-черными синяками, а из заплаканных глаз выплескивался немой ужас. Черные форменные брюки, коричневая рубашка и черный галстук с кожаным узлом были испачканы кровью. Определить, где именно находился мальчик, не представлялось возможным – такие стены имелись чуть ли не в каждом государственном учреждении.
- Ты где это взял?.. – севшим голосом спросил Рудольф, глядя на избитое лицо гитлерюнге, труп которого пять дней назад нашли возле пожарной части.
- Недавно приходил герр штурмманн… Он душил меня, а потом я нашел конверт на полу. Он его выронил. Наверное, носил с собой… - промямлил Рубинштейн по ту сторону глухой пелены.
- Недавно? – переспросил Рудольф, удерживая фотографию дрожащими пальцами.
- Примерно час назад, герр гауптштурмфюрер. Я потому и написал, что это очень срочно. Если бы он вернулся…
Рудольф исподлобья глянул на побледневшего Рубинштейна. Тот сморгнул навернувшиеся слезы и попытался изобразить вежливую улыбку, однако вместо этого тихо засмеялся – механически и прерывисто, как сумасшедший. Рудольф нахмурил брови. Спрятав конверт с фотографией во внутренний карман шинели, он схватил Рубинштейна за лацканы пиджака.
- Ты над чем смеешься, унтерменш? Может, мне тоже расскажешь? – грубо встряхнул его Рудольф, подтащив к себе. – А то я стою тут, как дурак, и ничего не понимаю. Так не пойдет.
- До меня только сейчас дошло, что герр штурмманн точно не делал со мной… ничего противозаконного, - сбивчиво произнес Рубинштейн. – Я для него… слишком старый.
Побагровев, Рудольф оттолкнул его. С шумом повалившись на влажный пол, Рубинштейн ударился затылком об ножку стола и простонал от внезапной боли, как уличная собака. Рудольф промолчал, готовясь к тому, что Рубинштейн сейчас попытается встать и упадет обратно, однако тот оперся на локти и довольно ловко поднялся.
Непринужденно отряхнув пиджак, он потер ладонью ушибленный затылок и робко произнес:
- Простите, герр гауптштурмфюрер. Я всегда шучу, когда мне страшно.
- Шуточки у тебя дегенератские.
- Зато я детей не обижаю, герр гауптштурмфюрер.
Рудольф сложил руки на груди. Сосчитав до десяти, он передумал бить Рубинштейна по лицу и задумался о том, что было действительно важно. Фотография связанного гитлерюнге могла запустить расследование хотя бы одного убийства, совершенного Анатолием Страшко – старшим надзирателем, членом СС и сыном офицера из дивизии "Галичина". Увидев доказательство собственными глазами, Рудольф окончательно убедился в том, что именно штурмманн Страшко убивал гитлерюнге, трупы которых находили на окраинах Паульмунда, а в перерывах между убийствами истязал бесправных мишлингов, которые уж точно не могли на него пожаловаться. И если до мишлингов, которые попали в лагерь заслуженно, Рудольфу совсем не было дела, то смерть мальчишек, из которых уже не могли вырасти образцовые граждане Рейха, возмущала его гораздо сильнее.
"Значит, он и Октава душил, - запоздало осознал Рудольф, - а два года назад тут тоже дети пропадали…"
- Сегодня я читал "Паульмундер адлер", - глухо произнес Рубинштейн. – Вы знаете, что вчера нашли труп мальчика? Тело без головы и ног, на промзоне возле химзавода. Тоже из гитлерюгенда. Слышал, что крови почти не осталось. А ведь местные говорили, что это ритуальные убийства, что это евреи…
- Хватит злорадствовать. Лучше сделай так, чтобы Страшко искал конверт где-нибудь в другом месте, - перебил его Рудольф. - Надеюсь, ты справишься. Это уж точно в твоих интересах.
- Я постараюсь, герр гауптштурмфюрер. Я умею лгать, - поднял Рубинштейн виноватые глаза и угодливо улыбнулся.
"Еще бы ты не умел", - подумал Рудольф, глядя на его семитское лицо.
Полагаться на Рубинштейна было рискованно, однако других вариантов не оставалось. Рудольф не желал уезжать, махнув рукой на убийства немецких детей. В конце концов, он ведь присягал на верность великому фюреру – пусть даже мертвому. Подведя Страшко под расстрел, Рудольф мог заслужить любовь отца и стать таким же, как дядюшка Альберт, который побывал во всех уголках восточных территорий, который не страдал от ночных кошмаров и не превратился в алкоголика, который расстреливал врагов, стоя на краю рва, чтобы брызги крови не попадали на сапоги. После акций дядюшку Альберта не рвало. Равняться на него определенно стоило.
- Герр староста сказал, что инспекция закончилась, и вы уезжаете из лагеря завтра…
- Сейчас. Я уезжаю сейчас. Постарайся не облажаться, пока я буду общаться с органами.
- Конечно, герр гауптштурмфюрер. Я постараюсь изо всех сил. Хорошей вам дороги, - сбивчиво произнес Рубинштейн.
Отвечать ему вежливостью было не обязательно. Рудольф вышел из библиотеки в пустой коридор и, сохраняя спокойный вид, спустился на первый этаж. В сгустившейся тьме фойе бледнели лица солдат, крестьян и альпийских стрелков.
"Приехать в Паульмунд, позвонить папе, рассказать ему про мальчиков… - лихорадочно планировал Рудольф. – Если подключить папу, то местные точно не отвертятся от того, что у них в гау уже несколько лет орудует маньяк".
Выскочив на крыльцо культурхауза, Рудольф устремился к административному сектору. Хрустел под сапогами лед, хлопали полы шинели, колко мерцали во мраке звезды. Рудольф вдруг осознал, что чувствует спиной чей-то внимательный взгляд. Остановившись, он развернулся и посмотрел на культурхауз. В ледянисто-желтом окне коридора чернел неподвижный силуэт Рубинштейна. Рудольфу невольно вспомнились многочисленные афиши "Стальной ночи", перемежающиеся объявлениями о пропавших мальчиках, и ему стало не по себе. Привычный мир, подчиняющийся установленному распорядку, медленно и неумолимо соскальзывал в холодную бытийную тьму.
"Какого черта я вообще отвлекаюсь на этого жида? С ним уже всё кончено. Надо спешить", - успокоил себя Рудольф.
Резко развернувшись, он продолжил свой путь. Время уходило, конверт с фотографией лежал в кармане шинели тягостным грузом. Снежинки кружились в воздухе, как привлеченные смрадом мухи. Всё оставалось позади: и безлюдный культурхауз, и раболепный убийца Рубинштейн, и неспешная жизнь, которую Рудольф вел уже тридцать лет.
Хайни настоял на том, чтобы встреча состоялась в последнем вагоне электрички, следующей до Эркнера. Октава это более чем устраивало. Тридцатого января он припарковал свой "ситроен" перед Восточным вокзалом, выкурил три сигареты, затягиваясь медленно и вдумчиво, и лишь после этого вышел из машины. По бескровному утреннему небу ползла газовая дымка облаков. С гранитно-серого здания вокзала, опоясанного муралами, глядели на Октава белоглазые солдаты, спортсмены и крестьяне. Над рубленой аркой входа трепетал алый флаг с паучьими изломами свастики. Октав сжал губы, надвинул на глаза шляпу и скрылся в здании вокзала, подволакивая по широким ступеням хромую ногу. Спустя полминуты к вокзалу подъехал "фольксваген", из которого вышел невзрачный немец с темными волосами и тонким ртом. Спрятав лицо под козырьком кепки-восьмиклинки, он застегнул плащ и тоже скрылся в здании вокзала, но Октав, увлеченный мыслями о предстоящей акции, этого не заметил.
Пассажиров в вагоне оказалось немного. Ледянисто-белый свет зимнего солнца падал на металлические поручни, разгораясь в них бледными искрами, стелился по округлым сиденьям из мятно-голубого пластика и высекал золотистые переливы из светлых волос пассажиров, которые превосходили Октава биологически. Припадая на левую ногу, Октав медленно шел в конец вагона и украдкой рассматривал плоды нацистской селекции. Гитлерюнге лет тринадцати, - голубоглазый, светлокожий, с кожаным узлом на черном галстуке, - разглядывал комикс про Уберменша. Беременная немка в клетчатом пальто, похожая вытянутым черепом на одну из натурщиц Циглера, задумчиво глядела в окно, сложив руки на опухшем животе. Седоватый бюргер в федоре увлеченно читал свежий номер "Штюрмера".
"Евреи – наше несчастье", - сообщал готическим шрифтом девиз журнала, размещенный в самом низу ламинированной обложки. Чуть выше виднелась карикатура: гротескный семит с туловищем паука, который подкрадывался к ничего не подозревающей немке.
Когда Октав проходил мимо бюргера, тот с диковатым удивлением покосился на него из-за журнала, но Октав, не изменившись в лице, добрался до конца вагона, расстегнул пальто и сел возле прохода. Электричка тронулась с места, набрала ход и окатила пассажиров усыпляющим стуком колес. За окном возникла строительная площадка, обнесенная забором из рабицы. Мертвенно поблескивала колючая проволока, теснились друг к другу монструозные клетки металлоконструкций.
"Вроде ничего не забыл", - отрешенно подумал Октав.
Конверт с письмом, которое объясняло все его поступки, лежал во внутреннем кармане пиджака. Пистолет американского производства, - никелированная "россомаха" с белыми щечками, - дожидался своего часа в правом кармане пальто. Хайни, которому Октав пообещал рассказать, каким кораблем доставят амстердамский груз, должен был войти в вагон после станции "Хиршгартен". Октав посмотрел на часы с крокодиловым ремешком, под которыми скрывалось обожженное окурками запястье. До встречи с Хайни оставалось чуть меньше пятнадцати минут.
Тусклое солнце нестерпимо ударило по глазам. Представив себя Мерсо из "Постороннего", Октав поправил шляпу и устремил мрачный взгляд на дверь с круглым окошком, ведущую в тамбур. За стеклами очков подернулись лихорадочным блеском янтарно-карие глаза. Октав явственно ощутил, как растворяется во мгле его прошлое, как исчезают с лица земли кривые улочки гетто, где прошло его детство, как всё превращается в ничто, наполняясь окончательным смыслом. Осталась лишь зеленая стрела электрички, которая мчалась по рельсам в Эркнер.
"Надо было тогда зарезать Страшко. Я ведь знал, где он живет", - промелькнула у Октава мысль, наполненная запоздалым сожалением.
Их первая встреча, тайная и односторонняя, произошла на аппельплацу концлагеря "Сибирь-2". Мерцали в черном небе звезды, горели бледно-желтым фонари на тонких ножках, а комендант Менгеле, сухощавый штандартенфюрер в кожаном плаще, рассказывал этапу о лагерном крематории. Грузный офицер СС, стоящий позади коменданта, держал наготове список прибывших. У дальнего края аппельплаца, где начинались бараки из красного кирпича, ходил из стороны в сторону, сложив руки за спиной, эсэсовец в черном. Иногда он останавливался, чтобы посмотреть на шеренгу преступников, но быстро возобновлял движение, словно боялся оказаться замеченным.
Октав пытался согреться, выдыхая теплый воздух в поднятый воротник пальто, и осторожно, лишь слегка скашивая глаза, всматривался в черный силуэт незнакомца. Судя по кепи, форменной куртке без повязки на рукаве и мешковатым брюкам, это точно был не офицер, но разглядеть знаки отличия мешало расстояние. Когда у Октав затряслись от холода ноги, одетые в узкие брюки и модные ботинки, он выбросил из головы странного эсэсовца и перевел взгляд на коменданта. Тот криво усмехался, указывал стеком куда-то вперед, и говорил о "любви к знакомому пепелищу и гробам отцов". Октав удивленно вскинул брови, опознав в этом искаженном переводе стихотворение Александра Пушкина – русского поэта негритянского происхождения.
К счастью, этой цитатой комендант завершил свою сумбурную речь, и его сменил офицер СС, который бегло огласил список из девяти фамилий. Когда Октав услышал среди них свою, у него задрожали губы. Покорно шагнув вперед, он принялся искоса разглядывать товарищей по несчастью, однако ничего семитского в их внешности не обнаружил. Если это и была селекция, то селекция иного рода.
В блоке обработки заключенный-парикмахер не обрил Октава наголо, а всего лишь состриг большую часть волос, сделав его похожим на взъерошенного птенца. После душа Октаву вручили полосатую робу с валенками, мешковатый пиджак и черную, как уголь, верхнюю одежду. Ушанка оказалась велика и сползала на глаза, сдвигая очки до середины носа, черный винкель перекрещивался с желтым, образуя шестиконечную звезду, а на рукаве ватника белела повязка, где черными готическими буквами была обозначена должность Октава – библиотекарь. Он понял, что его сделали помощником лагерной администрации, но протестовать, трезво оценив перспективы, не решился.
В карантинном блоке Октаву сообщили, что надзиратели называют таких, как он, придурками, а русскоговорящие заключенные – козлами. Ничего хорошего это не предвещало. Отделенный от других заключенных происхождением, статусом предателя и неспособностью бегло говорить по-русски, Октав лежал на своей койке и заучивал правила внутреннего распорядка, а когда текст терял осмысленность, он с неохотой возвращался в реальный мир, где натыкался на обрывки чужих разговоров.
Поначалу заключенные, которые поддавались германизации и называли друг друга хефтлингами, а не арестантами, вовсю обсуждали офицера СС из лагерной канцелярии, который, будучи пьяным, зарезал наградным кортиком собутыльника, русского работника свинофермы. Новички прочили офицеру тюремное заключение, однако староста блока с нескрываемым фатализмом утверждал, что офицера всего лишь переведут в Туркестан. Под конец первой недели о нем забыли, потому что в здании крематория застрелился эсэсовец из комендатуры. Ходили слухи, что покойный был влюблен в надзирательницу из женского сектора, Марию Магалл, но роман оказался коротким, болезненным и сокрушительным. Старосту блока эта новость не удивила: надзирательница Магалл была особенно жестокой и тушила об провинившихся узниц сигареты. В том, что из-за неё застрелился мужчина, не было ничего странного.
"И эти сволочи утверждают, что я дегенерат…" – подавленно думал Октав.
Барак для асоциалов, где ему предстояло провести два года жизни, выглядел плачевно. На рыжих кирпичах темнели разводы плесени, около крыльца доцветала в бетонных клумбах чахлая календула, а просторное помещение первого этажа, заставленное двухъярусными койками, было до половины выкрашено в травянисто-зеленый. Здесь обитали хефтлинги, обделенные привилегиями: одни работали в лагерных цехах, изготавливая мебель, спецодежду и гробы, другие трудились в угольных шахтах и песчаных карьерах, а наиболее квалифицированных рабочих каждое утро увозили на фабрики "ИГ Фарбен", которые были разбросаны вокруг Паульмунда.
Придурки, как выяснилось довольно скоро, проживали на втором этаже. Небольшая комната с четырьмя койками, куда заселили Октава, тоже была выкрашена в травянисто-зеленый, однако дверной проем загораживала красная занавеска в цветочек, сделанная из простыни. Соседями Октава оказались трое кухрабочих – упитанные и румяные русские, которые говорили по-немецки с сильным акцентом. Сидели они давно, - за сутенерство, бродяжничество и наркоторговлю, - и без стеснения пользовались всеми привилегиями, которые полагались придуркам: повар носил наручные часы фабрики "Штурмовик", мясник хранил в своей тумбочке электрическую плитку, а над койкой уборщика висел прошлогодний календарь с сестрами Фляйш, одетыми в баварские сарафаны.
- Ты по-русски хоть шпрехаешь, апаш? – равнодушно спросил повар при знакомстве, харкая искаженными немецкими словами. – Не шпрехаешь? Ничего, скоро научишься.
Кухрабочие сочли, что для первой встречи этого достаточно, и вернулись к своим делам. Октав не расстроился. Равнодушие было не худшим вариантом.
Однако на удивление дружелюбным оказался староста барака – Вернер Майзель, осужденный на десять лет за распространение наркотиков. У него имелась собственная комната на втором этаже, подогнанная по фигуре роба и русская любовница из местных, которая полюбила Майзеля за чувственные письма. Удивился Октав и тому, что белокурый Майзель, который был выше него на две головы и выглядел по-арийски, тоже оказался мишлингом - отец Майзеля был чистокровным немцем нордического типа, и внешность сын унаследовал от него.
Именно Майзель на рассвете следующего дня повел Октава в культурхауз – двухэтажное здание из необработанного бетона, которое располагалось в углу мужского сектора и выходило крыльцом на аппельплац. Вокруг концлагеря, залитого желтоватым электрическим светом, медленно выцветали сизые сумерки. Длинная тень Майзеля скользила по асфальтовой дорожке, под валенками хрустела крошка сколотого льда.
- Если возникнут проблемы с уголовниками или политическими, то обращайся ко мне, - сказал Майзель, - нас осталось мало, мы должны помогать друг другу.
- Хорошо, - робко отозвался Октав. Он следовал за ним, пытаясь не поскользнуться.
- На улице носи шапку, в помещении носи мютцен. Если тебя заметят без головного убора, то попадешь в изолятор.
Со стороны административного сектора донесся истошный лай. Обернувшись, Октав разглядел сквозь густую сетку забора, как эсэсовец в фуражке натягивает поводок, заставляя овчарку отступить от грузовика, и догадался, что видит оберштурмфюрера Олендорфа, которого тоже обсуждали в карантинном блоке – за привычку натравливать на хефтлингов свою собаку.
Майзель поднялся на бетонное крыльцо культурхауза, испещренное шелухой зеленой краски, и скрылся за тяжелой металлической дверью. Опомнившись, Октав поспешил за ним и оказался в хорошо освещенном фойе. На глинисто-серых стенах яркими пятнами выделялись репродукции, по углам стояли фикусы в одинаковых керамических горшках, а бетонный пол был усыпан вкраплениями кафельных осколков. Замедлив шаг, Октав обвел взглядом картины: солдат в объятиях жены, фюрер на фронте, альпийские стрелки среди заснеженных горных вершин…
- За мной, Гершель! – окликнуло его эхо Майзеля из коридора, гудящего люминесцентными лампами.
Октав нервно метнулся вперед, поправляя на ходу очки. Проскочив мимо двустворчатых дверей актового зала, покрытых темно-оранжевой краской, он оказался на развилке: слева был тупик с железной дверью, за которой, судя по табличке, находилась кладовая, а справа тянулся к лестничной клетке другой коридор. Майзель был там. Он стоял перед еще одной железной дверью, которая никак не была подписана.
- Владимир Павлович, открывай! Я тебе работника привел! – постучал Майзель кулаком по двери.
Октав успел подойти до того, как натужно скрипнули петли и в коридор вышел сутуловатый мужчина, которому на вид было около шестидесяти. Из-под мютцена выглядывали седовато-русые волосы, на кончике длинного носа висели роговые очки, а кисти были усеяны пигментными пятнами. На рукаве пиджака мужчина носил белую повязку, которая выдавала в нем старосту культурхауза.
- Ты где его откопал? Что это за чудо-юдо? – буркнул он, покосившись на Октава.
- Французский мишлинг, Гершель Либерман, - улыбнулся Майзель тонкими губами. – Фармацевт и шулер, понимает по-русски, знает три языка.
- Идиш – это не язык, - угрюмо возразил староста. – Ладно, Либерман. Сейчас я тебе всё покажу, так что не считай ворон. Дважды я повторять ничего не буду.
Майзель шепотом пожелал Октаву удачи, похлопал его по плечу и ушел. Проводив беспомощным взглядом его долговязую фигуру, Октав с опаской посмотрел на старосту.
- Давай знакомиться, Либерман. Меня зовут Владимир Павлович Исаев, но ты всё равно это не выговоришь, поэтому обращайся ко мне просто – герр староста, - произнес он и взмахом руки указал на кладовую. – Там хранится бытовая химия и инструментарий. Убираться в библиотеке будешь каждый день после закрытия.
- Хорошо, герр староста, - нерешительно кивнул Октав.
- Господи, ты еще и картавый…
Вынув из кармана пиджака носовой платок, Исаев влажно откашлялся и направился к лестнице. Поднимаясь, он проводил узловатыми пальцами по стенам и касался лакированных перил, а затем внимательно разглядывал ладонь, поднося её к очкам. На втором этаже, который тоже оказался серым коридором с железными дверьми и фрактурой на табличках, Исаев продолжил инспекцию: пошевелил узорчатый тюль, осмотрел чугунную батарею, покрытую наслоениями краски, и нахмурил брови.
- Тимур! Подошел сюда, быстро! – выкрикнул он неожиданно зычным голосом.
Хлопнула где-то внизу дверь, послышались быстрые шаги, и на лестничную клетку выскочил запыхавшийся хефтлинг в полосатой робе. От жалости у Октава сдавило горло - перед ними стоял юноша лет восемнадцати: щуплый и невысокий, криво постриженный, с боязливыми глазами дворовой собаки и обветренным лицом. На полосатой рубахе Тимура ярко розовел винкель гомосексуалиста.
- Я тебе сколько раз говорил, чтобы ты работал, а не гонял лентяя? – рявкнул Исаев, указывая пальцем на батарею. – Сегодня об этом узнает твой блоковой, и тебе снова дадут на орехи!
- Простите, Владимир Павлович. Этого больше не повторится… - прошелестел Тимур. Согнувшись вопросительным знаком, он так же быстро, как и пришел, спустился обратно на первый этаж.
Повернувшись к Октаву, Исаев взял его за ворот ватника и сверкнул близорукими глазами:
- Майзель носится с тобой, как с раскрашенной корзиной, и вряд ли тебя накажет. Поэтому если ты будешь плохо работать, то лещей получишь от меня или ближайшего капо. Ясно, Либерман?
- Ясно, герр староста, - кивнул Октав, хотя было это не совсем так. Кажется, Исаев пытался сбить его с толку, намеренно пересыпая свою немецкую речь буквальным переводом русских поговорок.
Отряхнув руку об штаны, Исаев достал из кармана связку ключей и пошел, минуя театральную и музыкальную секции, в конец коридора, где размещалась библиотека. Он отпер металлическую дверь, вложил ключи в безвольную ладонь Октава и снова закашлялся. Октав растерянно взглянул на ключи. Первый слегка оттягивал ладонь, был длиной с чайную ложку и напоминал кусок арматуры, а второй, плоский и крошечный, явно предназначался для дешевого замка.
- Если тебя нет в библиотеке – дверь должна быть заперта. Если тебя нет в кладовой – дверь должна быть заперта. Это понятно? – донесся из библиотеки дребезжащий голос Исаева.
- Понятно, герр староста, - отозвался Октав, растерявшись.
Он понял, что опять ушел в себя. Надеясь, что Исаев этого не заметил, Октав сунул ключи в карман пиджака, который сидел на нем, как на пугале, и шагнул в читальный зал, освещенный бледными флуоресцентными лампами.
- И хватит уже говорить с этим мерзким акцентом. Шипишь и ойкаешь, будто горячей каши в рот набрал. Здесь тебе не штетл. Штетлов больше нет.
Октав уже хотел мысленно возразить, что не говорил сейчас на идише, однако увидел помещение, в котором теперь должен был работать, и закусил губу. С белой, как мел, стены взирал на читательские столы застекленный портрет Геббельса, противоположную стену украшали картина с крестьянами и плакат с кормящей матерью, а на библиотекарском столе поблескивал бронзовым профилем бюст Гитлера. Свозь ажурную вязь белого тюля отчетливо просматривался рыжий конус крематорской трубы, окутанный свечением лагерных фонарей и голубоватыми сумерками.
Отныне каждый день Октава начинался в пять утра. Первая неделя выдалась тяжелой: в библиотеке нужно было находиться до восьми вечера, тратя последние два часа на уборку, и всё это время в соседней комнате репетировал лагерный оркестр, который исполнял немецкие марши, народные песни и популярные шлягеры. Вслушиваясь в мажорный гул инструментов, Октав подклеивал книги, которые начали рассыпаться еще в сороковых, протирал влажной тряпкой оконные рамы и батареи, а в конце дня до блеска намывал дощатый пол читального зала и книгохранилища, крашеный в темно-рыжий цвет. Однако у такого режима было свое преимущество – возможность держаться подальше от других хефтлингов, если не считать тех, кто приходил в библиотеку, чтобы взять книгу или поглазеть на кормящую мать.
Питаться придурки, у которых было свое рабочее место, тоже могли отдельно. Как только начинался обеденный перерыв, Октав шел в столовую с пустой стеклянной банкой, а затем возвращался с порцией баланды, чтобы поесть в подсобке – темно-синей каморке без окна, которая помещалась за книгохранилищем.
Повесив ватник на крючок, Октав садился на деревянную табуретку, усыпанную пестрыми струпьями краски, и заваривал в эмалированной кружке чай. Пока тот наливался янтарной чернотой, Октав крошил в баланду кусок хлеба и съедал получившуюся кашу, звонко черпая её ложкой из мятой металлической миски. Сквозь широкое окно книгохранилища и дверной проем, где отсутствовала дверь, в подсобку проникал желтый свет полудня: он золотистыми пятнами падал на шершавый кафель всех оттенков охры, который лежал на полу расслаивающейся чешуей, и зажигал блеклый отблеск в небольшом зеркале, висящем около вешалки. После еды Октав обычно курил, выдыхая дым в открытую форточку и стряхивая пепел в банку из-под кофе.
Исаев и Тимур тоже держались особняком. Первый целыми днями сидел в своей каморке, слушая радио или читая книги, а второй с понурым видом убирался на обоих этажах, таская за собой ведро и швабру, маркированные розовым треугольником – негласный лагерный кодекс запрещал прикасаться голыми руками к гомосексуалистам и их имуществу. Нарушать этот кодекс Октав не желал. Вместо этого он лишь аккуратно обходил свежевымытые участки пола, но Тимуру, судя по его быстрым понимающим взглядам, было достаточно и этого.
К концу первой рабочей недели Октав наловчился подклеивать ветхие книги, заполнять читательские карточки и раскладывать по коробкам устаревшие выпуски газет, которые администрация обязывала хранить в течение года. За эти пять дней дважды работал крематорий, выбрасывая в воздух рваные клочья дыма, оставшиеся от погибших хефтлингов. Дым смешивался с тяжелыми тучами, которые напоминали сгустки газа, а в ледяном воздухе оседал сладковатый смрад паленой плоти. Теперь Октав знал, как всё закончилось и где. Теперь он, неуклюже переставляя ноги, бродил по мерзлому чернозему, унавоженному кровью его сородичей, теперь он дышал воздухом, в котором они бесследно растворились тридцать лет назад.
О существовании внешнего мира, где людей хоронили на кладбищах, а не сжигали в печи, напоминали лишь газеты, поступающие из города, и одной из них была "Паульмундер адлер", главредом которой некогда работал Исаев, пока его не посадили на десять лет за заголовок об "истерической миссии Германии". Паульмунд виделся Октаву тихим провинциальным городом, где ставили спектакли в драматическом театре, отмечали на главной площади языческую Масленицу и искали пропавших детей. "Помогите найти ребенка!", - требовал заголовок, напечатанный режущим готическим шрифтом над фотографией очередного мальчика. Пропадали они чуть ли не каждый месяц.
Предположений у Октава возникло много, но обсуждать их с Исаевым он не стал. Наиболее подходящим собеседником представлялся Майзель, и вечером того же дня, незадолго до отбоя Октав постучался к нему в комнату. Получив разрешение войти, он обнаружил, что Майзель готовится к Новому году: тот приклеивал к мшисто-зеленым стенам большие снежинки, вырезанные из серебристой фольги. Тусклое свечение лампы отпечатывалось в них смутными переливами, на запястье у Майзеля висел рулон бумажного скотча, а через окно, возле которого стояли заправленная койка с тумбочкой, было видно, как курит у крыльца своего барака полосатая масса уголовников.
- Как дела, Гершель? – приветливо спросил Майзель, отматывая скотч. – Никто не беспокоит?
- Со мной всё в порядке. Но есть один вопрос.
Потоптавшись в пороге, Октав прошел вглубь комнаты и закрыл за собой дверь. Майзель, насвистывая себе под нос веселенький мотив, зубами оторвал кусочек скотча и взял с тумбочки снежинку.
- Я тут газеты почитал. Старые… - начал Октав, переминаясь с ноги на ногу. – И заметил, что в городе мальчишки пропадают.
- Так они и в прошлом году пропадали, - сказал Майзель и прилепил снежинку к стене. - Местные говорят, что детей похищают евреи, но это, конечно, чепуха. Всех евреев убили в сороковых.
- А что происходит на самом деле?
Повернувшись к Октаву, Майзель взглянул на него с высоты своего двухметрового роста и снисходительно улыбнулся:
- Откуда я знаю, Гершель? И вообще, какая тебе разница? Они же немцы.
- Никой разницы. Я просто так спросил, - сконфузился Октав.
Субботу он провел в культурхаузе, хотя по выходным библиотека не работала. Оркестр готовился к воскресному концерту, раз за разом играя "Хорста Весселя", а Октав сосредоточенно мыл полы, протирал пыль и перебирал в памяти лица пропавших мальчиков, которые, как верно подметил Майзель, действительно имели нордическую внешность и мало чем друг от друга отличались. Добившись наконец чистого звучания, оркестр приступил к "Эрике", но Октав, погруженный в мучительные раздумья, этого не заметил.
Вечером, когда уже стемнело, он запер библиотеку и пошел в кладовую, чтобы оставить там ведро и швабру. Из музыкальной секции доносился смех, перемежающийся тихим звоном стаканов, по лестничной клетке гулкими отзвуками метались шаги Октава, в каморке Исаева шипели искаженные голоса радиоприемника.
Дойдя до кладовой, Октав прислонил швабру к стене, поставил рядом ведро и начал открывать дверь. Ключ вошел в замок до половины и застопорился. Октав зашипел сквозь зубы. Воровато оглянувшись, он убедился, что поблизости никого нет, и с осторожностью пошевелил ключом, надеясь не сломать замок окончательно. В кладовой что-то звякнуло, ключ вошел до конца, и дверь поддалась. Из темноты пахнуло мокрым деревом. На грубом дощатом полу блеснул ключ с розовой биркой.
Октав нервно сглотнул и перевел взгляд в дальний угол кладовой, к которому тянулась его тень, обрамленная конусом света. Возле стопки оцинкованных ведер валялся серый валенок. Второй валенок висел в воздухе, а рядом с ним болталась нога в шерстяном носке, торчащая из полосатой штанины. У Октава сбилось дыхание. Глаза привыкли к темноте, и теперь из неё неясными очертаниями проступало человеческое тело, висящее в грязно-белой петле.
Октав отшатнулся в коридор и дрожащей рукой притворил дверь. Мелко постукивая зубами, еле держась на негнущихся ногах, он отправился к Исаеву. Тот до сих пор был в каморке. Шипело радио, поздравляя с днем рождения Михаила из Читы, на электрической плитке дышал паром чайник с красным цветком, а Исаев сидел в продавленном кресле, жевал бутерброд с маслом, густо посыпанный сахаром, и читал "Раскольникова".
- Чего тебе, Либерман? – буркнул он, не отрываясь от книги.
- Там труп в кладовой, герр староста…
Исаев тяжело вздохнул. Уставившись перед собой, он беззвучно пошевелил губами.
- В кладовой труп висит. Это Тимур… - повторил Октав.
- Сходи на КПП и расскажи обо всём фельдфебелю, - приказал Исаев, не меняя позы.
Забрав из библиотеки ватник, Октав спустился в фойе, украшенное фикусами, арийской живописью и неказистым новогодним декором. По глинисто-серым стенам змеилось ртутное многоцветье мишуры, с потолка паутиной свешивались серебристые нити, мерцали в бледном свечении вырезанные из фольги шишки. Октав шатко вывалился на порог, успев в последний момент схватиться за косяк. Завывал ветер, гоняя по земле седые клочья поземки. Под фонарями металась снежная крошка. Бараки сливались в одно большое, бесформенное, глинисто-рыжее пятно. Сморгнув остывшие слезы, Октав запахнул ватник и побрел в сторону КПП.
Ночь выдалась тревожной. Октав то проваливался в зыбкую дрему, где его поджидал зернистый осенний лес, кишащий висельниками в полосатых робах, то выныривал обратно в койку, откликаясь на каждый скрип доски, доносящийся из коридора. В понедельник ему представили нового уборщика – молдаванина Эмиля Виеру, который тоже, как и Тимур, был молодым гомосексуалистом, однако вел себя до тошноты угодливо. Худое лицо, покрытое язвочками, и вьющиеся темные волосы делали Эмиля похожим на богемного наркомана, а бледно-зеленые глаза неизменно сохраняли оценивающее выражение, вступая в диссонанс с чрезмерно дружелюбной мимикой.
"Стукач", - предположил Октав и решил на всякий случай держаться от Эмиля подальше.
До самого полудня Октав перебирал книги, в которых еврейские дельцы обманом отнимали землю у наивных крестьян, отважные скалолазы покоряли силой немецкого духа неприступные горы, а матери отправляли на фронт возмужавших сыновей. Поглощенный имитацией работы, Октав не заметил, как начался обеденный перерыв. В библиотеке повисла сонная, хрустальная тишина.
Когда Октав понял, что перевалило за двенадцать, он дернулся на месте, как ошпаренный - тем, кто приходил в столовую последним, обычно доставался пустой бульон. Торопливо собрав с пола книги, Октав вернул их на полку с арийским реализмом. Растекался по металлическим стеллажам тусклый свет, жались друг к другу тома с пожелтевшими корешками, на гудронную крышу крематория хлопьями валил снег. Отряхнув руки от пыли, Октав направился в читальный зал, но тут же замер в проходе, уловив боковым зрением чужое присутствие. В трех шагах от Октава, преграждая ему путь, стояла без движения черная тень.
- Да не пугайся ты так, я на тебя посмотреть пришел, - сказала тень, неуклюже изображая хохдойч.
Поняв, с кем он столкнулся, Октав сдернул с головы мютцен. Перед ним, широко расставив ноги, возвышался коренастый штурмманн СС, лет примерно двадцати пяти. На черном кепи взблескивала мертвая голова, с шеи свисала фотокамера "Лейка", а мешковатые брюки складками ложились на солдатские ботинки. Штурмманн с нескрываемым любопытством рассматривал Октава, ворочая серыми, чуть выпуклыми глазами. Его тонкие, но мясистые губы слабо подрагивали, так и норовя изогнуться в улыбке, а пальцы барабанили по резиновой дубинке, которая болталась на форменном ремне.
- Добрый день, герр штурмманн, - неуверенно произнес Октав.
- Вблизи ты интереснее. Я видел тебя на аппельплацу. Помнишь?
Октав закивал. Он вспомнил, как прогуливался возле барака странный эсэсовец, и теперь понимал, что встретился с ним лицом к лицу. Не то что бы Октав был этому рад.
- У тебя, кажется, отец живет в Галиции?
- Да. Он служил в вермахте.
- Я тоже из Галиции. Считай, почти земляки, - сказал штурмманн и, не сдержавшись, улыбнулся. – Отцу-то пишешь?
- Пишу. Но он не отвечает, - признался Октав, с тоской вспомнив три отправленных письма, в которых он сообщал отцу о своей судьбе.
Штурмманн сочувственно произнес:
- Не расстраивайся раньше времени. Тут такая почта, что письма месяцами идут. Застревают на сортировочной станции. Здесь всё медленно работает, ты скоро привыкнешь.
Октав понуро кивнул, глядя перед собой и комкая в руках мютцен. Оставалось лишь надеяться, что письма действительно потерялись.
- Меня зовут штурмманн Страшко. Я тут старший надзиратель. Мой отец служил в дивизии "Галичина", - представился он, впился в Октава стылым взглядом и посерьезнел. – Тебя зовут Октав Леопольд Гаже, но я знаю, что это фальшивое имя. Для гоев. Тебя мама дома как называла?
- Гершель... – с неохотой признался Октав.
- Гершель… - повторил Страшко, словно пробуя его имя на вкус. Вновь расплывшись в улыбке, он снял с шеи фотоаппарат. – Пойдем в подсобку. Гершель. Там фон хороший. Я тебя сфотографирую для коллекции.
Октав склонил голову. Страшко вел себя загадочно и, насколько это было возможно для его статуса, дружелюбно, но именно поэтому его не следовало злить: Октав прекрасно знал, как быстро приветливость может сменяться гневом. С опаской повернувшись к Страшко спиной, Октав побрел в подсобку. Стало ясно, что сегодня придется обойтись без обеда.
- Встань тут, лицом к вешалке. Хочу сфотографировать твой шнобель, - указал Страшко пальцем в центр подсобки.
Съежившись, Октав нехотя встал перед вешалкой, на которой висел его ватник. Повернулся выключатель, подсобка наполнилась блеклыми потеками люминесцентной лампы, и Страшко умолк, погрузившись в творческий процесс: он кругами ходил вокруг Октава, перебирал ракурсы и щелкал затвором фотоаппарата. Октав стоял без движения, вытянув руки вдоль туловища, и безучастно смотрел перед собой. В зеркале то появлялся, то исчезал бледный световой потек.
Когда Страшко в очередной раз оказался у Октава за спиной, послышался тихий стук, с которым обычно касалась стола миска баланды. Не успел Октав обернуться, как вокруг его шеи локтевым захватом обвилась цепкая рука, пахнущая табачным дымом и одеколоном "Альпы", который можно было купить на любой станции Остбанна. От осознания того, что сейчас произойдет, Октав вздрогнул.
- Не надо, герр штурмманн… - выдавил он, боясь пошевелиться.
- Если не будешь дергаться, то всё пройдет хорошо, - тяжело задышал Страшко ему в ухо.
Октав стиснул зубы, зажмурил глаза и окунулся в плотную, вязкую темноту. Темнота пахла хлоркой, дешевыми сигаретами и тошнотворно-свежим одеколоном.
- Мой картавенький друг… Ты идешь на своеобразный подвиг… - произнес Страшко, не скрывая хищнического восторга, и резко сдавил Октаву шею.
Октав надсадно хрипел и хватал ртом воздух, пытался издать громкий вопль и вслепую цеплялся за рукав форменной куртки, наступал соскальзывающим валенком на ботинок Страшко. Легкие горели, в ушах ревел кровоток, перед глазами расцветали темные круги. Октав понимал, что его уже никто никогда не услышит, но всё равно из последних сил еле слышно забулькал горлом.
- Да не дергайся ты, дурак пархатый! Тебе же хуже будет! – прошипел Страшко по-русски.
Октав сделал последнюю попытку вырваться, конвульсивно содрогнулся и почувствовал, как холодит щеку неровно уложенный кафель. С изумлением он увидел перед собой скошенные ножки табуретки, валяющийся под столом мютцен и фрагмент синей стены. Сухо щелкал фотоаппарат, шевелилась на периферии зрения паукообразная тень. Шумно втянув воздух, Октав вздрогнул от боли в шее и вспомнил, что произошло с ним мгновение назад. Страх закопошился в солнечном сплетении клубком червей. Октав вскочил на ноги, однако потерял равновесие, рухнул на ближайшую стену и обессиленно сполз по ней на пол. Пальцы подергивало тремором, до тошноты кружилась голова.
- Да успокоишься ты или нет? – послышалось раздраженное шипение Страшко.
Оторопев, Октав медленно поднял голову. Страшко нависал над ним, пряча рыбье лицо за фотоаппаратом, врезаясь черной тенью в пустой дверной проем. Глаза Октава распахнулись, вспыхнули лихорадочным блеском и забегали из стороны в сторону.
- Вот и всё. А ты боялся, - с облегчением выдохнул Страшко и положил фотоаппарат на стол.
- Что это было, герр штурмманн?.. – сиплым шепотом выдавил Октав.
Тот горделиво усмехнулся, уперев руки в бока:
- Медицинский эксперимент. Помнишь, что произошло перед тем, как ты отключился?
- Своеобразный подвиг… - ответил Октав, ворочая непослушным языком.
Услышав это, Страшко искривился. Он подошел к окну, распахнул форточку и щелкнул спичкой об коробок. С улицы потянуло ледяной свежестью, по воздуху поплыли сизые извивы дыма. Страшко курил и молча о чем-то думал. Падали хрупкие хлопья снега, прыгал по карнизу нахохлившийся воробей.
Октав закусил губу. Кажется, добивать его Страшко не собирался. С трудом встав, Октав подобрал мютцен, привалился к стене и обвел подсобку помутневшим взглядом. Шипел белый шум, подрагивали контуры предметов, резал глаза тусклый свет.
- Я читал в одной книге, что можно вызвать у человека потерю памяти, слегка его придушив. Чтобы человек забыл, что на него нападали, - произнес черный профиль Страшко. Затянувшись, он выдохнул зыбкое облако дыма. – Если сделать всё правильно, то человек забудет не больше пары часов. Но у меня до сих пор ничего не получается.
Октав поежился от сквозняка, забравшегося под расстегнутый пиджак:
- Это значит, что вы не пытались меня убить?
Страшко издал довольный смешок:
- Зачем мне тебя убивать? Ты мне живой нужен.
Октав покосился в сторону читального зала. Если там кто-то был, то спасение могло прийти с неожиданной стороны.
- Не бойся, нас не подслушивают. Я запер дверь, когда пришел.
- Мне нельзя запираться в библиотеке… - пробормотал Октав, и его лицо дернулось в плаксивой гримасе. Сознание медленно прояснялось, давая дорогу вяжущему ужасу.
Страшко повернулся к нему, держа в руке тлеющую сигарету, и холодно блеснул глазами из-под черного кепи:
- Во время обеда – можно. А если прихожу я, то даже нужно. Ты ведь не хочешь, чтобы все увидели, как ты без сознания валяешься на полу? Мало ли, кто тебя найдет… И что он захочет с тобой сделать.
- Вы что, придете снова?! – севшим голосом воскликнул Октав. Еще сильнее затряслись пальцы, и он до белизны в костяшках сжал кулаки.
- Ты помнишь Тимура, Гершель? – оскалил Страшко ровные зубы, покрытые желтоватым табачным налетом. – Исаев сказал, что именно ты нашел его труп.
Октав судорожно закивал. Перед мысленным взором возник серый валенок, лежащий на дощатом полу, и к горлу подкатил тошнотный ком. Мир задрожал, готовясь рассыпаться на блеклые акварельные пятна. Судорожно вздохнув, Октав всхлипнул.
Страшко выбросил бычок в банку из-под кофе, закурил новую сигарету и властно произнес:
- Тимур умер не сам. Ему помог я. И если ты тоже будешь кобениться, то вряд ли вернешься домой. Никто даже не удивится, если однажды тебя найдут в петле. В концлагере всякое может случиться, особенно с таким воспитанным еврейчиком из Лемберга, как ты.
- Кладовая была заперта. Изнутри… - пробормотал Октав, сдвинув брови.
- А ты наблюдательный, - усмехнулся Страшко. – Впрочем, ты ведь шулер. Но не взломщик, поэтому в замках разбираешься плохо. Я вставил ключ не до конца, а потом запер дверь снаружи, чтобы Тимура точно посчитали самоубийцей.
Схватившись за голову, Октав запустил пальцы в спутанные волосы. Он припомнил субботний вечер, свой маршрут от библиотеки до кладовой и то, как застрял в замке ключ, войдя лишь наполовину. Кажется, Страшко не шутил.
Пассажиров в вагоне оказалось немного. Ледянисто-белый свет зимнего солнца падал на металлические поручни, разгораясь в них бледными искрами, стелился по округлым сиденьям из мятно-голубого пластика и высекал золотистые переливы из светлых волос пассажиров, которые превосходили Октава биологически. Припадая на левую ногу, Октав медленно шел в конец вагона и украдкой рассматривал плоды нацистской селекции. Гитлерюнге лет тринадцати, - голубоглазый, светлокожий, с кожаным узлом на черном галстуке, - разглядывал комикс про Уберменша. Беременная немка в клетчатом пальто, похожая вытянутым черепом на одну из натурщиц Циглера, задумчиво глядела в окно, сложив руки на опухшем животе. Седоватый бюргер в федоре увлеченно читал свежий номер "Штюрмера".
"Евреи – наше несчастье", - сообщал готическим шрифтом девиз журнала, размещенный в самом низу ламинированной обложки. Чуть выше виднелась карикатура: гротескный семит с туловищем паука, который подкрадывался к ничего не подозревающей немке.
Когда Октав проходил мимо бюргера, тот с диковатым удивлением покосился на него из-за журнала, но Октав, не изменившись в лице, добрался до конца вагона, расстегнул пальто и сел возле прохода. Электричка тронулась с места, набрала ход и окатила пассажиров усыпляющим стуком колес. За окном возникла строительная площадка, обнесенная забором из рабицы. Мертвенно поблескивала колючая проволока, теснились друг к другу монструозные клетки металлоконструкций.
"Вроде ничего не забыл", - отрешенно подумал Октав.
Конверт с письмом, которое объясняло все его поступки, лежал во внутреннем кармане пиджака. Пистолет американского производства, - никелированная "россомаха" с белыми щечками, - дожидался своего часа в правом кармане пальто. Хайни, которому Октав пообещал рассказать, каким кораблем доставят амстердамский груз, должен был войти в вагон после станции "Хиршгартен". Октав посмотрел на часы с крокодиловым ремешком, под которыми скрывалось обожженное окурками запястье. До встречи с Хайни оставалось чуть меньше пятнадцати минут.
Тусклое солнце нестерпимо ударило по глазам. Представив себя Мерсо из "Постороннего", Октав поправил шляпу и устремил мрачный взгляд на дверь с круглым окошком, ведущую в тамбур. За стеклами очков подернулись лихорадочным блеском янтарно-карие глаза. Октав явственно ощутил, как растворяется во мгле его прошлое, как исчезают с лица земли кривые улочки гетто, где прошло его детство, как всё превращается в ничто, наполняясь окончательным смыслом. Осталась лишь зеленая стрела электрички, которая мчалась по рельсам в Эркнер.
"Надо было тогда зарезать Страшко. Я ведь знал, где он живет", - промелькнула у Октава мысль, наполненная запоздалым сожалением.
Их первая встреча, тайная и односторонняя, произошла на аппельплацу концлагеря "Сибирь-2". Мерцали в черном небе звезды, горели бледно-желтым фонари на тонких ножках, а комендант Менгеле, сухощавый штандартенфюрер в кожаном плаще, рассказывал этапу о лагерном крематории. Грузный офицер СС, стоящий позади коменданта, держал наготове список прибывших. У дальнего края аппельплаца, где начинались бараки из красного кирпича, ходил из стороны в сторону, сложив руки за спиной, эсэсовец в черном. Иногда он останавливался, чтобы посмотреть на шеренгу преступников, но быстро возобновлял движение, словно боялся оказаться замеченным.
Октав пытался согреться, выдыхая теплый воздух в поднятый воротник пальто, и осторожно, лишь слегка скашивая глаза, всматривался в черный силуэт незнакомца. Судя по кепи, форменной куртке без повязки на рукаве и мешковатым брюкам, это точно был не офицер, но разглядеть знаки отличия мешало расстояние. Когда у Октав затряслись от холода ноги, одетые в узкие брюки и модные ботинки, он выбросил из головы странного эсэсовца и перевел взгляд на коменданта. Тот криво усмехался, указывал стеком куда-то вперед, и говорил о "любви к знакомому пепелищу и гробам отцов". Октав удивленно вскинул брови, опознав в этом искаженном переводе стихотворение Александра Пушкина – русского поэта негритянского происхождения.
К счастью, этой цитатой комендант завершил свою сумбурную речь, и его сменил офицер СС, который бегло огласил список из девяти фамилий. Когда Октав услышал среди них свою, у него задрожали губы. Покорно шагнув вперед, он принялся искоса разглядывать товарищей по несчастью, однако ничего семитского в их внешности не обнаружил. Если это и была селекция, то селекция иного рода.
В блоке обработки заключенный-парикмахер не обрил Октава наголо, а всего лишь состриг большую часть волос, сделав его похожим на взъерошенного птенца. После душа Октаву вручили полосатую робу с валенками, мешковатый пиджак и черную, как уголь, верхнюю одежду. Ушанка оказалась велика и сползала на глаза, сдвигая очки до середины носа, черный винкель перекрещивался с желтым, образуя шестиконечную звезду, а на рукаве ватника белела повязка, где черными готическими буквами была обозначена должность Октава – библиотекарь. Он понял, что его сделали помощником лагерной администрации, но протестовать, трезво оценив перспективы, не решился.
В карантинном блоке Октаву сообщили, что надзиратели называют таких, как он, придурками, а русскоговорящие заключенные – козлами. Ничего хорошего это не предвещало. Отделенный от других заключенных происхождением, статусом предателя и неспособностью бегло говорить по-русски, Октав лежал на своей койке и заучивал правила внутреннего распорядка, а когда текст терял осмысленность, он с неохотой возвращался в реальный мир, где натыкался на обрывки чужих разговоров.
Поначалу заключенные, которые поддавались германизации и называли друг друга хефтлингами, а не арестантами, вовсю обсуждали офицера СС из лагерной канцелярии, который, будучи пьяным, зарезал наградным кортиком собутыльника, русского работника свинофермы. Новички прочили офицеру тюремное заключение, однако староста блока с нескрываемым фатализмом утверждал, что офицера всего лишь переведут в Туркестан. Под конец первой недели о нем забыли, потому что в здании крематория застрелился эсэсовец из комендатуры. Ходили слухи, что покойный был влюблен в надзирательницу из женского сектора, Марию Магалл, но роман оказался коротким, болезненным и сокрушительным. Старосту блока эта новость не удивила: надзирательница Магалл была особенно жестокой и тушила об провинившихся узниц сигареты. В том, что из-за неё застрелился мужчина, не было ничего странного.
"И эти сволочи утверждают, что я дегенерат…" – подавленно думал Октав.
Барак для асоциалов, где ему предстояло провести два года жизни, выглядел плачевно. На рыжих кирпичах темнели разводы плесени, около крыльца доцветала в бетонных клумбах чахлая календула, а просторное помещение первого этажа, заставленное двухъярусными койками, было до половины выкрашено в травянисто-зеленый. Здесь обитали хефтлинги, обделенные привилегиями: одни работали в лагерных цехах, изготавливая мебель, спецодежду и гробы, другие трудились в угольных шахтах и песчаных карьерах, а наиболее квалифицированных рабочих каждое утро увозили на фабрики "ИГ Фарбен", которые были разбросаны вокруг Паульмунда.
Придурки, как выяснилось довольно скоро, проживали на втором этаже. Небольшая комната с четырьмя койками, куда заселили Октава, тоже была выкрашена в травянисто-зеленый, однако дверной проем загораживала красная занавеска в цветочек, сделанная из простыни. Соседями Октава оказались трое кухрабочих – упитанные и румяные русские, которые говорили по-немецки с сильным акцентом. Сидели они давно, - за сутенерство, бродяжничество и наркоторговлю, - и без стеснения пользовались всеми привилегиями, которые полагались придуркам: повар носил наручные часы фабрики "Штурмовик", мясник хранил в своей тумбочке электрическую плитку, а над койкой уборщика висел прошлогодний календарь с сестрами Фляйш, одетыми в баварские сарафаны.
- Ты по-русски хоть шпрехаешь, апаш? – равнодушно спросил повар при знакомстве, харкая искаженными немецкими словами. – Не шпрехаешь? Ничего, скоро научишься.
Кухрабочие сочли, что для первой встречи этого достаточно, и вернулись к своим делам. Октав не расстроился. Равнодушие было не худшим вариантом.
Однако на удивление дружелюбным оказался староста барака – Вернер Майзель, осужденный на десять лет за распространение наркотиков. У него имелась собственная комната на втором этаже, подогнанная по фигуре роба и русская любовница из местных, которая полюбила Майзеля за чувственные письма. Удивился Октав и тому, что белокурый Майзель, который был выше него на две головы и выглядел по-арийски, тоже оказался мишлингом - отец Майзеля был чистокровным немцем нордического типа, и внешность сын унаследовал от него.
Именно Майзель на рассвете следующего дня повел Октава в культурхауз – двухэтажное здание из необработанного бетона, которое располагалось в углу мужского сектора и выходило крыльцом на аппельплац. Вокруг концлагеря, залитого желтоватым электрическим светом, медленно выцветали сизые сумерки. Длинная тень Майзеля скользила по асфальтовой дорожке, под валенками хрустела крошка сколотого льда.
- Если возникнут проблемы с уголовниками или политическими, то обращайся ко мне, - сказал Майзель, - нас осталось мало, мы должны помогать друг другу.
- Хорошо, - робко отозвался Октав. Он следовал за ним, пытаясь не поскользнуться.
- На улице носи шапку, в помещении носи мютцен. Если тебя заметят без головного убора, то попадешь в изолятор.
Со стороны административного сектора донесся истошный лай. Обернувшись, Октав разглядел сквозь густую сетку забора, как эсэсовец в фуражке натягивает поводок, заставляя овчарку отступить от грузовика, и догадался, что видит оберштурмфюрера Олендорфа, которого тоже обсуждали в карантинном блоке – за привычку натравливать на хефтлингов свою собаку.
Майзель поднялся на бетонное крыльцо культурхауза, испещренное шелухой зеленой краски, и скрылся за тяжелой металлической дверью. Опомнившись, Октав поспешил за ним и оказался в хорошо освещенном фойе. На глинисто-серых стенах яркими пятнами выделялись репродукции, по углам стояли фикусы в одинаковых керамических горшках, а бетонный пол был усыпан вкраплениями кафельных осколков. Замедлив шаг, Октав обвел взглядом картины: солдат в объятиях жены, фюрер на фронте, альпийские стрелки среди заснеженных горных вершин…
- За мной, Гершель! – окликнуло его эхо Майзеля из коридора, гудящего люминесцентными лампами.
Октав нервно метнулся вперед, поправляя на ходу очки. Проскочив мимо двустворчатых дверей актового зала, покрытых темно-оранжевой краской, он оказался на развилке: слева был тупик с железной дверью, за которой, судя по табличке, находилась кладовая, а справа тянулся к лестничной клетке другой коридор. Майзель был там. Он стоял перед еще одной железной дверью, которая никак не была подписана.
- Владимир Павлович, открывай! Я тебе работника привел! – постучал Майзель кулаком по двери.
Октав успел подойти до того, как натужно скрипнули петли и в коридор вышел сутуловатый мужчина, которому на вид было около шестидесяти. Из-под мютцена выглядывали седовато-русые волосы, на кончике длинного носа висели роговые очки, а кисти были усеяны пигментными пятнами. На рукаве пиджака мужчина носил белую повязку, которая выдавала в нем старосту культурхауза.
- Ты где его откопал? Что это за чудо-юдо? – буркнул он, покосившись на Октава.
- Французский мишлинг, Гершель Либерман, - улыбнулся Майзель тонкими губами. – Фармацевт и шулер, понимает по-русски, знает три языка.
- Идиш – это не язык, - угрюмо возразил староста. – Ладно, Либерман. Сейчас я тебе всё покажу, так что не считай ворон. Дважды я повторять ничего не буду.
Майзель шепотом пожелал Октаву удачи, похлопал его по плечу и ушел. Проводив беспомощным взглядом его долговязую фигуру, Октав с опаской посмотрел на старосту.
- Давай знакомиться, Либерман. Меня зовут Владимир Павлович Исаев, но ты всё равно это не выговоришь, поэтому обращайся ко мне просто – герр староста, - произнес он и взмахом руки указал на кладовую. – Там хранится бытовая химия и инструментарий. Убираться в библиотеке будешь каждый день после закрытия.
- Хорошо, герр староста, - нерешительно кивнул Октав.
- Господи, ты еще и картавый…
Вынув из кармана пиджака носовой платок, Исаев влажно откашлялся и направился к лестнице. Поднимаясь, он проводил узловатыми пальцами по стенам и касался лакированных перил, а затем внимательно разглядывал ладонь, поднося её к очкам. На втором этаже, который тоже оказался серым коридором с железными дверьми и фрактурой на табличках, Исаев продолжил инспекцию: пошевелил узорчатый тюль, осмотрел чугунную батарею, покрытую наслоениями краски, и нахмурил брови.
- Тимур! Подошел сюда, быстро! – выкрикнул он неожиданно зычным голосом.
Хлопнула где-то внизу дверь, послышались быстрые шаги, и на лестничную клетку выскочил запыхавшийся хефтлинг в полосатой робе. От жалости у Октава сдавило горло - перед ними стоял юноша лет восемнадцати: щуплый и невысокий, криво постриженный, с боязливыми глазами дворовой собаки и обветренным лицом. На полосатой рубахе Тимура ярко розовел винкель гомосексуалиста.
- Я тебе сколько раз говорил, чтобы ты работал, а не гонял лентяя? – рявкнул Исаев, указывая пальцем на батарею. – Сегодня об этом узнает твой блоковой, и тебе снова дадут на орехи!
- Простите, Владимир Павлович. Этого больше не повторится… - прошелестел Тимур. Согнувшись вопросительным знаком, он так же быстро, как и пришел, спустился обратно на первый этаж.
Повернувшись к Октаву, Исаев взял его за ворот ватника и сверкнул близорукими глазами:
- Майзель носится с тобой, как с раскрашенной корзиной, и вряд ли тебя накажет. Поэтому если ты будешь плохо работать, то лещей получишь от меня или ближайшего капо. Ясно, Либерман?
- Ясно, герр староста, - кивнул Октав, хотя было это не совсем так. Кажется, Исаев пытался сбить его с толку, намеренно пересыпая свою немецкую речь буквальным переводом русских поговорок.
Отряхнув руку об штаны, Исаев достал из кармана связку ключей и пошел, минуя театральную и музыкальную секции, в конец коридора, где размещалась библиотека. Он отпер металлическую дверь, вложил ключи в безвольную ладонь Октава и снова закашлялся. Октав растерянно взглянул на ключи. Первый слегка оттягивал ладонь, был длиной с чайную ложку и напоминал кусок арматуры, а второй, плоский и крошечный, явно предназначался для дешевого замка.
- Если тебя нет в библиотеке – дверь должна быть заперта. Если тебя нет в кладовой – дверь должна быть заперта. Это понятно? – донесся из библиотеки дребезжащий голос Исаева.
- Понятно, герр староста, - отозвался Октав, растерявшись.
Он понял, что опять ушел в себя. Надеясь, что Исаев этого не заметил, Октав сунул ключи в карман пиджака, который сидел на нем, как на пугале, и шагнул в читальный зал, освещенный бледными флуоресцентными лампами.
- И хватит уже говорить с этим мерзким акцентом. Шипишь и ойкаешь, будто горячей каши в рот набрал. Здесь тебе не штетл. Штетлов больше нет.
Октав уже хотел мысленно возразить, что не говорил сейчас на идише, однако увидел помещение, в котором теперь должен был работать, и закусил губу. С белой, как мел, стены взирал на читательские столы застекленный портрет Геббельса, противоположную стену украшали картина с крестьянами и плакат с кормящей матерью, а на библиотекарском столе поблескивал бронзовым профилем бюст Гитлера. Свозь ажурную вязь белого тюля отчетливо просматривался рыжий конус крематорской трубы, окутанный свечением лагерных фонарей и голубоватыми сумерками.
Отныне каждый день Октава начинался в пять утра. Первая неделя выдалась тяжелой: в библиотеке нужно было находиться до восьми вечера, тратя последние два часа на уборку, и всё это время в соседней комнате репетировал лагерный оркестр, который исполнял немецкие марши, народные песни и популярные шлягеры. Вслушиваясь в мажорный гул инструментов, Октав подклеивал книги, которые начали рассыпаться еще в сороковых, протирал влажной тряпкой оконные рамы и батареи, а в конце дня до блеска намывал дощатый пол читального зала и книгохранилища, крашеный в темно-рыжий цвет. Однако у такого режима было свое преимущество – возможность держаться подальше от других хефтлингов, если не считать тех, кто приходил в библиотеку, чтобы взять книгу или поглазеть на кормящую мать.
Питаться придурки, у которых было свое рабочее место, тоже могли отдельно. Как только начинался обеденный перерыв, Октав шел в столовую с пустой стеклянной банкой, а затем возвращался с порцией баланды, чтобы поесть в подсобке – темно-синей каморке без окна, которая помещалась за книгохранилищем.
Повесив ватник на крючок, Октав садился на деревянную табуретку, усыпанную пестрыми струпьями краски, и заваривал в эмалированной кружке чай. Пока тот наливался янтарной чернотой, Октав крошил в баланду кусок хлеба и съедал получившуюся кашу, звонко черпая её ложкой из мятой металлической миски. Сквозь широкое окно книгохранилища и дверной проем, где отсутствовала дверь, в подсобку проникал желтый свет полудня: он золотистыми пятнами падал на шершавый кафель всех оттенков охры, который лежал на полу расслаивающейся чешуей, и зажигал блеклый отблеск в небольшом зеркале, висящем около вешалки. После еды Октав обычно курил, выдыхая дым в открытую форточку и стряхивая пепел в банку из-под кофе.
Исаев и Тимур тоже держались особняком. Первый целыми днями сидел в своей каморке, слушая радио или читая книги, а второй с понурым видом убирался на обоих этажах, таская за собой ведро и швабру, маркированные розовым треугольником – негласный лагерный кодекс запрещал прикасаться голыми руками к гомосексуалистам и их имуществу. Нарушать этот кодекс Октав не желал. Вместо этого он лишь аккуратно обходил свежевымытые участки пола, но Тимуру, судя по его быстрым понимающим взглядам, было достаточно и этого.
К концу первой рабочей недели Октав наловчился подклеивать ветхие книги, заполнять читательские карточки и раскладывать по коробкам устаревшие выпуски газет, которые администрация обязывала хранить в течение года. За эти пять дней дважды работал крематорий, выбрасывая в воздух рваные клочья дыма, оставшиеся от погибших хефтлингов. Дым смешивался с тяжелыми тучами, которые напоминали сгустки газа, а в ледяном воздухе оседал сладковатый смрад паленой плоти. Теперь Октав знал, как всё закончилось и где. Теперь он, неуклюже переставляя ноги, бродил по мерзлому чернозему, унавоженному кровью его сородичей, теперь он дышал воздухом, в котором они бесследно растворились тридцать лет назад.
О существовании внешнего мира, где людей хоронили на кладбищах, а не сжигали в печи, напоминали лишь газеты, поступающие из города, и одной из них была "Паульмундер адлер", главредом которой некогда работал Исаев, пока его не посадили на десять лет за заголовок об "истерической миссии Германии". Паульмунд виделся Октаву тихим провинциальным городом, где ставили спектакли в драматическом театре, отмечали на главной площади языческую Масленицу и искали пропавших детей. "Помогите найти ребенка!", - требовал заголовок, напечатанный режущим готическим шрифтом над фотографией очередного мальчика. Пропадали они чуть ли не каждый месяц.
Предположений у Октава возникло много, но обсуждать их с Исаевым он не стал. Наиболее подходящим собеседником представлялся Майзель, и вечером того же дня, незадолго до отбоя Октав постучался к нему в комнату. Получив разрешение войти, он обнаружил, что Майзель готовится к Новому году: тот приклеивал к мшисто-зеленым стенам большие снежинки, вырезанные из серебристой фольги. Тусклое свечение лампы отпечатывалось в них смутными переливами, на запястье у Майзеля висел рулон бумажного скотча, а через окно, возле которого стояли заправленная койка с тумбочкой, было видно, как курит у крыльца своего барака полосатая масса уголовников.
- Как дела, Гершель? – приветливо спросил Майзель, отматывая скотч. – Никто не беспокоит?
- Со мной всё в порядке. Но есть один вопрос.
Потоптавшись в пороге, Октав прошел вглубь комнаты и закрыл за собой дверь. Майзель, насвистывая себе под нос веселенький мотив, зубами оторвал кусочек скотча и взял с тумбочки снежинку.
- Я тут газеты почитал. Старые… - начал Октав, переминаясь с ноги на ногу. – И заметил, что в городе мальчишки пропадают.
- Так они и в прошлом году пропадали, - сказал Майзель и прилепил снежинку к стене. - Местные говорят, что детей похищают евреи, но это, конечно, чепуха. Всех евреев убили в сороковых.
- А что происходит на самом деле?
Повернувшись к Октаву, Майзель взглянул на него с высоты своего двухметрового роста и снисходительно улыбнулся:
- Откуда я знаю, Гершель? И вообще, какая тебе разница? Они же немцы.
- Никой разницы. Я просто так спросил, - сконфузился Октав.
Субботу он провел в культурхаузе, хотя по выходным библиотека не работала. Оркестр готовился к воскресному концерту, раз за разом играя "Хорста Весселя", а Октав сосредоточенно мыл полы, протирал пыль и перебирал в памяти лица пропавших мальчиков, которые, как верно подметил Майзель, действительно имели нордическую внешность и мало чем друг от друга отличались. Добившись наконец чистого звучания, оркестр приступил к "Эрике", но Октав, погруженный в мучительные раздумья, этого не заметил.
Вечером, когда уже стемнело, он запер библиотеку и пошел в кладовую, чтобы оставить там ведро и швабру. Из музыкальной секции доносился смех, перемежающийся тихим звоном стаканов, по лестничной клетке гулкими отзвуками метались шаги Октава, в каморке Исаева шипели искаженные голоса радиоприемника.
Дойдя до кладовой, Октав прислонил швабру к стене, поставил рядом ведро и начал открывать дверь. Ключ вошел в замок до половины и застопорился. Октав зашипел сквозь зубы. Воровато оглянувшись, он убедился, что поблизости никого нет, и с осторожностью пошевелил ключом, надеясь не сломать замок окончательно. В кладовой что-то звякнуло, ключ вошел до конца, и дверь поддалась. Из темноты пахнуло мокрым деревом. На грубом дощатом полу блеснул ключ с розовой биркой.
Октав нервно сглотнул и перевел взгляд в дальний угол кладовой, к которому тянулась его тень, обрамленная конусом света. Возле стопки оцинкованных ведер валялся серый валенок. Второй валенок висел в воздухе, а рядом с ним болталась нога в шерстяном носке, торчащая из полосатой штанины. У Октава сбилось дыхание. Глаза привыкли к темноте, и теперь из неё неясными очертаниями проступало человеческое тело, висящее в грязно-белой петле.
Октав отшатнулся в коридор и дрожащей рукой притворил дверь. Мелко постукивая зубами, еле держась на негнущихся ногах, он отправился к Исаеву. Тот до сих пор был в каморке. Шипело радио, поздравляя с днем рождения Михаила из Читы, на электрической плитке дышал паром чайник с красным цветком, а Исаев сидел в продавленном кресле, жевал бутерброд с маслом, густо посыпанный сахаром, и читал "Раскольникова".
- Чего тебе, Либерман? – буркнул он, не отрываясь от книги.
- Там труп в кладовой, герр староста…
Исаев тяжело вздохнул. Уставившись перед собой, он беззвучно пошевелил губами.
- В кладовой труп висит. Это Тимур… - повторил Октав.
- Сходи на КПП и расскажи обо всём фельдфебелю, - приказал Исаев, не меняя позы.
Забрав из библиотеки ватник, Октав спустился в фойе, украшенное фикусами, арийской живописью и неказистым новогодним декором. По глинисто-серым стенам змеилось ртутное многоцветье мишуры, с потолка паутиной свешивались серебристые нити, мерцали в бледном свечении вырезанные из фольги шишки. Октав шатко вывалился на порог, успев в последний момент схватиться за косяк. Завывал ветер, гоняя по земле седые клочья поземки. Под фонарями металась снежная крошка. Бараки сливались в одно большое, бесформенное, глинисто-рыжее пятно. Сморгнув остывшие слезы, Октав запахнул ватник и побрел в сторону КПП.
Ночь выдалась тревожной. Октав то проваливался в зыбкую дрему, где его поджидал зернистый осенний лес, кишащий висельниками в полосатых робах, то выныривал обратно в койку, откликаясь на каждый скрип доски, доносящийся из коридора. В понедельник ему представили нового уборщика – молдаванина Эмиля Виеру, который тоже, как и Тимур, был молодым гомосексуалистом, однако вел себя до тошноты угодливо. Худое лицо, покрытое язвочками, и вьющиеся темные волосы делали Эмиля похожим на богемного наркомана, а бледно-зеленые глаза неизменно сохраняли оценивающее выражение, вступая в диссонанс с чрезмерно дружелюбной мимикой.
"Стукач", - предположил Октав и решил на всякий случай держаться от Эмиля подальше.
До самого полудня Октав перебирал книги, в которых еврейские дельцы обманом отнимали землю у наивных крестьян, отважные скалолазы покоряли силой немецкого духа неприступные горы, а матери отправляли на фронт возмужавших сыновей. Поглощенный имитацией работы, Октав не заметил, как начался обеденный перерыв. В библиотеке повисла сонная, хрустальная тишина.
Когда Октав понял, что перевалило за двенадцать, он дернулся на месте, как ошпаренный - тем, кто приходил в столовую последним, обычно доставался пустой бульон. Торопливо собрав с пола книги, Октав вернул их на полку с арийским реализмом. Растекался по металлическим стеллажам тусклый свет, жались друг к другу тома с пожелтевшими корешками, на гудронную крышу крематория хлопьями валил снег. Отряхнув руки от пыли, Октав направился в читальный зал, но тут же замер в проходе, уловив боковым зрением чужое присутствие. В трех шагах от Октава, преграждая ему путь, стояла без движения черная тень.
- Да не пугайся ты так, я на тебя посмотреть пришел, - сказала тень, неуклюже изображая хохдойч.
Поняв, с кем он столкнулся, Октав сдернул с головы мютцен. Перед ним, широко расставив ноги, возвышался коренастый штурмманн СС, лет примерно двадцати пяти. На черном кепи взблескивала мертвая голова, с шеи свисала фотокамера "Лейка", а мешковатые брюки складками ложились на солдатские ботинки. Штурмманн с нескрываемым любопытством рассматривал Октава, ворочая серыми, чуть выпуклыми глазами. Его тонкие, но мясистые губы слабо подрагивали, так и норовя изогнуться в улыбке, а пальцы барабанили по резиновой дубинке, которая болталась на форменном ремне.
- Добрый день, герр штурмманн, - неуверенно произнес Октав.
- Вблизи ты интереснее. Я видел тебя на аппельплацу. Помнишь?
Октав закивал. Он вспомнил, как прогуливался возле барака странный эсэсовец, и теперь понимал, что встретился с ним лицом к лицу. Не то что бы Октав был этому рад.
- У тебя, кажется, отец живет в Галиции?
- Да. Он служил в вермахте.
- Я тоже из Галиции. Считай, почти земляки, - сказал штурмманн и, не сдержавшись, улыбнулся. – Отцу-то пишешь?
- Пишу. Но он не отвечает, - признался Октав, с тоской вспомнив три отправленных письма, в которых он сообщал отцу о своей судьбе.
Штурмманн сочувственно произнес:
- Не расстраивайся раньше времени. Тут такая почта, что письма месяцами идут. Застревают на сортировочной станции. Здесь всё медленно работает, ты скоро привыкнешь.
Октав понуро кивнул, глядя перед собой и комкая в руках мютцен. Оставалось лишь надеяться, что письма действительно потерялись.
- Меня зовут штурмманн Страшко. Я тут старший надзиратель. Мой отец служил в дивизии "Галичина", - представился он, впился в Октава стылым взглядом и посерьезнел. – Тебя зовут Октав Леопольд Гаже, но я знаю, что это фальшивое имя. Для гоев. Тебя мама дома как называла?
- Гершель... – с неохотой признался Октав.
- Гершель… - повторил Страшко, словно пробуя его имя на вкус. Вновь расплывшись в улыбке, он снял с шеи фотоаппарат. – Пойдем в подсобку. Гершель. Там фон хороший. Я тебя сфотографирую для коллекции.
Октав склонил голову. Страшко вел себя загадочно и, насколько это было возможно для его статуса, дружелюбно, но именно поэтому его не следовало злить: Октав прекрасно знал, как быстро приветливость может сменяться гневом. С опаской повернувшись к Страшко спиной, Октав побрел в подсобку. Стало ясно, что сегодня придется обойтись без обеда.
- Встань тут, лицом к вешалке. Хочу сфотографировать твой шнобель, - указал Страшко пальцем в центр подсобки.
Съежившись, Октав нехотя встал перед вешалкой, на которой висел его ватник. Повернулся выключатель, подсобка наполнилась блеклыми потеками люминесцентной лампы, и Страшко умолк, погрузившись в творческий процесс: он кругами ходил вокруг Октава, перебирал ракурсы и щелкал затвором фотоаппарата. Октав стоял без движения, вытянув руки вдоль туловища, и безучастно смотрел перед собой. В зеркале то появлялся, то исчезал бледный световой потек.
Когда Страшко в очередной раз оказался у Октава за спиной, послышался тихий стук, с которым обычно касалась стола миска баланды. Не успел Октав обернуться, как вокруг его шеи локтевым захватом обвилась цепкая рука, пахнущая табачным дымом и одеколоном "Альпы", который можно было купить на любой станции Остбанна. От осознания того, что сейчас произойдет, Октав вздрогнул.
- Не надо, герр штурмманн… - выдавил он, боясь пошевелиться.
- Если не будешь дергаться, то всё пройдет хорошо, - тяжело задышал Страшко ему в ухо.
Октав стиснул зубы, зажмурил глаза и окунулся в плотную, вязкую темноту. Темнота пахла хлоркой, дешевыми сигаретами и тошнотворно-свежим одеколоном.
- Мой картавенький друг… Ты идешь на своеобразный подвиг… - произнес Страшко, не скрывая хищнического восторга, и резко сдавил Октаву шею.
Октав надсадно хрипел и хватал ртом воздух, пытался издать громкий вопль и вслепую цеплялся за рукав форменной куртки, наступал соскальзывающим валенком на ботинок Страшко. Легкие горели, в ушах ревел кровоток, перед глазами расцветали темные круги. Октав понимал, что его уже никто никогда не услышит, но всё равно из последних сил еле слышно забулькал горлом.
- Да не дергайся ты, дурак пархатый! Тебе же хуже будет! – прошипел Страшко по-русски.
Октав сделал последнюю попытку вырваться, конвульсивно содрогнулся и почувствовал, как холодит щеку неровно уложенный кафель. С изумлением он увидел перед собой скошенные ножки табуретки, валяющийся под столом мютцен и фрагмент синей стены. Сухо щелкал фотоаппарат, шевелилась на периферии зрения паукообразная тень. Шумно втянув воздух, Октав вздрогнул от боли в шее и вспомнил, что произошло с ним мгновение назад. Страх закопошился в солнечном сплетении клубком червей. Октав вскочил на ноги, однако потерял равновесие, рухнул на ближайшую стену и обессиленно сполз по ней на пол. Пальцы подергивало тремором, до тошноты кружилась голова.
- Да успокоишься ты или нет? – послышалось раздраженное шипение Страшко.
Оторопев, Октав медленно поднял голову. Страшко нависал над ним, пряча рыбье лицо за фотоаппаратом, врезаясь черной тенью в пустой дверной проем. Глаза Октава распахнулись, вспыхнули лихорадочным блеском и забегали из стороны в сторону.
- Вот и всё. А ты боялся, - с облегчением выдохнул Страшко и положил фотоаппарат на стол.
- Что это было, герр штурмманн?.. – сиплым шепотом выдавил Октав.
Тот горделиво усмехнулся, уперев руки в бока:
- Медицинский эксперимент. Помнишь, что произошло перед тем, как ты отключился?
- Своеобразный подвиг… - ответил Октав, ворочая непослушным языком.
Услышав это, Страшко искривился. Он подошел к окну, распахнул форточку и щелкнул спичкой об коробок. С улицы потянуло ледяной свежестью, по воздуху поплыли сизые извивы дыма. Страшко курил и молча о чем-то думал. Падали хрупкие хлопья снега, прыгал по карнизу нахохлившийся воробей.
Октав закусил губу. Кажется, добивать его Страшко не собирался. С трудом встав, Октав подобрал мютцен, привалился к стене и обвел подсобку помутневшим взглядом. Шипел белый шум, подрагивали контуры предметов, резал глаза тусклый свет.
- Я читал в одной книге, что можно вызвать у человека потерю памяти, слегка его придушив. Чтобы человек забыл, что на него нападали, - произнес черный профиль Страшко. Затянувшись, он выдохнул зыбкое облако дыма. – Если сделать всё правильно, то человек забудет не больше пары часов. Но у меня до сих пор ничего не получается.
Октав поежился от сквозняка, забравшегося под расстегнутый пиджак:
- Это значит, что вы не пытались меня убить?
Страшко издал довольный смешок:
- Зачем мне тебя убивать? Ты мне живой нужен.
Октав покосился в сторону читального зала. Если там кто-то был, то спасение могло прийти с неожиданной стороны.
- Не бойся, нас не подслушивают. Я запер дверь, когда пришел.
- Мне нельзя запираться в библиотеке… - пробормотал Октав, и его лицо дернулось в плаксивой гримасе. Сознание медленно прояснялось, давая дорогу вяжущему ужасу.
Страшко повернулся к нему, держа в руке тлеющую сигарету, и холодно блеснул глазами из-под черного кепи:
- Во время обеда – можно. А если прихожу я, то даже нужно. Ты ведь не хочешь, чтобы все увидели, как ты без сознания валяешься на полу? Мало ли, кто тебя найдет… И что он захочет с тобой сделать.
- Вы что, придете снова?! – севшим голосом воскликнул Октав. Еще сильнее затряслись пальцы, и он до белизны в костяшках сжал кулаки.
- Ты помнишь Тимура, Гершель? – оскалил Страшко ровные зубы, покрытые желтоватым табачным налетом. – Исаев сказал, что именно ты нашел его труп.
Октав судорожно закивал. Перед мысленным взором возник серый валенок, лежащий на дощатом полу, и к горлу подкатил тошнотный ком. Мир задрожал, готовясь рассыпаться на блеклые акварельные пятна. Судорожно вздохнув, Октав всхлипнул.
Страшко выбросил бычок в банку из-под кофе, закурил новую сигарету и властно произнес:
- Тимур умер не сам. Ему помог я. И если ты тоже будешь кобениться, то вряд ли вернешься домой. Никто даже не удивится, если однажды тебя найдут в петле. В концлагере всякое может случиться, особенно с таким воспитанным еврейчиком из Лемберга, как ты.
- Кладовая была заперта. Изнутри… - пробормотал Октав, сдвинув брови.
- А ты наблюдательный, - усмехнулся Страшко. – Впрочем, ты ведь шулер. Но не взломщик, поэтому в замках разбираешься плохо. Я вставил ключ не до конца, а потом запер дверь снаружи, чтобы Тимура точно посчитали самоубийцей.
Схватившись за голову, Октав запустил пальцы в спутанные волосы. Он припомнил субботний вечер, свой маршрут от библиотеки до кладовой и то, как застрял в замке ключ, войдя лишь наполовину. Кажется, Страшко не шутил.
- Хорошо, герр штурмманн, я понял… - произнес Октав срывающимся голосом, в котором всё яснее проступало крайнее изумление. – Скажите только… Чего именно вы от меня хотите? Вы что, душить меня будете?
- Ага. Раз в месяц, чтобы ты здоровье не подорвал. Десять минут без сознания, и можешь дальше книжки читать. В тепле и комфорте. Согласен?
Октав закусил губу, по щекам побежали горячие слезы. Глядя на подрагивающую чернильную тень, в которую превратился Страшко, Октав уронил голову на грудь в тяжелом кивке. Его не покидало мучительное, позорное чувство, будто его окунули головой в грязную лужу.
- Вот и отлично. Подойди ко мне.
Октав нехотя приблизился к Страшко и, попав под сквозняк, задрожал от холода. Страшко пристально посмотрел на Октава, схватил его за правую руку и потянул на себя, сдвигая с бледного запястья обшлаг пиджака. Октав слабо вздохнул. Страшко затянулся, медленно выпустил дым – и в оголенную кожу запястья ткнулся раскаленный кончик окурка. Октав дернулся и вскрикнул, но быстро зажал себе рот ладонью, чтобы его не услышали в коридоре.
- Свободен. Можешь идти обедать, - небрежно бросил Страшко и щелчком пальцев отправил окурок за окно. – Увидимся перед Новым годом.
Похлопав Октава по обмякшему плечу, Страшко прошел мимо книжных стеллажей, заслонил собой библиотекарский стол с бюстом Гитлера и скрылся в читальном зале. Умолкли шаги, лязгнул замок, протяжно скрипнула железная дверь. Всё стало как раньше: сонная тишина, тусклый свет полудня, снежные хлопья над крематорием… Не до конца веря собственной памяти, Октав посмотрел на запястье, въедливо пульсирующее болью. Ожог был настоящим, боль была настоящей и унизительной.
В столовую Октав не пошел. Часто и глубоко затягиваясь, он сидел у открытой форточки, стучал зубами, кутаясь в пиджак, и пытался осмыслить произошедшее. Если Страшко был обычным антисемитом, то удушение вполне могло быть разовым актом запугивания или попросту злой, извращенной шуткой. Но если Страшко был настоящим психопатом, то ожидать от него можно было чего угодно. Замерев с сигаретой в руке, Октав мрачно уставился в пустоту. Как можно было выйти из положения, имея на руках настолько плохие карты, он не знал.
Страшко вернулся в конце декабря – как и было обещано, всё с тем же фотоаппаратом на шее. Завидев его, Октав натянуто улыбнулся, снял мютцен и отложил в сторону тряпку, которой уже полчаса протирал читательские столы. Страшко улыбнулся в ответ и поставил на стол банку облепихового варенья. Желтовато-золотистое варенье тускло переливалось, будто шелк. Около банки пыльным комом валялась серая тряпка. За стеной рокотал оркестр, снаружи выла метель.
- Бери, не бойся, оно не отравлено. Мама делала, очень вкусное, - сказал Страшко.
Октав дрожащими руками взял банку, спрятал её в нижний ящик библиотекарского стола и запоздало удивился, что у Страшко есть мать, к которой тот даже питает человеческие чувства. Вспомнив о том, что он планировал сегодня сделать, Октав потупился и боязливо заговорил:
- Герр штурмманн…
- Чего тебе? – недовольно буркнул тот.
- Вы правда… собираетесь душить меня раз в месяц? Вы не шутите?
- Я никогда не шучу.
Октав побледнел. Скорбно вздохнув, он поправил очки, сползшие на кончик носа, и продолжил говорить, подбирая слова с осторожностью сапера:
- Я так понял, что меня сделали библиотекарем, потому что вам так удобнее. И выходит, что всё это – моя расплата за комфортную должность. И у меня возник вопрос, герр штурмманн… Если я скажу, что готов уйти из библиотеки на лесоповал, вы меня отпустите?
Промямлив свою просьбу, Октав переступил с ноги на ногу и выжидающе замер. За стеной, сбившись на визгливую дисгармонию, грохнули трубы. Страшко долго смотрел на Октава из-под кепи и, ничего не говоря, изучал его стылым рыбьим взглядом. Октав поежился. Страшко снял с шеи фотоаппарат, положил его на стол и произнес:
- Отличная речь, Либерман. Замечательная речь. Если бы закон не запрещал жидам учиться на юридических факультетах, из тебя получился бы хороший адвокат.
- Значит, не отпустите? – рискнул уточнить Октав.
- Конечно, не отпущу. Как в твою идише копф вообще могла прийти такая мысль?
Взяв с читательского стола пыльную тряпку, Страшко смял её в кулаке и шагнул в сторону Октава, который, медленно отступая, пятился к занавешенному тюлем окну.
- Кажется, Либерман, тебя что-то не устраивает, - глухо произнес Страшко. – Ничего. Сейчас я всё тебе объясню, и ты больше не будешь задавать глупых вопросов.
Нужно было срочно что-то предпринять. Октав схватил первое, что удалось нащупать, и бюст Гитлера, блеснув бронзовой портупеей, описал в воздухе крутую дугу. Страшко, имеющий за плечами армейскую физподготовку, непринужденно заломил Октаву руку и толкнул его в книгохранилище. Бюст с шумом упал под стол, оцарапав крашеные доски. Октав ударился всем телом об пол, вскрикнул и попытался встать, но что-то тяжелое заставил его рухнуть обратно. Стукнувшись головой об чугунную батарею, Октав протяжно застонал.
- Хрен тебе, а не лесоповал. Ферштейн, жиденок? – цедил Страшко сквозь зубы, пинками направляя его к подсобке. - Если еще раз скажешь, что тебе что-то не нравится, я тебя калекой сделаю. Будешь всю жизнь с костылями ходить!
Октав прижал колени к груди, защищая почки, и солдатский ботинок врезался ему в лицо. Очки отлетели в сторону, нос вспыхнул болью. По щеке, затекая в угол рта, побежала теплая кровь.
- Перестаньте, я всё понял! – воскликнул Октав, корчась в тени стеллажа.
- Ничего ты не понял, урод. Только и думаешь, как бы меня обдурить!
Навалившись на Октава, Страшко затолкал ему в рот пыльную тряпку. Октав задергался и попытался вытолкнуть её языком, но Страшко крепко зажал ему рот ладонью. Октав глухо замычал, давясь кляпом, и тут же сорвался на гортанный клекот – второй рукой Страшко сдавил ему горло. Стремительно слабея, Октав вцепился в его руки и захрипел что было сил, но на этот раз совсем ничего не услышал.
- Не хотел по-хорошему? Получай теперь, свинья, - злорадно произнес Страшко, растворяясь в сероватой мути.
Когда Октав очнулся, ему не удалось вспомнить, что с ним произошло. Сгибаясь от боли в ребрах, он схватился за ушибленный бок и шатко поднялся на колени. Болел нос, саднила шея. Кружилось книгохранилище, на губах трескалась запекшаяся кровь, накатывало тяжелыми волнами предчувствие тошноты. Отыскав мутным взглядом очки, валяющиеся около батареи, Октав трясущимися пальцами подцепил их и водрузил на нос. Во рту явственно ощущался суховатый привкус пыли.
- Ну как? Доволен? – послышался спокойный мужской голос.
Дернувшись, Октав вскинул голову и увидел Страшко. Тот стоял возле стеллажа и курил, стряхивая пепел на пол. Около ботинка Страшко влажным комом лежала тряпка, а под библиотекарским столом отблескивал острым уголком бюст Гитлера. Октав вспомнил, что произошло. Он схватился за голову, сжался в комок и, поскуливая от ужаса, заплакал.
- Не надо этого, Гершель. Не надо, - сочувственно произнес Страшко, обдав его дымом. – Если больше не будешь театр устраивать и руками махать, то и я стану хорошо к тебе относиться.
- Только не убивайте меня, герр штурмманн… - всхлипнул Октав. Он умоляюще глядел на Страшко снизу вверх.
- Я не убью тебя, если ты согласишься на мои условия.
- Я согласен, герр штурмманн! Господи боже, я согласен, согласен… - запричитал Октав. Он вытирал слезы рукавом пиджака и не понимал, что размазывает по лицу высохшую кровь.
- Ну вот, совсем другое дело. Теперь ты мне нравишься гораздо больше, - улыбнулся ему Страшко, как старому товарищу.
Наклонившись к Октаву, он взял его за руку и потушил окурок об бледное запястье. Октав простонал и отдернул руку, но та лишь безвольно упала ему на колени. Окурок коснулся пола и закатился в щель между досками.
- С наступающим, Гершель. Надеюсь, в следующий раз ты не попытаешься меня убить.
Потрепав ошеломленного Октава по волосам, Страшко как ни в чем ни бывало покинул книгохранилище. Октав проводил незрячим взглядом его коренастый силуэт, схватился за батарею и, не ощущая жара, встал на ноги. Цепляясь за стеллажи, он побрел в подсобку, чтобы стереть с лица кровь.
Пообедать в тот день не удалось – не было ни сил, ни желания. Остаток перерыва Октав провел, охлаждая лоб мокрым носовым платком, и ему стало немного лучше. Состояние крайней растерянности, которое сохранялось до вечера, он успешно от всех скрыл, а под конец дня заметил, что на горле налились легкой краснотой синяки, оставленные пальцами Страшко. Воспользовавшись статусом придурка, Октав обмотал вокруг шеи мохеровый шарф. Нетронутая банка варенья так и осталась в ящике библиотекарского стола.
- С наступающим, Гершель! – радостно воскликнул Майзель, на которого Октав наткнулся в узком коридоре барака.
От поздравления, которое теперь звучало зловеще, Октава передернуло.
- Спасибо, Меир. Тебя тоже с праздником, - сконфуженно пробормотал он.
- Вижу, тебя уже кто-то поздравил, - помрачнел Майзель, заметив его опухший нос.
Октав лишь нахмурился и кивнул.
- Пойдем ко мне. Я хотел, чтобы мы с тобой выпили в честь праздника, но теперь вижу, что тебе точно без этого не обойтись.
Проследовав за Майзелем в его комнату, Октав позволил усадить себя на табуретку. За окном кружила пурга, бледно светила потолочная лампа, на темно-зеленых стенах поблескивали резные снежинки из фольги. Майзель отыскал в тумбочке металлическую фляжку и протянул её Октаву. Тот взял фляжку, сделал большой глоток и, резко искривившись, пожалел о своем опрометчивом решении – водка обожгла и без того пострадавшее горло. Зажмурившись, Октав слепо ткнул фляжкой туда, где предположительно находился Майзель. Фляжку забрали, и послышалось глухое бульканье.
Придя в себя, Октав открыл глаза. В соседней комнате, рассыпая по воздуху тягучие ноты, пиликала губная гармошка. Майзель, снявший валенки, по-турецки сидел на заправленной койке. Его серая тень тянулась к потолку, а фляжка, отсвечивая мятыми боками, лежала на взбитой подушке.
- Рассказывай, - участливо произнес Майзель.
- С чего мне начать?
- С чего хочешь.
Октав утомленно потер лицо ладонями. Водка наполнила его тупым спокойствием животного, которое набило брюхо кормом, прониклось любовью к хозяину и временно забыло о неизбежной смерти на скотобойне.
Собравшись с мыслями, Октав через силу усмехнулся:
- Отец не отвечает на мои письма. После лагеря меня вряд ли возьмут на хорошую работу. Штурмманн Страшко уже дважды меня избил. Кажется, пока всё.
Про эксперименты, связанные с асфиксией, Октав упоминать побоялся – фамилия у штурмманна оказалась говорящая.
Майзель удивленно вскинул брови, словно ожидая разъяснений. Октав стянул с шеи шарф, запрокинул голову и продемонстрировал Майзелю посиневшие синяки. Когда тот шевельнул губами, намереваясь задать вопрос, Октав с мрачным спокойствием показал запястье, где виднелись два сигаретных ожога: старый, уже покрывшийся коростой сукровицы, и свежий, надувшийся желтоватым пузырем.
- Да уж… Дело швах, - нахмурился Майзель, глядя на ожоги, и добавил. – Слива жесток, но умеет сдерживаться. Если это, конечно, может тебя утешить.
- Слива? – недоуменно переспросил Октав.
- В прошлом году, когда его только сюда перевели, он ввязался в драку с городскими. Так сильно получил, что долго ходил с синим носом. Потому и Слива.
- Замечательно. И что мне теперь делать с этим Сливой?
- К сожалению, он ходит в любимчиках у коменданта. Постарайся не злить его. Когда ему станет скучно, он переключится на кого-нибудь другого.
Молча кивнув, Октав уставился в пространство. Он не представлял, как в таком случае можно спастись, но точно был уверен, что сбегать из лагеря не стоит – побеги карались казнью, и болезненность этой казни зависела лишь от фантазии коменданта. Октав уже знал, что за исполнение смертных приговоров негласно отвечают оберштурмфюрер Олендорф, старшая надзирательница Вольф, которая била мужчин по половым органам, и надзирательница Магалл, обожающая тушить об людей сигареты. Поговаривали даже, что за казнями, которые обычно проходили в подвале политического отдела, комендант наблюдает лично – исключительно ради увеселения, и Октаву не хотелось становиться экзотическим развлечением для заскучавшего немца.
Майзель слез с кровати, достал из тумбочки опасную бритву с перламутрово-белой ручкой и протянул её Октаву.
- На всякий случай, - объяснил он.
- Спасибо, - тихо произнес Октав и спрятал бритву в карман пиджака.
На этом разговор был исчерпан. Вернувшись к своей комнате, Октав нырнул под пеструю занавеску и понял, что кухрабочие до сих пор в пищеблоке – койки были заправлены, а вешалка пуста. Стянув с себя робу, Октав забрался под колючее шерстяное одеяло, снял очки и зарылся лицом в подушку. Ползали в темноте искаженные дневные впечатления и цветастые клочья грез, а Октав, прислушиваясь к далекому, явно несуществующему воплю, погружался в синеватый, рябящий помехами сон, где он на законных основаниях жил в Паульмунде, фотографировал юрких лесных птиц и делил постель с надзирательницей Магалл.
В январе Страшко сделал то же самое, что и в прошлый раз - напугал Октава. Вернувшись из столовой с банкой теплого борща, в котором плавали волокна говядины, Октав обнаружил, что Страшко уже ждет его в подсобке, по-хозяйски сидя на табуретке и неприятно, чуть ли не сально улыбаясь. Снаружи густо падал сахарный снег, на столе отражала слабый свет банка яблочного варенья, а рядом с ней, мертвенно поблескивая линзой, лежал фотоаппарат.
- У вас что, ключ есть? – озадаченно спросил Октав, пока его рука стягивала с головы ушанку. Он отчетливо помнил, что перед уходом в столовую запер библиотеку, чтобы не получить от Исаева затрещину, как это произошло на прошлой неделе.
- А ты как думал, Гершель? Конечно, есть. Я же старший надзиратель, - усмехнулся Страшко. – Будь добр, сходи и закрой дверь. Не хочу, чтобы нас беспокоили.
Поставив банку с борщом на стол, Октав порадовался тому, что сегодня съест его хотя бы холодным, и ушел в читальный зал. Вернувшись, он снял ватник, повернулся к Страшко спиной и покорно запрокинул голову, подставив ему шею с подрагивающим выступом кадыка. Страшко усмехнулся еще шире, встал с табуретки и хрустнул суставами пальцев.
Октав решил принять правила игры. Бритва, подаренная Майзелем, была надежно спрятана в рукаве ватника, и хотя Октав понимал, что ему попросту не хватит духа ей воспользоваться, само наличие оружия необъяснимым образом успокаивало.
Пролетели, как одно мгновение, февральские холода, и на смену им пришла дурманящая свежесть весны. Таяли ноздреватые сугробы, журчали ручьи, медленно нагревались под солнцем мерзлые пашни. Всякий раз, когда удовлетворенный Страшко покидал библиотеку, Октав пережидал головокружение и обвязывал запястье бинтом, чтобы скрыть от чужих глаз еще один ожог. Звенела капель, истошно вопили грачи, наливалась синевой глазурь небосвода. Октав чувствовал, как размывается его пошатнувшийся рассудок, как притупляется боль, как память превращает минувшие удушения в блеклые фантомы, лишенные эмоционального окраса. Отец не отвечал на письма, и писать ему Октав перестал.
Страшко, пытаясь казаться человечным, дарил Октаву варенье, которое заготавливала его домовитая мать. Есть варенье Октав опасался, поэтому пускал его на товарный обмен, если нужно было подшить робу, достать теплую одежду или вскрыть гнойник. Банки слегка отдавали дымом, но ни один из хефтлингов, с которыми Октав об этом заговаривал, так не считал.
Летом бетонные клумбы набухли ажурными васильками, белыми ромашками и полосатыми петуниями. Октав перепрятал бритву в висящий на стене шкафчик, где обычно хранил еду. Комендант наконец распорядился убрать плакат с кормящей матерью и повесить взамен что-нибудь, где не будет обнаженных женщин. Получив от Исаева старомодную афишу "Триумфа воли" с крайне мужественным штурмовиком, Октав не без удовольствия выполнил приказ - кормящая мать болезненно напоминала ему фрау Зоммерфельд.
В один из июльских дней, когда на концлагерь грозовым фронтом ползли тяжелые черные тучи, Октав вернулся из столовой с порцией солянки и вновь обнаружил в подсобке Страшко, однако на этот раз уже не удивился. На столе его дожидались фотоаппарат и банка малинового варенья.
- Запри дверь, друг мой, - с гаденькой улыбкой приказал Страшко.
Сняв мютцен, Октав оставил банку с обедом на подоконнике, ушел в читальный зал и повернул ключ. Громко лязгнул замок, в теплом воздухе увязло хрупкое эхо. Октав лихорадочно схватился за голову, но тут же вздохнул, вынудил себя успокоиться и поплелся обратно. Сквозь окна книгохранилища пробивались медово-желтые лучи, в которых невесомой пудрой кружилась пыль. Шаркала возле крематория метла, клубились над пулеметными вышками тучи, похожие на косяк разлагающихся рыб.
Вытерев вспотевшие ладони об штаны, Октав вошел в подсобку и остолбенел. Страшко сидел на табуретке, хмурился и лениво вертел в руках опасную бритву. Анемично мерцал белый перламутр, искрилась гладкая сталь, ослепляя Октава режущими переливами.
- Что это такое, Гершель? – строго спросил Страшко, показав ему бритву.
- Это… для моих нужд, - произнес Октав онемевшими губами. В голове зашумело, будто он нырнул с обрыва, нагретого солнцем, в холодную толщу реки.
- Неужели? – усмехнулся Страшко.
Растерявшись от неожиданности, Октав судорожно закивал.
- Ну и зачем тебе эта бритва, если обычно ты пользуешься электрической? А, Либерман?
Октав потупился и втянул голову в плечи. Его не покидало ощущение, что если он заговорит, то после первого же слова сорвется на бессвязные вопли.
- Почему молчишь, жид? Нечего сказать? Или хочешь, чтобы я тебе зубы выбил?
- Я думал о суициде, герр штурмманн, - пробормотал Октав первое, что пришло ему в голову.
- О суициде, значит…
Встав с табуретки, Страшко подошел к Октаву, разжал его пальцы с нестрижеными ногтями и вложил бритву в обмякшую ладонь. Октав распахнул глаза: сначала посмотрел на острое лезвие, а затем на Страшко. Тот неотрывно глядел на Октава, как охотник на дичь. В петлице его форменной куртки горели серебром эсэсовские молнии.
- Докажи. Если будешь достаточно убедителен, то я тебе поверю и не стану бить по лицу. По крайней мере, сегодня, - произнес Страшко, дыхнув на Октава чесноком.
Отступив назад, он вновь расположился на табуретке: широко расставил ноги, уперся руками в колени и подался вперед, словно ожидал увидеть нечто, будоражащее кровь.
Октав не мог пошевелиться. Он отупело глядел на бритву и не знал, как поступить. В двух шагах от него сидел Страшко, чья загорелая шея торчала из воротника коричневой рубашки, но Октав с ужасом осознавал, что не сможет перерезать горло другому человеку – даже такому психопату, как Страшко. К тому же, тот наверняка рассчитывал на попытку сопротивления, чтобы пресечь её и, как это произошло в декабре, наказать Октава особенно жестоко.
Октав нахмурил брови и закатал левый рукав. Под бледной, как застиранная простыня, кожей змеились синеватые росчерки вен. Страшко улыбнулся во весь рот, обнажив желтоватые зубы. Жужжала муха, удушающе пахло одеколоном "Альпы". Октав выдохнул, зажмурился и изо всех сил ударил себя лезвием по руке. Порез разошелся, вывернув наружу мясистые края, и набух гранатово-красным. Не веря своим глазам, Октав удивленно смотрел, как тяжелые капли его крови падают на охристый кафель и грубые башмаки из кирзы.
- Ты что сделал, идиот?! – вскинулся Страшко.
Бросившись к Октаву, он вырвал у него бритву и отшвырнул её в угол. Та отскочила от стены и, жалобно звякнув, упала под стол.
- Вы чего, герр штурмманн?.. – выдавил Октав, подняв на него темные, как агат, глаза.
- Заткнись и не мешай мне! - рявкнул Страшко.
Октав настолько опешил, что даже не стал сопротивляться. Уложив его на пол, Страшко достал из кармана брюк льняное полотенце с цветочными узорами и моток бельевой веревки. Октав апатично наблюдал, как Страшко сосредоточенно накладывает на его руку жгут и перевязывает рану шарфом. Кровь пропитывала серовато-белое сукно, расползаясь по нему красными разводами.
Покончив с первой помощью, Страшко утомленно выдохнул, вытер рукой вспотевший лоб и плюхнулся на табуретку. Октав лежал на полу, не решаясь встать. Страшко укоряюще смотрел на него сверху вниз.
- Ты зачем вскрылся, дурак? – спросил он после недолгого молчания.
- Вы сказали, чтобы я доказал… - растерянно начал Октав.
- Не воспринимай мои слова настолько буквально. Я же пошутил. А ты себе чуть сухожилие не перерезал.
- Хорошо, герр штурмманн. Не буду.
Страшко пристально вгляделся в Октава, и его холодные глаза маслянисто блеснули. Взяв со стола фотоаппарат, Страшко подошел к Октаву, встал над ним, широко расставив ноги, и с оценивающим прищуром навел на него объектив. Не до конца понимая, к чему всё идет, Октав на всякий случай выдавил из себя улыбку. Кафель неприятно холодил затылок. "Моя честь называется верность", - утверждал девиз на пряжке форменного ремня.
- Притворись мертвым. Притворись мертвым и не шевелись… - глухо, чуть ли не сладострастно произнес из-за фотоаппарата Страшко.
Не выдавая своего облегчения, Октав уставился пустыми глазами в потолок и приоткрыл рот. Страшко больше ничего не говорил. Он лишь медленно, вдумчиво фотографировал Октава, выстраивая идеальную композицию: мыском ботинка сдвигал его голову ближе к кровавым каплям, поправлял мозолистыми пальцами волосы и очки, укладывал нужным образом лацканы пиджака.
Отстраненно вслушиваясь в сухое щелканье фотоаппарата, Октав чувствовал, как саднит порезанная рука, и против своей воли представлял Страшко, лежащего на полу подсобки с перерезанным горлом. Представить на месте убийцы себя Октав не мог. Убийца расплывался в воздухе, как клякса чернил, упавшая на мокрую бумагу.
Иссохли клумбы, осыпав жирный чернозем поблекшими лепестками. Тянулся к небу дым сжигаемой листвы, улетали на юг шумные стаи птиц. Страшко убедился, что сломал Октава полностью, и начал показывать ему фотографии. Поначалу у Октава спирало горло, когда он смотрел на самого себя, лежащего без сознания на полу подсобки, на свои костистые руки, связанные за спиной бельевой веревкой, на свое сероватое лицо, привалившееся щекой к начищенному ботинку Страшко.
Но со временем Октав привык. Глядя на своего полумертвого двойника, он не испытывал ничего, что напоминало бы страх, и безучастно выслушивал откровения Страшко, который, по всей видимости, нашел в нем покорного собеседника.
- Настоящие трупы совсем не такие, как в моих фантазиях. Они обрюзгшие, уродливые… - непринужденным тоном объяснял Страшко, выдыхая дым в открытую форточку, где тот растворялся в промозглом дожде. - А вот люди без сознания – совсем другое дело. Они красивые, жалкие, беспомощные…
- Может, вы тогда будете как-нибудь иначе меня усыплять? – без особой надежды предложил Октав.
Он стоял напротив Страшко и сонно разглядывал цветную фотографию, которая фиксировала в вечности его страдания. Под бинтом ныл тупой болью свежий ожог, а рядом с ним белели, как выступившие из-под кожи слепые бельма, двенадцать круглых шрамов.
- Не волнуйся, Гершель. Ты мне нравишься, - Страшко небрежно потрепал его по щеке. - Я тебя слишком сильно душить не буду, а то ты раньше времени помрешь. К тому же, у меня еще никто не умирал.
"Ни капли в этом не сомневаюсь", - подумал Октав, глядя на фотографию.
Это был июньский снимок, выполненный в теплых тонах. Снятый по грудь, Октав лежал на рыжей мозаике кафеля. Прядь черных волос спадала на лоб, слепо глядели поверх кадра янтарно-карие глаза, чуть уменьшенные стеклами очков, а в приоткрытом рту виднелись желтоватые зубы. Пиджак был расстегнут и уложен так, чтобы в кадр попали и белая нарукавная повязка, покрытая острой вязью фрактуры, и черно-желтая шестиконечная звезда, нашитая на полосатую рубаху. Октав, пропущенный через творческую призму Страшко, походил на молодого оленя, который угодил под машину, перебегая дорогу, и теперь валялся на обочине, стеклянно таращась в пустоту надвигающейся смерти. На кафеле, будто подчеркивая эту ассоциацию, темнели мелкие капли крови.
- Красиво, - произнес Октав безжизненным голосом.
Страшко понимающе усмехнулся, ткнул окурком в банку из-под кофе и чиркнул спичкой. Октав молчал. Теперь он видел Страшко насквозь и понимал, что его главным пороком был не садизм. Штурмманн Страшко, сын эсэсовца из дивизии "Галичина", был скрытым гомосексуалистом – настолько скрытым, что не давал знать о своих предпочтениях даже жертвам, которые могли оказаться слишком болтливыми. Осторожность Страшко была понятна: даже немец за такое преступление мог вылететь из СС и попасть в концлагерь, а уж славянин тем более. Если садизм был для лагерных надзирателей приемлемым отклонением, то гомосексуализм по-прежнему оставался уголовной статьей.
О своих догадках Октав никому сообщать не стал: в лагерной иерархии заключенный-мишлинг стоял гораздо ниже эсэсовца-славянина, и его заявлениям, особенно таким абсурдным, попросту не поверили бы. Оставалось лишь надеяться, что однажды Страшко переборщит с алкоголем и станет жертвой пьяной поножовщины, которая была в Паульмунде обычным делом.
Но чем больше Октав узнавал о своем мучителе, тем сильнее осознавал несбыточность такого сценария. Страшко не пил. Он был положителен со всех сторон: ходил в турпоходы, увлекался фотографией, тратил зарплату на фотоаппаратуру. Умереть подобный человек мог лишь по глупой случайности, и организовывать эту случайность Октав не желал – убийство эсэсовца гарантированно продлило бы срок его заключения еще на десять лет. По сравнению с этим оставшиеся двенадцать удушений не казались таким уж кошмаром. К тому же, длилась эта странная связь уже почти год, и за это время Октав едва ли пострадал физически. Кажется, душить людей Страшко действительно умел. Кажется, Октав ему действительно нравился.
Седьмого января, когда до освобождения оставалось девять месяцев, Октав заболел. И без того неприветливый мир, который обычно окружал его, превратился в вязкий гриппозный кошмар: гудели, как шмели, люминесцентные лампы, в коридоре протяжно шаркал валенками Эмиль, за стеной ревел лагерный оркестр, играя легкомысленную песенку "В краю тюльпанов". Потряхивая головой, чтобы ненадолго прийти в себя, Октав слышал, как натужно колотится его сердце, растирал ладонями пышущее жаром лицо и вновь окунался в толщу отупляющей боли, которая раскалывала череп и доходила до горла. Читальный зал колебался, словно летний пейзаж в полуденном зное, руки не слушались и рассыпали по столу читательские карточки.
"Надо сходить в лазарет", - мелькнула в воспаленном сознании одинокая мысль.
С трудом выбравшись из-за стола, Октав поплелся к выходу. Качнувшись, он схватился обеими руками за косяк, вывалился в коридор и, обессилев, прислонился к прохладной стене. Складки белого тюля двоились и смешивались, образуя рваную паутину, сквозь которую блеклыми искрами пробивались восковые солнечные лучи.
- Вы в порядке, герр библиотекарь? – донесся издалека расслаивающийся голос Эмиля.
Октав молча помотал головой. Его не покидала мучительная мысль, что коридор вот-вот опрокинется на него и столкнет в сырой расстрельный ров, стены которого размокли от натекшей крови, что эсэсовец, поскрипывая начищенными сапогами, подойдет к краю рва и вытянет руку с заряженным "люгером", что пуля пронзит дефектный череп, залив всё давящей, оглушающей, неотвратимой темнотой.
- У вас глаза красные, герр библиотекарь…
- Меня укусила гусеница, - с присвистом прохрипел Октав, ворочая разбухшим языком, - учитель сказал, что это пройдет…
- Учитель? – с опаской переспросил Эмиль. – Какой еще учитель?
- Заслуженный учитель… - выдавил Октав из последних сил и осознал, что сползает по стене на рыхлый чернозем.
Слыша со стороны собственное дыхание – тяжелое и прерывистое, как у отравленной собаки, Октав видел, как уносятся вверх начищенные сапоги эсэсовца, который только что выстрелил ему в голову, как со стенок рва сыплются отяжелевшие от крови комья земли, как нависает над общей могилой смолисто-черная тень, испещренная влажными наростами глаз. В длинной черной руке тускло мерцало зазубренное лезвие ножа, занесенного для окончательного удара. Зловещий der toyt неустанно ждал, однако на этот раз ему пришлось уйти без добычи – Октав выздоровел и покинул его мрачные владения.
Он обнаружил себя в грязно-голубой палате лазарета, которую затягивал сизый полумрак раннего утра. Под буграми одеял храпели бритые пациенты, а со стороны окна тянуло холодом, дымом и паленым мясом. Осторожно сев в кровати, Октав заметил, что бодрствует не только он: возле приоткрытой форточки курила черная тень, в руке у которой алым светлячком тлела сигарета.
Не найдя под подушкой очков, Октав прищурился, и черная тень преобразилась в упитанного хефтлинга с красным винкелем, который, ничуть не скрывая своего занятия, курил в неположенном месте. Хефтлинг выглядел здоровым, если не считать заплывшего глаза, носил гражданскую стрижку и кого-то Октаву напоминал.
- С возвращением, - произнес хефтлинг по-русски.
- Мы знакомы? – сонно спросил Октав по-немецки.
- Можно и так сказать. Я Гоша, валторнист. Играю в лагерном оркестре, - улыбнулся он и выпустил дрожащее колечко дыма.
"Точно. В краю тюльпанов. И на щеках играла кро-о-овь…" – пронесся у Октава в голове ворох ассоциаций. Он вспомнил, что не раз сталкивался с Гошей в культурхаузе, однако ни разу с ним не заговаривал.
- Что произошло? Как я здесь оказался?
- Это у тебя надо спрашивать. Ты три дня лежал с температурой и бредил. Говорил, что тебя укусила гусеница. Но я вообще не представляю, где ты зимой умудрился найти ядовитую гусеницу, - деловито объяснил Гоша и загадочным тоном добавил. – Разве что это та же самая гусеница, которая тебя за руку покусала.
Октав заметил, что Гоша смотрит на его правое запястье, и понял, что санитары забрали бинт, выставив напоказ все четырнадцать ожогов: белесые рубцы, сухие корки коросты, небольшой желтоватый пузырек… У Октава защипало в глазах. До боли закусив губу, он слепо уставился перед собой. Он вспомнил, что перед тем, как упасть с температурой, видел в подсобке штурмманна Страшко, фотокамеру "Лейка" и банку земляничного варенья.
Теперь Октаву было ясно, чем он заболел. То ли Страшко переоценил свои возможности, то ли Октав попросту ему наскучил, и второй вариант был гораздо страшнее первого.
"Покончу с собой. И тогда меня сожгут – как жгут сейчас, как сжигали раньше", - подумал Октав, вспомнив повешенного Тимура.
- Будет только хуже. Они воспитаны на нацистской пропаганде, и твое лицо их раздражает, - сочувственно произнес Гоша. – Прибавь к этому бытовой антисемитизм, и получишь ужасное сочетание. Впрочем, ты и сам это знаешь, ты ведь из Львова…
- Прости, я тебя не понял, - пробормотал Октав, пока разговор не ушел в опасное русло. Выбравшись из-под одеяла, он ощупью нашел на холодном полу тапки и отправился на поиски санитара.
Тот, увидев Октава живым и вменяемым, немедленно вернул ему очки и выписал из лазарета, но Октав не смог возмутиться – в голове была лишь рыхлая пустота, в которой изредка всплывали даже не обрывки мыслей, а жухлые образы: эсэсовские молнии, кроваво-красные тюльпаны и вязкие потеки земляничного варенья. До самого вечера Октав привычно изображал апатию иностранца, вынужденного жить в незнакомой среде, и в таком же умонастроении лег спать, но ближе к полуночи над порогом комнаты шевельнулась пестрая занавеска, и за ней возникло тюркское лицо дневального.
- Просыпайся, Апаш! – прошептал тот по-немецки со странным акцентом. – Майзель зовет. Прямо сейчас.
- Иду, - прошептал Октав в ответ и с неохотой вылез из кровати.
"Только бы не расспрашивал…" – тоскливо подумал он, застегивая непослушные пуговицы рубахи. Ему не хотелось, чтобы кто-то знал о его беде, чтобы кто-то укорял его за трусость и винил в произошедшем.
Когда Октав вошел в комнату Майзеля, тот сидел на кровати и пил чай из мятой железной кружки. Тускло горела на тумбочке оплывшая свеча, переливались золотом кружевные снежинки, приклеенные к темно-зеленым стенам, а снаружи, дергая дребезжащие рамы, протяжно завывала вьюга.
Майзель мягко улыбнулся:
- Да не бойся ты так, Гершель. Я не собираюсь тебя отчитывать, просто хочу поговорить.
- Спасибо, Меир, - тихо сказал Октав.
Закрыв за собой дверь, он неуклюже сел на край табуретки. Майзель протянул ему сигарету, и его рука бледным пауком уползла из зыбкого светового круга. Ссутулившись, Октав подкурил от свечи. На тумбочке щетинилась бычками и жженными спичками банка из-под шпрот.
Отставив кружку, Майзель кинул на Октава изучающий взгляд и серьезным тоном произнес:
- У меня к тебе дело, Гершеле. Очень важное дело.
- Какое?
- В прошлом году ты говорил мне, что тебя вряд ли возьмут на хорошую работу. Поверишь ли ты мне, если я скажу, что могу тебе с этим помочь?
- Смотря какая работа, - апатично отозвался Октав. В возможности Майзеля он не верил, а бороться за свою жизнь не мог и, кажется, не хотел.
- Работа нелегальная. Зато в Берлине.
- Наркота, что ли? – догадался Октав. Он вспомнил, за что именно сидит Майзель и где он раньше жил.
- Ага. Марафет, - плутовато улыбнулся тот. – У меня там товарищ живет, мистер Родмахер. Если я напишу тебе рекомендацию, то он не сдаст тебя в первый же день, чтобы обеспечить крипо хорошую статистику.
- А при чем здесь крипо?
- При том, что далеко не каждый немец является образцом добродетели. И на легавых это тоже распространяется.
Нахмурив брови, Октав глубоко затянулся. Майзель был прав: в тридцатых годах Геббельс, который был тогда в расцвете своих жизненных сил, пытался покончить с собой из-за любви к чешской актрисе, и если даже такой фанатик поддался искушению, то от обычных полицейских и вовсе не следовало ожидать стойкости. Но предложение Майзеля от этого соблазнительней не стало. Октав пока еще не думал, чем заняться после освобождения. К тому же, оно, учитывая наклонности Страшко, могло и не состояться.
Майзель усмехнулся, и на освещенной половине его вытянутого лица сверкнул васильково-синий глаз:
- Ты наверняка знаешь, Гершеле, что наркотики плохо сказываются на здоровье. Делают генофонд бракованным, повышают риск врожденных патологий у младенцев, повышают риск бесплодия и выкидышей у женщин…
- У немецких женщин? – вздрогнул Октав. Неопределенное, тягостное чувство шевельнулось в его сердце, будто трупный червь.
Майзель издал злорадный смешок:
- Естественно. Это же Берлин.
Не замечая, что пепел сыплется ему на пиджак, Октав замер с сигаретой в руке. Мерцали в темноте золотистые снежинки, слабо подергивались рамы, будто кто-то пытался пробраться в комнату снаружи. Майзель потягивал из кружки чай и ждал, когда Октав соберется с мыслями.
- Давай представим, что я согласился, но не оправдал ожиданий твоих коллег. Что со мной будет? – спросил тот, найдя нужные слова.
Майзель посерьезнел, угрюмо в него всмотрелся и медленно перечеркнул большим пальцем собственное горло. Октав поежился. Повисла неловкая тишина, прерываемая лишь глухими завываниями бурана.
- Ага. Раз в месяц, чтобы ты здоровье не подорвал. Десять минут без сознания, и можешь дальше книжки читать. В тепле и комфорте. Согласен?
Октав закусил губу, по щекам побежали горячие слезы. Глядя на подрагивающую чернильную тень, в которую превратился Страшко, Октав уронил голову на грудь в тяжелом кивке. Его не покидало мучительное, позорное чувство, будто его окунули головой в грязную лужу.
- Вот и отлично. Подойди ко мне.
Октав нехотя приблизился к Страшко и, попав под сквозняк, задрожал от холода. Страшко пристально посмотрел на Октава, схватил его за правую руку и потянул на себя, сдвигая с бледного запястья обшлаг пиджака. Октав слабо вздохнул. Страшко затянулся, медленно выпустил дым – и в оголенную кожу запястья ткнулся раскаленный кончик окурка. Октав дернулся и вскрикнул, но быстро зажал себе рот ладонью, чтобы его не услышали в коридоре.
- Свободен. Можешь идти обедать, - небрежно бросил Страшко и щелчком пальцев отправил окурок за окно. – Увидимся перед Новым годом.
Похлопав Октава по обмякшему плечу, Страшко прошел мимо книжных стеллажей, заслонил собой библиотекарский стол с бюстом Гитлера и скрылся в читальном зале. Умолкли шаги, лязгнул замок, протяжно скрипнула железная дверь. Всё стало как раньше: сонная тишина, тусклый свет полудня, снежные хлопья над крематорием… Не до конца веря собственной памяти, Октав посмотрел на запястье, въедливо пульсирующее болью. Ожог был настоящим, боль была настоящей и унизительной.
В столовую Октав не пошел. Часто и глубоко затягиваясь, он сидел у открытой форточки, стучал зубами, кутаясь в пиджак, и пытался осмыслить произошедшее. Если Страшко был обычным антисемитом, то удушение вполне могло быть разовым актом запугивания или попросту злой, извращенной шуткой. Но если Страшко был настоящим психопатом, то ожидать от него можно было чего угодно. Замерев с сигаретой в руке, Октав мрачно уставился в пустоту. Как можно было выйти из положения, имея на руках настолько плохие карты, он не знал.
Страшко вернулся в конце декабря – как и было обещано, всё с тем же фотоаппаратом на шее. Завидев его, Октав натянуто улыбнулся, снял мютцен и отложил в сторону тряпку, которой уже полчаса протирал читательские столы. Страшко улыбнулся в ответ и поставил на стол банку облепихового варенья. Желтовато-золотистое варенье тускло переливалось, будто шелк. Около банки пыльным комом валялась серая тряпка. За стеной рокотал оркестр, снаружи выла метель.
- Бери, не бойся, оно не отравлено. Мама делала, очень вкусное, - сказал Страшко.
Октав дрожащими руками взял банку, спрятал её в нижний ящик библиотекарского стола и запоздало удивился, что у Страшко есть мать, к которой тот даже питает человеческие чувства. Вспомнив о том, что он планировал сегодня сделать, Октав потупился и боязливо заговорил:
- Герр штурмманн…
- Чего тебе? – недовольно буркнул тот.
- Вы правда… собираетесь душить меня раз в месяц? Вы не шутите?
- Я никогда не шучу.
Октав побледнел. Скорбно вздохнув, он поправил очки, сползшие на кончик носа, и продолжил говорить, подбирая слова с осторожностью сапера:
- Я так понял, что меня сделали библиотекарем, потому что вам так удобнее. И выходит, что всё это – моя расплата за комфортную должность. И у меня возник вопрос, герр штурмманн… Если я скажу, что готов уйти из библиотеки на лесоповал, вы меня отпустите?
Промямлив свою просьбу, Октав переступил с ноги на ногу и выжидающе замер. За стеной, сбившись на визгливую дисгармонию, грохнули трубы. Страшко долго смотрел на Октава из-под кепи и, ничего не говоря, изучал его стылым рыбьим взглядом. Октав поежился. Страшко снял с шеи фотоаппарат, положил его на стол и произнес:
- Отличная речь, Либерман. Замечательная речь. Если бы закон не запрещал жидам учиться на юридических факультетах, из тебя получился бы хороший адвокат.
- Значит, не отпустите? – рискнул уточнить Октав.
- Конечно, не отпущу. Как в твою идише копф вообще могла прийти такая мысль?
Взяв с читательского стола пыльную тряпку, Страшко смял её в кулаке и шагнул в сторону Октава, который, медленно отступая, пятился к занавешенному тюлем окну.
- Кажется, Либерман, тебя что-то не устраивает, - глухо произнес Страшко. – Ничего. Сейчас я всё тебе объясню, и ты больше не будешь задавать глупых вопросов.
Нужно было срочно что-то предпринять. Октав схватил первое, что удалось нащупать, и бюст Гитлера, блеснув бронзовой портупеей, описал в воздухе крутую дугу. Страшко, имеющий за плечами армейскую физподготовку, непринужденно заломил Октаву руку и толкнул его в книгохранилище. Бюст с шумом упал под стол, оцарапав крашеные доски. Октав ударился всем телом об пол, вскрикнул и попытался встать, но что-то тяжелое заставил его рухнуть обратно. Стукнувшись головой об чугунную батарею, Октав протяжно застонал.
- Хрен тебе, а не лесоповал. Ферштейн, жиденок? – цедил Страшко сквозь зубы, пинками направляя его к подсобке. - Если еще раз скажешь, что тебе что-то не нравится, я тебя калекой сделаю. Будешь всю жизнь с костылями ходить!
Октав прижал колени к груди, защищая почки, и солдатский ботинок врезался ему в лицо. Очки отлетели в сторону, нос вспыхнул болью. По щеке, затекая в угол рта, побежала теплая кровь.
- Перестаньте, я всё понял! – воскликнул Октав, корчась в тени стеллажа.
- Ничего ты не понял, урод. Только и думаешь, как бы меня обдурить!
Навалившись на Октава, Страшко затолкал ему в рот пыльную тряпку. Октав задергался и попытался вытолкнуть её языком, но Страшко крепко зажал ему рот ладонью. Октав глухо замычал, давясь кляпом, и тут же сорвался на гортанный клекот – второй рукой Страшко сдавил ему горло. Стремительно слабея, Октав вцепился в его руки и захрипел что было сил, но на этот раз совсем ничего не услышал.
- Не хотел по-хорошему? Получай теперь, свинья, - злорадно произнес Страшко, растворяясь в сероватой мути.
Когда Октав очнулся, ему не удалось вспомнить, что с ним произошло. Сгибаясь от боли в ребрах, он схватился за ушибленный бок и шатко поднялся на колени. Болел нос, саднила шея. Кружилось книгохранилище, на губах трескалась запекшаяся кровь, накатывало тяжелыми волнами предчувствие тошноты. Отыскав мутным взглядом очки, валяющиеся около батареи, Октав трясущимися пальцами подцепил их и водрузил на нос. Во рту явственно ощущался суховатый привкус пыли.
- Ну как? Доволен? – послышался спокойный мужской голос.
Дернувшись, Октав вскинул голову и увидел Страшко. Тот стоял возле стеллажа и курил, стряхивая пепел на пол. Около ботинка Страшко влажным комом лежала тряпка, а под библиотекарским столом отблескивал острым уголком бюст Гитлера. Октав вспомнил, что произошло. Он схватился за голову, сжался в комок и, поскуливая от ужаса, заплакал.
- Не надо этого, Гершель. Не надо, - сочувственно произнес Страшко, обдав его дымом. – Если больше не будешь театр устраивать и руками махать, то и я стану хорошо к тебе относиться.
- Только не убивайте меня, герр штурмманн… - всхлипнул Октав. Он умоляюще глядел на Страшко снизу вверх.
- Я не убью тебя, если ты согласишься на мои условия.
- Я согласен, герр штурмманн! Господи боже, я согласен, согласен… - запричитал Октав. Он вытирал слезы рукавом пиджака и не понимал, что размазывает по лицу высохшую кровь.
- Ну вот, совсем другое дело. Теперь ты мне нравишься гораздо больше, - улыбнулся ему Страшко, как старому товарищу.
Наклонившись к Октаву, он взял его за руку и потушил окурок об бледное запястье. Октав простонал и отдернул руку, но та лишь безвольно упала ему на колени. Окурок коснулся пола и закатился в щель между досками.
- С наступающим, Гершель. Надеюсь, в следующий раз ты не попытаешься меня убить.
Потрепав ошеломленного Октава по волосам, Страшко как ни в чем ни бывало покинул книгохранилище. Октав проводил незрячим взглядом его коренастый силуэт, схватился за батарею и, не ощущая жара, встал на ноги. Цепляясь за стеллажи, он побрел в подсобку, чтобы стереть с лица кровь.
Пообедать в тот день не удалось – не было ни сил, ни желания. Остаток перерыва Октав провел, охлаждая лоб мокрым носовым платком, и ему стало немного лучше. Состояние крайней растерянности, которое сохранялось до вечера, он успешно от всех скрыл, а под конец дня заметил, что на горле налились легкой краснотой синяки, оставленные пальцами Страшко. Воспользовавшись статусом придурка, Октав обмотал вокруг шеи мохеровый шарф. Нетронутая банка варенья так и осталась в ящике библиотекарского стола.
- С наступающим, Гершель! – радостно воскликнул Майзель, на которого Октав наткнулся в узком коридоре барака.
От поздравления, которое теперь звучало зловеще, Октава передернуло.
- Спасибо, Меир. Тебя тоже с праздником, - сконфуженно пробормотал он.
- Вижу, тебя уже кто-то поздравил, - помрачнел Майзель, заметив его опухший нос.
Октав лишь нахмурился и кивнул.
- Пойдем ко мне. Я хотел, чтобы мы с тобой выпили в честь праздника, но теперь вижу, что тебе точно без этого не обойтись.
Проследовав за Майзелем в его комнату, Октав позволил усадить себя на табуретку. За окном кружила пурга, бледно светила потолочная лампа, на темно-зеленых стенах поблескивали резные снежинки из фольги. Майзель отыскал в тумбочке металлическую фляжку и протянул её Октаву. Тот взял фляжку, сделал большой глоток и, резко искривившись, пожалел о своем опрометчивом решении – водка обожгла и без того пострадавшее горло. Зажмурившись, Октав слепо ткнул фляжкой туда, где предположительно находился Майзель. Фляжку забрали, и послышалось глухое бульканье.
Придя в себя, Октав открыл глаза. В соседней комнате, рассыпая по воздуху тягучие ноты, пиликала губная гармошка. Майзель, снявший валенки, по-турецки сидел на заправленной койке. Его серая тень тянулась к потолку, а фляжка, отсвечивая мятыми боками, лежала на взбитой подушке.
- Рассказывай, - участливо произнес Майзель.
- С чего мне начать?
- С чего хочешь.
Октав утомленно потер лицо ладонями. Водка наполнила его тупым спокойствием животного, которое набило брюхо кормом, прониклось любовью к хозяину и временно забыло о неизбежной смерти на скотобойне.
Собравшись с мыслями, Октав через силу усмехнулся:
- Отец не отвечает на мои письма. После лагеря меня вряд ли возьмут на хорошую работу. Штурмманн Страшко уже дважды меня избил. Кажется, пока всё.
Про эксперименты, связанные с асфиксией, Октав упоминать побоялся – фамилия у штурмманна оказалась говорящая.
Майзель удивленно вскинул брови, словно ожидая разъяснений. Октав стянул с шеи шарф, запрокинул голову и продемонстрировал Майзелю посиневшие синяки. Когда тот шевельнул губами, намереваясь задать вопрос, Октав с мрачным спокойствием показал запястье, где виднелись два сигаретных ожога: старый, уже покрывшийся коростой сукровицы, и свежий, надувшийся желтоватым пузырем.
- Да уж… Дело швах, - нахмурился Майзель, глядя на ожоги, и добавил. – Слива жесток, но умеет сдерживаться. Если это, конечно, может тебя утешить.
- Слива? – недоуменно переспросил Октав.
- В прошлом году, когда его только сюда перевели, он ввязался в драку с городскими. Так сильно получил, что долго ходил с синим носом. Потому и Слива.
- Замечательно. И что мне теперь делать с этим Сливой?
- К сожалению, он ходит в любимчиках у коменданта. Постарайся не злить его. Когда ему станет скучно, он переключится на кого-нибудь другого.
Молча кивнув, Октав уставился в пространство. Он не представлял, как в таком случае можно спастись, но точно был уверен, что сбегать из лагеря не стоит – побеги карались казнью, и болезненность этой казни зависела лишь от фантазии коменданта. Октав уже знал, что за исполнение смертных приговоров негласно отвечают оберштурмфюрер Олендорф, старшая надзирательница Вольф, которая била мужчин по половым органам, и надзирательница Магалл, обожающая тушить об людей сигареты. Поговаривали даже, что за казнями, которые обычно проходили в подвале политического отдела, комендант наблюдает лично – исключительно ради увеселения, и Октаву не хотелось становиться экзотическим развлечением для заскучавшего немца.
Майзель слез с кровати, достал из тумбочки опасную бритву с перламутрово-белой ручкой и протянул её Октаву.
- На всякий случай, - объяснил он.
- Спасибо, - тихо произнес Октав и спрятал бритву в карман пиджака.
На этом разговор был исчерпан. Вернувшись к своей комнате, Октав нырнул под пеструю занавеску и понял, что кухрабочие до сих пор в пищеблоке – койки были заправлены, а вешалка пуста. Стянув с себя робу, Октав забрался под колючее шерстяное одеяло, снял очки и зарылся лицом в подушку. Ползали в темноте искаженные дневные впечатления и цветастые клочья грез, а Октав, прислушиваясь к далекому, явно несуществующему воплю, погружался в синеватый, рябящий помехами сон, где он на законных основаниях жил в Паульмунде, фотографировал юрких лесных птиц и делил постель с надзирательницей Магалл.
В январе Страшко сделал то же самое, что и в прошлый раз - напугал Октава. Вернувшись из столовой с банкой теплого борща, в котором плавали волокна говядины, Октав обнаружил, что Страшко уже ждет его в подсобке, по-хозяйски сидя на табуретке и неприятно, чуть ли не сально улыбаясь. Снаружи густо падал сахарный снег, на столе отражала слабый свет банка яблочного варенья, а рядом с ней, мертвенно поблескивая линзой, лежал фотоаппарат.
- У вас что, ключ есть? – озадаченно спросил Октав, пока его рука стягивала с головы ушанку. Он отчетливо помнил, что перед уходом в столовую запер библиотеку, чтобы не получить от Исаева затрещину, как это произошло на прошлой неделе.
- А ты как думал, Гершель? Конечно, есть. Я же старший надзиратель, - усмехнулся Страшко. – Будь добр, сходи и закрой дверь. Не хочу, чтобы нас беспокоили.
Поставив банку с борщом на стол, Октав порадовался тому, что сегодня съест его хотя бы холодным, и ушел в читальный зал. Вернувшись, он снял ватник, повернулся к Страшко спиной и покорно запрокинул голову, подставив ему шею с подрагивающим выступом кадыка. Страшко усмехнулся еще шире, встал с табуретки и хрустнул суставами пальцев.
Октав решил принять правила игры. Бритва, подаренная Майзелем, была надежно спрятана в рукаве ватника, и хотя Октав понимал, что ему попросту не хватит духа ей воспользоваться, само наличие оружия необъяснимым образом успокаивало.
Пролетели, как одно мгновение, февральские холода, и на смену им пришла дурманящая свежесть весны. Таяли ноздреватые сугробы, журчали ручьи, медленно нагревались под солнцем мерзлые пашни. Всякий раз, когда удовлетворенный Страшко покидал библиотеку, Октав пережидал головокружение и обвязывал запястье бинтом, чтобы скрыть от чужих глаз еще один ожог. Звенела капель, истошно вопили грачи, наливалась синевой глазурь небосвода. Октав чувствовал, как размывается его пошатнувшийся рассудок, как притупляется боль, как память превращает минувшие удушения в блеклые фантомы, лишенные эмоционального окраса. Отец не отвечал на письма, и писать ему Октав перестал.
Страшко, пытаясь казаться человечным, дарил Октаву варенье, которое заготавливала его домовитая мать. Есть варенье Октав опасался, поэтому пускал его на товарный обмен, если нужно было подшить робу, достать теплую одежду или вскрыть гнойник. Банки слегка отдавали дымом, но ни один из хефтлингов, с которыми Октав об этом заговаривал, так не считал.
Летом бетонные клумбы набухли ажурными васильками, белыми ромашками и полосатыми петуниями. Октав перепрятал бритву в висящий на стене шкафчик, где обычно хранил еду. Комендант наконец распорядился убрать плакат с кормящей матерью и повесить взамен что-нибудь, где не будет обнаженных женщин. Получив от Исаева старомодную афишу "Триумфа воли" с крайне мужественным штурмовиком, Октав не без удовольствия выполнил приказ - кормящая мать болезненно напоминала ему фрау Зоммерфельд.
В один из июльских дней, когда на концлагерь грозовым фронтом ползли тяжелые черные тучи, Октав вернулся из столовой с порцией солянки и вновь обнаружил в подсобке Страшко, однако на этот раз уже не удивился. На столе его дожидались фотоаппарат и банка малинового варенья.
- Запри дверь, друг мой, - с гаденькой улыбкой приказал Страшко.
Сняв мютцен, Октав оставил банку с обедом на подоконнике, ушел в читальный зал и повернул ключ. Громко лязгнул замок, в теплом воздухе увязло хрупкое эхо. Октав лихорадочно схватился за голову, но тут же вздохнул, вынудил себя успокоиться и поплелся обратно. Сквозь окна книгохранилища пробивались медово-желтые лучи, в которых невесомой пудрой кружилась пыль. Шаркала возле крематория метла, клубились над пулеметными вышками тучи, похожие на косяк разлагающихся рыб.
Вытерев вспотевшие ладони об штаны, Октав вошел в подсобку и остолбенел. Страшко сидел на табуретке, хмурился и лениво вертел в руках опасную бритву. Анемично мерцал белый перламутр, искрилась гладкая сталь, ослепляя Октава режущими переливами.
- Что это такое, Гершель? – строго спросил Страшко, показав ему бритву.
- Это… для моих нужд, - произнес Октав онемевшими губами. В голове зашумело, будто он нырнул с обрыва, нагретого солнцем, в холодную толщу реки.
- Неужели? – усмехнулся Страшко.
Растерявшись от неожиданности, Октав судорожно закивал.
- Ну и зачем тебе эта бритва, если обычно ты пользуешься электрической? А, Либерман?
Октав потупился и втянул голову в плечи. Его не покидало ощущение, что если он заговорит, то после первого же слова сорвется на бессвязные вопли.
- Почему молчишь, жид? Нечего сказать? Или хочешь, чтобы я тебе зубы выбил?
- Я думал о суициде, герр штурмманн, - пробормотал Октав первое, что пришло ему в голову.
- О суициде, значит…
Встав с табуретки, Страшко подошел к Октаву, разжал его пальцы с нестрижеными ногтями и вложил бритву в обмякшую ладонь. Октав распахнул глаза: сначала посмотрел на острое лезвие, а затем на Страшко. Тот неотрывно глядел на Октава, как охотник на дичь. В петлице его форменной куртки горели серебром эсэсовские молнии.
- Докажи. Если будешь достаточно убедителен, то я тебе поверю и не стану бить по лицу. По крайней мере, сегодня, - произнес Страшко, дыхнув на Октава чесноком.
Отступив назад, он вновь расположился на табуретке: широко расставил ноги, уперся руками в колени и подался вперед, словно ожидал увидеть нечто, будоражащее кровь.
Октав не мог пошевелиться. Он отупело глядел на бритву и не знал, как поступить. В двух шагах от него сидел Страшко, чья загорелая шея торчала из воротника коричневой рубашки, но Октав с ужасом осознавал, что не сможет перерезать горло другому человеку – даже такому психопату, как Страшко. К тому же, тот наверняка рассчитывал на попытку сопротивления, чтобы пресечь её и, как это произошло в декабре, наказать Октава особенно жестоко.
Октав нахмурил брови и закатал левый рукав. Под бледной, как застиранная простыня, кожей змеились синеватые росчерки вен. Страшко улыбнулся во весь рот, обнажив желтоватые зубы. Жужжала муха, удушающе пахло одеколоном "Альпы". Октав выдохнул, зажмурился и изо всех сил ударил себя лезвием по руке. Порез разошелся, вывернув наружу мясистые края, и набух гранатово-красным. Не веря своим глазам, Октав удивленно смотрел, как тяжелые капли его крови падают на охристый кафель и грубые башмаки из кирзы.
- Ты что сделал, идиот?! – вскинулся Страшко.
Бросившись к Октаву, он вырвал у него бритву и отшвырнул её в угол. Та отскочила от стены и, жалобно звякнув, упала под стол.
- Вы чего, герр штурмманн?.. – выдавил Октав, подняв на него темные, как агат, глаза.
- Заткнись и не мешай мне! - рявкнул Страшко.
Октав настолько опешил, что даже не стал сопротивляться. Уложив его на пол, Страшко достал из кармана брюк льняное полотенце с цветочными узорами и моток бельевой веревки. Октав апатично наблюдал, как Страшко сосредоточенно накладывает на его руку жгут и перевязывает рану шарфом. Кровь пропитывала серовато-белое сукно, расползаясь по нему красными разводами.
Покончив с первой помощью, Страшко утомленно выдохнул, вытер рукой вспотевший лоб и плюхнулся на табуретку. Октав лежал на полу, не решаясь встать. Страшко укоряюще смотрел на него сверху вниз.
- Ты зачем вскрылся, дурак? – спросил он после недолгого молчания.
- Вы сказали, чтобы я доказал… - растерянно начал Октав.
- Не воспринимай мои слова настолько буквально. Я же пошутил. А ты себе чуть сухожилие не перерезал.
- Хорошо, герр штурмманн. Не буду.
Страшко пристально вгляделся в Октава, и его холодные глаза маслянисто блеснули. Взяв со стола фотоаппарат, Страшко подошел к Октаву, встал над ним, широко расставив ноги, и с оценивающим прищуром навел на него объектив. Не до конца понимая, к чему всё идет, Октав на всякий случай выдавил из себя улыбку. Кафель неприятно холодил затылок. "Моя честь называется верность", - утверждал девиз на пряжке форменного ремня.
- Притворись мертвым. Притворись мертвым и не шевелись… - глухо, чуть ли не сладострастно произнес из-за фотоаппарата Страшко.
Не выдавая своего облегчения, Октав уставился пустыми глазами в потолок и приоткрыл рот. Страшко больше ничего не говорил. Он лишь медленно, вдумчиво фотографировал Октава, выстраивая идеальную композицию: мыском ботинка сдвигал его голову ближе к кровавым каплям, поправлял мозолистыми пальцами волосы и очки, укладывал нужным образом лацканы пиджака.
Отстраненно вслушиваясь в сухое щелканье фотоаппарата, Октав чувствовал, как саднит порезанная рука, и против своей воли представлял Страшко, лежащего на полу подсобки с перерезанным горлом. Представить на месте убийцы себя Октав не мог. Убийца расплывался в воздухе, как клякса чернил, упавшая на мокрую бумагу.
Иссохли клумбы, осыпав жирный чернозем поблекшими лепестками. Тянулся к небу дым сжигаемой листвы, улетали на юг шумные стаи птиц. Страшко убедился, что сломал Октава полностью, и начал показывать ему фотографии. Поначалу у Октава спирало горло, когда он смотрел на самого себя, лежащего без сознания на полу подсобки, на свои костистые руки, связанные за спиной бельевой веревкой, на свое сероватое лицо, привалившееся щекой к начищенному ботинку Страшко.
Но со временем Октав привык. Глядя на своего полумертвого двойника, он не испытывал ничего, что напоминало бы страх, и безучастно выслушивал откровения Страшко, который, по всей видимости, нашел в нем покорного собеседника.
- Настоящие трупы совсем не такие, как в моих фантазиях. Они обрюзгшие, уродливые… - непринужденным тоном объяснял Страшко, выдыхая дым в открытую форточку, где тот растворялся в промозглом дожде. - А вот люди без сознания – совсем другое дело. Они красивые, жалкие, беспомощные…
- Может, вы тогда будете как-нибудь иначе меня усыплять? – без особой надежды предложил Октав.
Он стоял напротив Страшко и сонно разглядывал цветную фотографию, которая фиксировала в вечности его страдания. Под бинтом ныл тупой болью свежий ожог, а рядом с ним белели, как выступившие из-под кожи слепые бельма, двенадцать круглых шрамов.
- Не волнуйся, Гершель. Ты мне нравишься, - Страшко небрежно потрепал его по щеке. - Я тебя слишком сильно душить не буду, а то ты раньше времени помрешь. К тому же, у меня еще никто не умирал.
"Ни капли в этом не сомневаюсь", - подумал Октав, глядя на фотографию.
Это был июньский снимок, выполненный в теплых тонах. Снятый по грудь, Октав лежал на рыжей мозаике кафеля. Прядь черных волос спадала на лоб, слепо глядели поверх кадра янтарно-карие глаза, чуть уменьшенные стеклами очков, а в приоткрытом рту виднелись желтоватые зубы. Пиджак был расстегнут и уложен так, чтобы в кадр попали и белая нарукавная повязка, покрытая острой вязью фрактуры, и черно-желтая шестиконечная звезда, нашитая на полосатую рубаху. Октав, пропущенный через творческую призму Страшко, походил на молодого оленя, который угодил под машину, перебегая дорогу, и теперь валялся на обочине, стеклянно таращась в пустоту надвигающейся смерти. На кафеле, будто подчеркивая эту ассоциацию, темнели мелкие капли крови.
- Красиво, - произнес Октав безжизненным голосом.
Страшко понимающе усмехнулся, ткнул окурком в банку из-под кофе и чиркнул спичкой. Октав молчал. Теперь он видел Страшко насквозь и понимал, что его главным пороком был не садизм. Штурмманн Страшко, сын эсэсовца из дивизии "Галичина", был скрытым гомосексуалистом – настолько скрытым, что не давал знать о своих предпочтениях даже жертвам, которые могли оказаться слишком болтливыми. Осторожность Страшко была понятна: даже немец за такое преступление мог вылететь из СС и попасть в концлагерь, а уж славянин тем более. Если садизм был для лагерных надзирателей приемлемым отклонением, то гомосексуализм по-прежнему оставался уголовной статьей.
О своих догадках Октав никому сообщать не стал: в лагерной иерархии заключенный-мишлинг стоял гораздо ниже эсэсовца-славянина, и его заявлениям, особенно таким абсурдным, попросту не поверили бы. Оставалось лишь надеяться, что однажды Страшко переборщит с алкоголем и станет жертвой пьяной поножовщины, которая была в Паульмунде обычным делом.
Но чем больше Октав узнавал о своем мучителе, тем сильнее осознавал несбыточность такого сценария. Страшко не пил. Он был положителен со всех сторон: ходил в турпоходы, увлекался фотографией, тратил зарплату на фотоаппаратуру. Умереть подобный человек мог лишь по глупой случайности, и организовывать эту случайность Октав не желал – убийство эсэсовца гарантированно продлило бы срок его заключения еще на десять лет. По сравнению с этим оставшиеся двенадцать удушений не казались таким уж кошмаром. К тому же, длилась эта странная связь уже почти год, и за это время Октав едва ли пострадал физически. Кажется, душить людей Страшко действительно умел. Кажется, Октав ему действительно нравился.
Седьмого января, когда до освобождения оставалось девять месяцев, Октав заболел. И без того неприветливый мир, который обычно окружал его, превратился в вязкий гриппозный кошмар: гудели, как шмели, люминесцентные лампы, в коридоре протяжно шаркал валенками Эмиль, за стеной ревел лагерный оркестр, играя легкомысленную песенку "В краю тюльпанов". Потряхивая головой, чтобы ненадолго прийти в себя, Октав слышал, как натужно колотится его сердце, растирал ладонями пышущее жаром лицо и вновь окунался в толщу отупляющей боли, которая раскалывала череп и доходила до горла. Читальный зал колебался, словно летний пейзаж в полуденном зное, руки не слушались и рассыпали по столу читательские карточки.
"Надо сходить в лазарет", - мелькнула в воспаленном сознании одинокая мысль.
С трудом выбравшись из-за стола, Октав поплелся к выходу. Качнувшись, он схватился обеими руками за косяк, вывалился в коридор и, обессилев, прислонился к прохладной стене. Складки белого тюля двоились и смешивались, образуя рваную паутину, сквозь которую блеклыми искрами пробивались восковые солнечные лучи.
- Вы в порядке, герр библиотекарь? – донесся издалека расслаивающийся голос Эмиля.
Октав молча помотал головой. Его не покидала мучительная мысль, что коридор вот-вот опрокинется на него и столкнет в сырой расстрельный ров, стены которого размокли от натекшей крови, что эсэсовец, поскрипывая начищенными сапогами, подойдет к краю рва и вытянет руку с заряженным "люгером", что пуля пронзит дефектный череп, залив всё давящей, оглушающей, неотвратимой темнотой.
- У вас глаза красные, герр библиотекарь…
- Меня укусила гусеница, - с присвистом прохрипел Октав, ворочая разбухшим языком, - учитель сказал, что это пройдет…
- Учитель? – с опаской переспросил Эмиль. – Какой еще учитель?
- Заслуженный учитель… - выдавил Октав из последних сил и осознал, что сползает по стене на рыхлый чернозем.
Слыша со стороны собственное дыхание – тяжелое и прерывистое, как у отравленной собаки, Октав видел, как уносятся вверх начищенные сапоги эсэсовца, который только что выстрелил ему в голову, как со стенок рва сыплются отяжелевшие от крови комья земли, как нависает над общей могилой смолисто-черная тень, испещренная влажными наростами глаз. В длинной черной руке тускло мерцало зазубренное лезвие ножа, занесенного для окончательного удара. Зловещий der toyt неустанно ждал, однако на этот раз ему пришлось уйти без добычи – Октав выздоровел и покинул его мрачные владения.
Он обнаружил себя в грязно-голубой палате лазарета, которую затягивал сизый полумрак раннего утра. Под буграми одеял храпели бритые пациенты, а со стороны окна тянуло холодом, дымом и паленым мясом. Осторожно сев в кровати, Октав заметил, что бодрствует не только он: возле приоткрытой форточки курила черная тень, в руке у которой алым светлячком тлела сигарета.
Не найдя под подушкой очков, Октав прищурился, и черная тень преобразилась в упитанного хефтлинга с красным винкелем, который, ничуть не скрывая своего занятия, курил в неположенном месте. Хефтлинг выглядел здоровым, если не считать заплывшего глаза, носил гражданскую стрижку и кого-то Октаву напоминал.
- С возвращением, - произнес хефтлинг по-русски.
- Мы знакомы? – сонно спросил Октав по-немецки.
- Можно и так сказать. Я Гоша, валторнист. Играю в лагерном оркестре, - улыбнулся он и выпустил дрожащее колечко дыма.
"Точно. В краю тюльпанов. И на щеках играла кро-о-овь…" – пронесся у Октава в голове ворох ассоциаций. Он вспомнил, что не раз сталкивался с Гошей в культурхаузе, однако ни разу с ним не заговаривал.
- Что произошло? Как я здесь оказался?
- Это у тебя надо спрашивать. Ты три дня лежал с температурой и бредил. Говорил, что тебя укусила гусеница. Но я вообще не представляю, где ты зимой умудрился найти ядовитую гусеницу, - деловито объяснил Гоша и загадочным тоном добавил. – Разве что это та же самая гусеница, которая тебя за руку покусала.
Октав заметил, что Гоша смотрит на его правое запястье, и понял, что санитары забрали бинт, выставив напоказ все четырнадцать ожогов: белесые рубцы, сухие корки коросты, небольшой желтоватый пузырек… У Октава защипало в глазах. До боли закусив губу, он слепо уставился перед собой. Он вспомнил, что перед тем, как упасть с температурой, видел в подсобке штурмманна Страшко, фотокамеру "Лейка" и банку земляничного варенья.
Теперь Октаву было ясно, чем он заболел. То ли Страшко переоценил свои возможности, то ли Октав попросту ему наскучил, и второй вариант был гораздо страшнее первого.
"Покончу с собой. И тогда меня сожгут – как жгут сейчас, как сжигали раньше", - подумал Октав, вспомнив повешенного Тимура.
- Будет только хуже. Они воспитаны на нацистской пропаганде, и твое лицо их раздражает, - сочувственно произнес Гоша. – Прибавь к этому бытовой антисемитизм, и получишь ужасное сочетание. Впрочем, ты и сам это знаешь, ты ведь из Львова…
- Прости, я тебя не понял, - пробормотал Октав, пока разговор не ушел в опасное русло. Выбравшись из-под одеяла, он ощупью нашел на холодном полу тапки и отправился на поиски санитара.
Тот, увидев Октава живым и вменяемым, немедленно вернул ему очки и выписал из лазарета, но Октав не смог возмутиться – в голове была лишь рыхлая пустота, в которой изредка всплывали даже не обрывки мыслей, а жухлые образы: эсэсовские молнии, кроваво-красные тюльпаны и вязкие потеки земляничного варенья. До самого вечера Октав привычно изображал апатию иностранца, вынужденного жить в незнакомой среде, и в таком же умонастроении лег спать, но ближе к полуночи над порогом комнаты шевельнулась пестрая занавеска, и за ней возникло тюркское лицо дневального.
- Просыпайся, Апаш! – прошептал тот по-немецки со странным акцентом. – Майзель зовет. Прямо сейчас.
- Иду, - прошептал Октав в ответ и с неохотой вылез из кровати.
"Только бы не расспрашивал…" – тоскливо подумал он, застегивая непослушные пуговицы рубахи. Ему не хотелось, чтобы кто-то знал о его беде, чтобы кто-то укорял его за трусость и винил в произошедшем.
Когда Октав вошел в комнату Майзеля, тот сидел на кровати и пил чай из мятой железной кружки. Тускло горела на тумбочке оплывшая свеча, переливались золотом кружевные снежинки, приклеенные к темно-зеленым стенам, а снаружи, дергая дребезжащие рамы, протяжно завывала вьюга.
Майзель мягко улыбнулся:
- Да не бойся ты так, Гершель. Я не собираюсь тебя отчитывать, просто хочу поговорить.
- Спасибо, Меир, - тихо сказал Октав.
Закрыв за собой дверь, он неуклюже сел на край табуретки. Майзель протянул ему сигарету, и его рука бледным пауком уползла из зыбкого светового круга. Ссутулившись, Октав подкурил от свечи. На тумбочке щетинилась бычками и жженными спичками банка из-под шпрот.
Отставив кружку, Майзель кинул на Октава изучающий взгляд и серьезным тоном произнес:
- У меня к тебе дело, Гершеле. Очень важное дело.
- Какое?
- В прошлом году ты говорил мне, что тебя вряд ли возьмут на хорошую работу. Поверишь ли ты мне, если я скажу, что могу тебе с этим помочь?
- Смотря какая работа, - апатично отозвался Октав. В возможности Майзеля он не верил, а бороться за свою жизнь не мог и, кажется, не хотел.
- Работа нелегальная. Зато в Берлине.
- Наркота, что ли? – догадался Октав. Он вспомнил, за что именно сидит Майзель и где он раньше жил.
- Ага. Марафет, - плутовато улыбнулся тот. – У меня там товарищ живет, мистер Родмахер. Если я напишу тебе рекомендацию, то он не сдаст тебя в первый же день, чтобы обеспечить крипо хорошую статистику.
- А при чем здесь крипо?
- При том, что далеко не каждый немец является образцом добродетели. И на легавых это тоже распространяется.
Нахмурив брови, Октав глубоко затянулся. Майзель был прав: в тридцатых годах Геббельс, который был тогда в расцвете своих жизненных сил, пытался покончить с собой из-за любви к чешской актрисе, и если даже такой фанатик поддался искушению, то от обычных полицейских и вовсе не следовало ожидать стойкости. Но предложение Майзеля от этого соблазнительней не стало. Октав пока еще не думал, чем заняться после освобождения. К тому же, оно, учитывая наклонности Страшко, могло и не состояться.
Майзель усмехнулся, и на освещенной половине его вытянутого лица сверкнул васильково-синий глаз:
- Ты наверняка знаешь, Гершеле, что наркотики плохо сказываются на здоровье. Делают генофонд бракованным, повышают риск врожденных патологий у младенцев, повышают риск бесплодия и выкидышей у женщин…
- У немецких женщин? – вздрогнул Октав. Неопределенное, тягостное чувство шевельнулось в его сердце, будто трупный червь.
Майзель издал злорадный смешок:
- Естественно. Это же Берлин.
Не замечая, что пепел сыплется ему на пиджак, Октав замер с сигаретой в руке. Мерцали в темноте золотистые снежинки, слабо подергивались рамы, будто кто-то пытался пробраться в комнату снаружи. Майзель потягивал из кружки чай и ждал, когда Октав соберется с мыслями.
- Давай представим, что я согласился, но не оправдал ожиданий твоих коллег. Что со мной будет? – спросил тот, найдя нужные слова.
Майзель посерьезнел, угрюмо в него всмотрелся и медленно перечеркнул большим пальцем собственное горло. Октав поежился. Повисла неловкая тишина, прерываемая лишь глухими завываниями бурана.
- Что ж… Думаю, это справедливо, - пожал Октав плечами.
- Понимаю твои сомнения. В конце концов, это серьезный бизнес. Не радикальные сионисты, конечно, но тоже хлеб, - сказал Майзель и, склонив голову набок, многозначительно добавил. - Даже жаль, что не сионисты. Думаю, ты бы вписался в их ряды.
- Вряд ли из меня получился бы радикальный сионист. Я слишком безвольный.
Майзель растянул губы в странной улыбке:
- Теоретически ты можешь им стать. При определенных обстоятельствах.
У Октава засосало под ложечкой. Важный подтекст, таящийся в словах Майзеля, наконец стал для него очевидным. Октав понял, кого Майзель имеет в виду под "определенными обстоятельствами", понял, что загадочный мистер Родмахер, скорее всего, распространяет наркотики не только ради прибыли. До Октава запоздало дошло, что Майзель уже второй год мягко и ненавязчиво его вербует.
- Не торопись, Гершеле. Можешь думать хоть до ноября, - понимающим тоном сказал тот. – Если тебе понадобится помощь, мистер Родмахер с удовольствием тебя примет.
Время в Паульмунде текло медленно, как загустевший мед. Пока Октав размышлял, размышлял долго и вдумчиво, представляя себя в непривычном для него амплуа идейного террориста, город неуклюже ворочал дни и недели. Комендант отправил жену и детей на отдых в Крым, отряды народной милиции искали в лесах мальчика, пропавшего после крещенских морозов, а в драматическом театре имени Эккарта, который был для горожан предметом гордости, поставили комедию "Две свадьбы в один день". Октав вспоминал своего тезку, - Гершеля Гриншпана, чей выстрел стал поводом для Хрустальной ночи, - и мысленно убивал из пистолета эсэсовского офицера, однако пошатнувшееся здоровье насмешливо возражало его жестоким мечтам.
"Это произошло здесь", - осознавал Октав всякий раз, когда заходил в подсобку.
Спирало дыхание, сдавливал ребра ужас, бросалось в бешеный галоп сердце. Еда не лезла в горло, и Октав с трудом запихивал в желудок половину порции, а после отбоя долго не мог уснуть, боясь закрыть глаза и увидеть свой последний сон, однако ближе к утру, когда усталость становилась непреодолимой, отключался. Он боялся даже представить, как поведет себя, вновь увидев Страшко на пороге библиотеки. В коробке со старыми выпусками "Паульмундер адлер" дожидалось своего часа сапожное шило, но Октав сомневался, что сможет пустить его в ход. Пока что он склонялся скорее к нервной истерике, нежели мужественному акту сопротивления. Боевик из Октава был никудышный.
Отвлечься от самоедства удалось лишь в конце января, когда Октав снова наткнулся в кладовой на труп самоубийцы. На этот раз дверь не была заперта изнутри, а покойник выглядел необычно: это был не затравленный всеми гомосексуалист, а брутальный русский уголовник с помятым лицом и сломанным носом – такие обычно убивали других, а не себя. Труп валялся за стеллажом с бытовой химией, из закатанных рукавов полосатой рубахи торчали жилистые руки, искромсанные бритвой, а сама бритва, грязная и ржавая, валялась на полу, в темной луже запекшейся крови.
Осмотрев замок, Октав не заметил на нем царапин и понял, что уголовник либо профессионально его взломал, либо позаимствовал у кого-то ключ. Судя по тому, что труп уже окоченел, произошло это несколько часов назад. Отогнав от себя тревожные подозрения, Октав запер кладовую и спустился на первый этаж. Сдавленно гремел медью лагерный оркестр, наигрывая романтическую песню "Увезу тебя я в горы".
- Если бы ты не был такой амебой, я бы решил, что это ты их тут убиваешь, - буркнул Исаев, когда Октав привел его к найденному трупу.
- Я не амеба, - обиженно возразил Октав.
Вечером того же дня задымила труба крематория, марая черными клубами землисто-розовый закат. Вернувшись в культурхауз утром, после трех часов призрачного сна, Октав наткнулся в фойе на Эмиля, который, прижимая к груди жестяную банку из-под маргарина, ходил от одного фикуса к другому и рассыпал по горшкам пепел. Поморщившись, Октав поднялся в библиотеку и выбросил из головы вчерашний инцидент, но сделал это совершенно зря. Спустя пару часов, возвращаясь из кладовой с тюбиком клея, он столкнулся на лестнице с уголовником, которого до этого никогда не видел.
Это был крепко сбитый русский с ушанкой набекрень, распахнутым ватником и синими от татуировок пальцами. "СССР", - сообщала его левая кисть, "КПСС", - добавляла правая, однако о политических взглядах уголовника это ничего не говорило. Русские блатные уважали исчезнувшее советское государство лишь потому, что до оккупации оно было противником текущего режима, который теперь карал их за нарушение законов.
- Привет, Апаш! – воскликнул уголовник по-немецки. Не дав Октаву опомниться, он положил ему руку на плечо и притянул к себе, будто встретил давнего друга.
Октав попытался вывернуться, однако к горлу тут же прижалось что-то острое. Замерев, он скосил глаза и разглядел в татуированных пальцах граненую рукоять отвертки.
- Если не будешь кричать и честно ответишь на мои вопросы, то я тебя не убью, - вполголоса добавил уголовник и ощерился кариозными зубами.
- Какие вопросы? – лаконично осведомился Октав, стараясь не кривиться. От уголовника пахло квашеной капустой и перегаром.
- Говорят, это ты нашел Юру. Каким был труп?
- Вы говорите про мужчину, который убил себя в кладовой? – уточнил Октав.
Судя по всему, лагерный блаткомитет направил к нему уголовника, который лучше всех говорил по-немецки, и Октав, объективно оценив ситуацию, решил выражаться как можно примитивнее. Ему не хотелось, чтобы подобный молодчик неправильно его понял.
- Да, я говорю про него. Ну так что?
Октав прислушался, но уловил лишь неясный гул оркестра, увязающий в кисельно-густой тишине. Исаев, скорее всего, отдыхал у себя в каморке, а Эмиль убирался внизу. Впрочем, даже если бы последний находился поблизости, на него можно было не рассчитывать: уголовник прогнал бы Эмиля одним лишь взглядом, вложив в него весь свой авторитет.
- На полу были сухие пятна крови. Лицо было бледным. Труп был холодным и не гнулся, - кратко изложил Октав.
- Каким был замок? Его вскрывали?
- Не знаю. Царапин не было.
Уголовник издал тяжелый, шумный вздох. Октаву стало не по себе. Кажется, его ответ оказался недостаточно удовлетворительным.
- Скажи мне, Апаш… - глухо начал уголовник, заставив его поежиться. – Кто мог впустить Юру в кладовую?
- Я не знаю. Это был не я.
- Хочешь сказать, что дверь открыл Владимир Павлович? Или фейгеле Эмиль?
- Я такого не говорил. Но это точно был не я, - мрачно повторил Октав. Он уже знал, что лагерный кодекс порицает бездоказательные оговоры, и не хотел, чтобы его поймали на слове.
Опасливо покосившись на уголовника, Октав заметил, что тот буравит его угрюмым, немигающим взглядом. Решив выдержать давление, Октав посмотрел на него в ответ, хоть и понимал, что выглядит сейчас затравленно. Сквозь вонь перегара и квашеной капусты пробивался зыбкий, как мираж, смрад горящей плоти. Определившись с вердиктом, уголовник спрятал заточенную отвертку в рукав ватника, и Октав с облегчением отшатнулся в угол лестничной клетки.
- Если я узнаю, что ты мне солгал, тебе капут. Ферштейн, юде? – сказал напоследок уголовник, мешая языки. – Мой дядя был на Львовском погроме. Если ты мне солгал…
"Нашел, чем меня пугать", - презрительно подумал Октав, но вслух лишь произнес:
- Не надо, я понял. Я говорю правду.
Довольный ответом, уголовник запахнул ватник и, как ни в чем не бывало, спустился по лестнице вниз, но Октав все-таки успел прочесть его имя, указанное на бирке с личными данными - Григорий Васильев. Решив сообщить об этой стычке Майзелю, Октав вернулся в библиотеку и скрылся в подсобке. Ему нестерпимо хотелось курить.
Вытаскивая из шкафчика пачку сигарет, Октав уловил краем глаза движение в небольшом зеркале, которое висело сбоку от вешалки, и впервые за долгое время осознал, что там отражается не он, а кто-то совершенно другой – изможденный еврей с землистым лицом и синеватыми подглазьями. Из-под мютцена выбивались спутанные пряди черных волос, глаза и нос казались больше, чем были на самом деле, а под кожей проступали контуры черепа. Еврей был жив, но походил скорее на мертвеца, чем на живое существо.
- Выглядишь, как ничтожество. Неудивительно, что с тобой плохо обращаются, - сообщил ему Октав, и отражение зашевелило обветренными губами.
Серым февральским днем, когда Октав сидел за библиотекарским столом и торопливо заполнял читательские карточки, чтобы поскорее оказаться в столовой, на пороге библиотеки бесшумно возник Страшко – словно он пришел не пешком, а прополз по стене коридора, как сколопендра. На шее у него висел неизменный фотоаппарат, а в руках он бережно держал килограммовую жестяную банку, в которой, судя по рисунку, находилось кофе.
Октав встал, стянул с поникшей головы мютцен и сбивчиво произнес:
- Добрый день, герр штурмманн…
- Очень рад, что ты выздоровел, - расцвел Страшко веселой улыбкой, которая обнажила его островатые клыки. - Я тебе по такому случаю подарок принес. Ты, конечно, скорее Юдифь, чем Саломея, но я уверен, что тебе понравится.
Сказав это, Страшко вальяжно подошел к столу и поставил банку перед Октавом.
- Спасибо, герр штурмманн, - пробормотал Октав и нерешительно взял теплую банку в руки. По лагерным меркам подарок был щедрый, даже роскошный, но в сочетании с женскими именами, которые Страшко перечислил, выглядел крайне подозрительно.
- Ты лучше внутрь посмотри, - приказал Страшко.
Отряхнув ладони об брюки, он подошел к металлической двери и запер её изнутри. Лязгнул замок, у Октава заныло сердце. Страшко вернулся к столу и замер напротив Октава, впившись в него предвкушающим взглядом.
- Давай, открывай уже. Хочу посмотреть на твою реакцию. Такое происходит раз в жизни, - ухмыльнулся Страшко.
Делать было нечего. Октав осторожно поддел крышку ногтем и обмер. Банка была до краев заполнена серовато-белой золой, которая источала ощутимое тепло. Октав округлил глаза и тупо уставился на золу, а всё, что он хотел до этого сказать, вылетело у него из головы.
- Помнишь того русского, который грозился тебя убить? – вкрадчиво поинтересовался Страшко.
- Откуда вы знаете про этот разговор? – промямлил Октав.
- Случайно подслушал. Решил, что этот дегенерат зашел слишком далеко. Нельзя так с людьми.
"Бред. Нагреб пепла из печи, вот и всё", - уцепился Октав за спасительную догадку. Закрыв банку, он поставил её на стол и еле слышно произнес:
- Большое спасибо, герр штурманн. Я очень вам благодарен.
- А теперь давай, пошел. У меня сегодня мало времени, - подтолкнул его Страшко в сторону книгохранилища.
- Не надо, герр штурмманн! – запаниковал Октав, оглядываясь на него. – В прошлый раз…
- Не бойся, Гершель, эксперименты закончились. Теперь твоя жизнь в полной безопасности, - с хищной нежностью успокоил его Страшко, надавив руками на плечи.
Опустив голову, Октав ссутулился и побрел в подсобку. За окнами пылила снежная пурга, по металлическим прутьям стеллажей и ветхим корешкам книг плавно скользили две мужские тени.
Страшко не солгал: на этот раз он действительно не душил Октава. Туго стянув ему запястья бельевой веревкой, Страшко грубым толчком повалил Октава на шершавый кафельный пол и всего лишь избил резиновой дубинкой. Сглатывая кровавые сопли, которые стекали по носоглотке, Октав сжимался в комок и приглушенно рыдал, однако быстро обессилел. Он мог лишь хрипло, тяжело дышать и хватать ртом воздух, подставляя фотокамере заплаканное лицо, перемазанное кровью.
- Я же говорил, что всё будет нормально, - успокаивал его Страшко, щелкая затвором фотоаппарата. – Не волнуйся, я тебя по почкам не бил, только шкуру попортил.
Когда Страшко ушел, Октав вытер лицо, замыл пятнышки крови на рубахе, насобирав с подоконника снега, и понял, что в столовую уже не успеет – до конца обеденного перерыва оставалось пятнадцать минут. Растерянно обхватив себя руками, Октав вышел в коридор, залитый бледным светом люминесцентных ламп.
- Добрый день, герр библиотекарь, - елейно произнес кто-то сбоку.
Повернув голову, Октав увидел в тупике коридора Эмиля, который угодливо улыбался ему, опираясь одной рукой на швабру. В углу стояло оцинкованное ведро, из которого разило хлоркой. Эмиль заканчивал убирать второй этаж, и это значило, что находился он здесь уже давно и наверняка всё слышал.
- Опять не работаешь, Виеру? – строго спросил Октав, расправив плечи. Он удивился тому, как угрожающе, а не жалко прозвучала на этот раз его картавая речь.
Эмиль побледнел:
- Нет, герр библиотекарь. Я просто…
- Если еще раз увижу, что ты не работаешь, об этом узнает герр староста, - пригрозил Октав, глядя на него сверху вниз, и поправил нарукавную повязку.
Эмиль смутился и принялся усердно тереть шваброй мозаичный пол. Мысленно поблагодарив судьбу за то, что рядом не оказалось ничего, чем Эмиля можно было ударить, Октав вернулся в библиотеку, покопался в книгохранилище и швырнул на стол стопку книг, которые нужно было привести в порядок. Впереди был целый день неистового, обсессивного труда.
В десять часов вечера, когда хефтлинги, придурки и капо выстроились на аппельплацу для переклички, Октав сосредоточился и приготовился слушать. Мордатый эсэсовец в кожаном плаще выкрикивал фамилию за фамилией, однако Григория Васильева в списке заключенных не оказалось.
Осознав это, Октав впервые с того дня, когда его арестовали, растянул губы в искренней улыбке: Страшко не только пытал его, но и проявлял психопатическое подобие заботы, а это, учитывая специфическую внешность Октава, отнюдь не было лишним. В конце концов, один садист, давно знакомый и хорошо изученный, был гораздо предпочтительнее непредсказуемого коллектива. Усиленно картавя и изображая не до конца забитое ничтожество, пытающееся иногда сопротивляться, можно было без особых проблем дожить до освобождения.
О сапожном шиле, которое до сих пор лежало в коробке со старыми газетами, Октав позабыл. Днем он работал в библиотеке, после отбоя пил чай с Майзелем, утаивая от него свое истинное положение, а в конце каждого месяца становился жертвой Страшко, который наслаждался его неподдельным страхом. Число сигаретных ожогов на руке Октава достигло девятнадцати, и теперь они опоясывали запястье неровным кольцом белых щербин.
Страшко подобный расклад более чем устраивал. Фаталистичная покорность Октава расхолаживала его, наполняя самодовольством и уверенностью в своих силах. Он показывал Октаву наиболее удачные фотографии, дарил неподписанные почтовые открытки с изображением оленей, явно намекая на его домашнее имя, и требовал рассказывать о жизни в парижском гетто. Октав рассказывал, и Страшко слушал его с нескрываемой жадностью, хищнически сверкая глазами.
Отстраняясь от своего прошлого, Октав говорил о любопытном мальчике, который бегал в ближайший кинотеатр на фильмы про Фантомаса, донашивал за сыном соседей кургузое пальто и выглядывал сквозь оконце общего чердака, заколоченное досками, на рю Виши, по которой прогуливались парижане, обладающие всеми гражданскими правами. В середине лета, когда бытовые истории подошли к концу, Октав понял, что теперь придется рассказывать о мрачных эпизодах детства.
Надвигались из-за горизонта черные тучи, в открытую форточку вваливался предгрозовой воздух, пропитанный свежим ароматом озона. Страшко сидел на табуретке, а Октав стоял перед ним и рассказывал, как однажды вечером, когда ему было десять, его преследовал в темном переулке подозрительный мужчина.
- И что он делал? – спросил Страшко, пристально глядя Октаву в глаза.
- Предлагал мне сигареты, но я тогда еще не курил. Предлагал деньги, но я понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет.
- Почему он шел именно за тобой?
Октав неопределенно повел плечами:
- Наверное, я выглядел, как мишлинг, который точно не пожалуется жандармам.
- И чем всё закончилось? – прищурился Страшко.
- Он схватил меня на руки и куда-то потащил. Я укусил его за нос, и он уронил меня. Я убежал, - лаконично завершил Октав свой рассказ.
Страшко уставился в пространство, медленно выдохнул и поводил по подсобке серыми глазами, в которых играл сумрачный блеск. Октав насторожился. Страшко встал с табуретки, хрустнул пальцами и без предупреждения ударил его кулаком в живот. Октав вскрикнул, согнулся пополам и мешком повалился на пол, стукнувшись лбом об начищенный солдатский ботинок, пахнущий ваксой.
- Надеюсь, сегодня мы обойдемся без блевотины, - угрожающе произнес Страшко. – Если тебя опять вырвет, ты будешь слизывать всё с пола, как собака. Ясно, жидовская мразь?
- Меня не вырвет, герр штурмманн! – выдавил Октав, подчеркнуто картавя, хотя слова, которые Страшко подобрал для описания ситуации, вызывали именно такое желание.
Когда Страшко ушел, Октав смыл с лица кровь, обмотал бинтом запястье, на котором вздулся пузырем новый ожог, и прислушался к внутренним ощущениям. Не заметив ничего критичного, он отряхнул пиджак и решил вернуться к работе, но, выходя из подсобки, уловил краем глаза, как что-то сверкнуло под столом, будто прыгающая на воде блесна. Прищурившись, Октав вернулся назад и удивленно вскинул брови: на полу, прижимаясь к крашеному плинтусу, валялся черный бумажник с металлической кнопкой. Октав затаил дыхание. У него не было бумажника уже второй год, а обронить его в подсобке мог лишь один человек.
Насухо вытерев вспотевшие ладони об штаны, Октав воровато подобрал бумажник и сел на скрипнувшую табуретку. Понимая, что вскоре он пожалеет о принятом решении, Октав с азартом карточного игрока раскрыл бумажник и обнаружил внутри хрустящие рейхсмарки, однако интересовали его совсем не деньги. Найдя в одном из отделений членский билет турклуба "Фогельзанг", Октав поправил очки и пробежался жадным взглядом по печатным буквам. Анатолий Емельянович Страшко, рожденный в 1942 году, проживал в десятом доме на Росток-штрассе.
В другом отделении хранились фотографии, обрезанные под размер бумажника – на их неровных краях виднелись следы маникюрных ножниц, и на первом же снимке Октав разглядел тот самый дом на Росток-штрассе - бревенчатый, с резными наличниками и обрывком эмалированной таблички, на которой чернело число "10". Перед домом позировала семья: улыбающийся Страшко, обнимающий ровесницу с короткой стрижкой, и два мальчика лет пяти, в лицах которых угадывались смягченные черты отца.
Усмехнувшись, Октав перешел к следующему снимку и увидел другую часть дома – палисадник, заросший рябиной. Под её алыми кистями, поблескивая сединой, стояла женщина в цветастом платье, которой на вид было около пятидесяти. Скорее всего, это была мать Страшко.
От третьего снимка Октава передернуло: там были изображены его ноги в полосатых штанах и лагерных башмаках, туго связанные бельевой веревкой.
- Самоуверенный кретин, - пробормотал Октав себе под нос.
То ли Страшко одурел от власти настолько, что перестал бояться случайного разоблачения, то ли действительно был любимчиком коменданта, который мог замять любые его грехи – если, конечно, дело касалось мишлингов.
Неизученным оставался последний снимок. Ожидая увидеть крупный план собственного лица, Октав скучающе взглянул на фотографию, но вмиг оцепенел, будто его ткнули шилом под дых. На фоне бетонного пола и зеленых стен висел в веревочной петле светловолосый пимпф лет двенадцати. Как и полагалось гитлерюнге, он был одет в табачного цвета рубашку, короткие шорты и ботинки с гольфами, а синюшное лицо свидетельствовало лишь об одном – пимпф был мертв.
Октав не мог стряхнуть с себя клейкое оцепенение. Мелко дрожал подбородок, атонально гудел на грани слышимости оркестр. Первой пришла мысль, что Страшко, хоть и был гомосексуалистом, явно не делал с Октавом ничего незаконного – тот был для него слишком зрелым. Мгновением позже всплыли в памяти черно-белые фотографии пропавших мальчиков.
"Oy gevalt…" – с ужасом подумал Октав. До него дошло, что если Страшко заметил пропажу бумажника, то наверняка теперь его ищет.
Сделав глубокий вдох, Октав представил, что это происходит не с ним, аккуратно сложил снимки в правильном порядке и вернул бумажник ровно на то место, откуда он его взял. Затем Октав покинул подсобку, усеянную желтоватыми брызгами исчезающего солнца, и приступил к работе.
Над концлагерем расползались пепельно-черные тучи, взблескивали сталью витки колючей проволоки. Октав сидел за библиотекарским столом и бездумно перебирал читательские карточки, раскладывая их в алфавитном порядке. На краю стола, придавленная бюстом Гитлера, лежала почтовая открытка: молодой олень, задевая рогами мохнатые ветви, шагал по тропе сквозь сумрачный ельник. Снаружи всё явственнее пахло озоном. Крикливо галдели сороки. Страшко вернулся через двадцать минут.
Он натянуто усмехался, однако смотрел холодно и сосредоточенно, как патологоанатом. Вскочив со стула, Октав сдернул с головы мютцен и постарался испугаться не больше обычного.
- Расслабься, Гершель, с тебя на сегодня хватит, - криво улыбнулся Страшко. – Скажи лучше вот что… Ты уборку еще не делал?
- Нет, герр штурмманн. Я убираюсь в шесть часов вечера, согласно правилам внутреннего распорядка, - услышал Октав собственный голос, ровный и спокойный.
- Молодец. Правила надо соблюдать, - с видимым облегчением выдохнул Страшко.
Ничего не объясняя, он прошел в книгохранилище и скрылся за порогом подсобки. Вслушиваясь в торопливый шорох, который оттуда доносился, Октав радовался, что Страшко не видит сейчас его перекошенного лица. В музыкальной секции мажорно гремели трубы, заглушая дробный стук барабана.
- Вам помочь, герр штурмманн? – окликнул его Октав, вложив в голос всю возможную учтивость.
- Не надо, я сам, - послышалось в ответ приглушенное ворчание.
Нервно дернув плечом, Октав поправил нарукавную повязку и вернулся за стол. Он старательно сохранял безучастный вид, представлял себя главным героем американского триллера и выполнял бессмысленную работу, раскладывая в алфавитном порядке читательские билеты заключенных, фамилии которых начинались на букву "В".
Не прошло и минуты, как покрасневший, запыхавшийся Страшко с довольной гримасой вышел из книгохранилища. Октав посмотрел на него, вопросительно вскинув бровь.
- Чуть получку не потерял, - насмешливым тоном сказал Страшко, демонстрируя бумажник. – Очень надеюсь, что ты меня не обокрал.
- Я никогда ничего не краду, герр штурмманн. Я шулер, а не вор, - заверил его Октав.
- Смотри у меня. Если не досчитаюсь денег, то организую тебе Бабий Яр, - шутливо пригрозил Страшко.
Октав поежился и издал несмелый смешок, который, впрочем, был сейчас уместен. Страшко спрятал бумажник в карман форменной куртки, застегнул его на пуговицу и, потрепав Октава по голове, вышел из библиотеки.
Когда гулкий стук солдатских ботинок миновал лестничную клетку и растворился в тишине первого этажа, Октав вышел из-за стола, деревянной походкой направился в книгохранилище и лишь там, оказавшись в прохладной тени стеллажей, позволил себе испуганно вздохнуть, содрогнувшись всем телом. Руки и ноги тряслись от накатившей слабости, будто небрежное прикосновение Страшко вытянуло из Октава последние силы.
Вечером Октав управился с уборкой гораздо быстрее, чем обычно. Запершись в библиотеке, он устремился к последнему стеллажу, на нижней полке которого хранились коробки со старыми газетами. Схватив последний выпуск "Паульмундер адлер", Октав отыскал раздел криминальной хроники и увидел уже знакомый ему фрактурный заголовок – "Помогите найти ребенка!". Ниже располагалась черно-белая фотография еще живого, не подозревающего о своей скорой смерти пимпфа – одиннадцатилетнего фольксдойче Максима Шнейдмюллера, который совсем недавно позировал Страшко, агонизируя в петле, а теперь наверняка разлагался в одном из лесных буераков, обрастая мухоморами и полевыми цветами.
Чем дальше Октав уходил в прошлое, тем сильнее его мутило. Каждый месяц минувшего года смотрел на него бледными глазами очередного мальчика, который вышел из дома и обратно уже не вернулся. Все они обладали арийской внешностью, были членами гитлерюгенда и вступали в подростковый возраст. Выпусков за прошлый год в библиотеке уже не было, но Октав прекрасно помнил, что объявления о пропаже детей бросились ему в глаза уже тогда.
"Минимум двадцать жертв, - с отвращением подумал он, возвращая коробку на место. - Кажется, в Паульмунде действует маньяк, но власти это не афишируют. Впрочем, как всегда".
Сомнений не оставалось: штурмманн Страшко однозначно был педофилом, который похищал гитлерюнге и затем избавлялся от них, а в перерывах между убийствами, чтобы хоть как-то продержаться до следующего раза, вымещал гнев на прикормленном мишлинге. Однако доносить на Страшко не хотелось.
"В конце концов, пропадают немцы. Какое мне до них дело?" – мысленно сказал Октав сам себе, медленно затягиваясь и выдыхая дым в заоконные сумерки.
Ночь он провел без сна, сжимая в руке острое шило. В потемках влажно мерцали черные глаза, под одеялом застыло в напряжении изможденное туловище. Октав слышал всё: как барабанит по крыше барака запоздавший ливень, как похрапывают, тонко присвистывая, уставшие за день кухрабочие, как скрипят под весом дневального ступени деревянной лестницы. Октав был готов нанести удар.
Однако за ним никто не пришел. Переполненный нервным возбуждением, утром Октав отправился на работу и первым делом выбросил всю еду, которую обычно хранил в подсобке: заварку, сахар, печенье… Нельзя было исключать, что Страшко, у которого тоже имелся ключ от библиотеки, мог прийти туда ночью и отравить продукты.
Тем не менее, предосторожности оказались излишними. Страшко держался так, будто ничего экстраординарного не произошло, а Октав отвечал ему тем же и с неожиданным для себя спокойствием, которое, впрочем, не выказывал, позволял себя избивать. Унижая Октава, Страшко мог сохранять хладнокровие и убивать немецких детей, не попадая в поле зрения крипо. Неожиданное чувство причастности могло бы перерасти в подобострастие, но этому, к счастью, мешало отвращение, которое Октав не мог и не желал пересиливать. Все-таки Страшко был членом СС. Прилежно играя роль запуганной жертвы, Октав дожидался шестого ноября – дня своего освобождения.
Но освободили его гораздо раньше.
В конце августа Страшко вновь возник в дверях библиотеки. Он был задумчив, молчал и не улыбался. Подойдя к библиотекарскому столу, он остановился, уперся руками в столешницу и принялся поедать глазами Октава, который заполнял журнал учета - распухший от закладок гроссбух. Вскинув голову и отложив ручку, Октав заметил, что во взгляде Страшко отчетливо читается сожаление. Какое-то время Октав озадаченно смотрел на него в ответ, дожидаясь хоть каких-нибудь, даже оскорбительных слов, однако молчание быстро стало невыносимым.
Не выдержав, Октав поправил сползший набок мютцен и спросил:
- Всё в порядке, герр штурмман? Вид у вас какой-то невеселый.
Страшко выпрямился и, сложив руки на груди, меланхолически уставился в окно:
- Через две недели к нам приедет инспектор из Берлина. Герр комендант решил, что его нужно порадовать спектаклем.
- Каким?
- "Венецианский купец", - хмыкнул Страшко, снова взглянул на Октава и несколько оживился. - В труппу набрали заключенных, которые лучше всех говорят по-немецки, и ты, само собой, тоже участвуешь. И знаешь, какая тебе досталась роль?
Октав тяжело вздохнул. Он уже не раз играл Шейлока – и в школе, и в профучилище. Медленно встав со стула, он посмотрел на Страшко, вскинул подбородок и гневно сверкнул глазами.
- Если нас отравить – разве мы не умираем? - спросил Октав, подчеркивая свою картавость. – А если нас оскорбляют – разве мы не должны мстить?
Гладко выбритое лицо Страшко перекосилось в гримасе отвращения, будто по нему прополз домашний паук. Несколько секунд Страшко молчал, исподлобья буравя Октава угрюмым взглядом, однако потом всё понял и плотоядно ухмыльнулся.
- Какая хуцпа[58], Гершель. Но для спектакля в самый раз, - сказал он, пока его рука кралась по столу к руке Октава. – Инспектору захочется тебя придушить, и он уедет довольный.
[58] наглость (идиш)
- Я не хочу, чтобы меня душил инспектор, - буркнул Октав. Выйдя из роли Шейлока, он опустился на стул и придвинул к себе гроссбух. Рука Страшко замерла на полпути, так и не добравшись до цели.
- Правильно, что не хочешь. Вряд ли он умеет делать это так, как я.
Застучали по полу солдатские ботинки, и Октав почувствовал, как Страшко, ничего не говоря, остановился у него за спиной. Не изменившись в лице, Октав взял ручку и вычеркнул из списка имеющихся книг роман о фермерах и еврейском коммерсанте, который на днях рассыпался до такой степени, что восстановить его теперь было невозможно.
- Как ты уже догадался, Шейлок не должен напоминать жертву пыток, - тихо произнес Страшко, - так что придется мне обойтись без тебя. Пока что. А когда инспектор уедет…
Не окончив фразу, Страшко схватил Октава за волосы и, явно сдерживаясь, ткнул его лицом в гроссбух. От удивления Октав вскрикнул, но быстро опомнился. Поправив очки, он повернулся к Страшко и безучастно сказал:
- Конечно, герр штурмманн. Я всё понимаю.
Репетиции начались через несколько дней. Натянув поверх полосатой робы пахнущий нафталином лапсердак, Октав изображал Шейлока, который в его исполнении походил скорее на молодого жулика, чем на ростовщика. Мясистая сутенерша из женского сектора, игравшая дочь Шейлока, была старше Октава на десять лет и произносила свои реплики хриплым голосом курильщицы, а грабитель, получивший роль Антонио, был таких габаритов, что с легкостью мог решить все свои проблемы, утопив Шейлока в венецианском канале. Впервые за два года Октав увидел, как Исаев, который наблюдал за репетициями со зрительской скамьи, заливается искренним, гомерическим хохотом.
Берлинского инспектора, высокого эсэсовца с рубленым подбородком, Октав видел всего один раз, когда тот приходил в библиотеку, чтобы возмутиться плохим состоянием книг. На Октава инспектор не смотрел вовсе, будто считал его деталью интерьера, однако именно с подачи инспектора Октава освободили досрочно – не юридически, но фактически. Произошло это за три дня до спектакля.
Вечером, когда Октав вышел из книгохранилища, чтобы сходить на первый этаж за ведром и шваброй, в библиотеку с шумом ввалился Страшко. Ткнувшись плечом в железный косяк, он лениво повел головой, как деревенский бык, и остановил расфокусированный взгляд на Октаве, который при его появлении замер возле библиотекарского стола. Светло-серые глаза Страшко тускло блестели, как омытая водой галька, а черная униформа была влажной от дождя, который моросил с самого утра. Фотоаппарата и варенья при Страшко не было.
- Добрый вечер, герр штурманн, - произнес Октав, угодливо ссутулившись.
- Добрый, добрый… - тягучим эхом отозвался тот.
Оттолкнувшись от косяка, он грузно зашагал в сторону Октава, остановился перед ним и тряхнул подбородком, словно отгоняя назойливую муху. Сквозь удушающий запах дешевых сигарет и одеколона "Альпы" отчетливо пробивался кисловатый смрад перегара.
- Что вам угодно, герр штурмманн? – с опаской поинтересовался Октав.
- Не задавай глупых вопросов, Либерман. Иди в подсобку, - приказал Страшко, махнув рукой в сторону книгохранилища.
Октав нахмурил брови. Если в январе Страшко, будучи совершенно трезвым, вошел в раж и придушил его слишком сильно, то на самоконтроль пьяного Страшко рассчитывать уж точно не стоило.
- Боюсь, герр штурмманн, что это невозможно. Вы сами говорили, что меня нельзя трогать, пока не состоится спектакль, - возразил Октав и осторожно шагнул назад. В коробке со старыми газетами, куда обычно никто не заглядывал, до сих пор лежало сапожное шило.
- На хуй спектакль. Иди в подсобку, шваль картавая, пока я тебе пальцы не переломал, - процедил Страшко, перейдя на русский.
- Если Шейлок будет хрипеть, то инспектор заподозрит неладное.
- Скажешь, что простыл.
- Если я не смогу выйти на сцену, потому что буду лежать в лазарете с температурой и бредом, то инспектор точно заподозрит неладное.
- А что тебя не устраивает, скотина? Что я в тот раз передержал?! – искривился Страшко, сорвавшись на пьяный крик. – Ты, между прочим, вообще не дышал! А я тебя реанимировал, хотя мог просто сжечь в крематории! Как всех остальных жидов!
Октав невольно представил, как Страшко делает ему искусственное дыхание, припадая мясистым ртом к его синюшным губам, и его передернуло от отвращения.
- Ты лжешь, Слива. Ты лжец и выродок, - произнес Октав глухим, дрожащим голосом, но тоже сорвался на крик. - Gey in drerd arayn![59]
[59] "Чтоб ты сдох!" (идиш)
Что именно произошло дальше, Октав так и не понял. Он помнил, что Страшко, схватившись за резиновую дубинку, с неожиданной быстротой кинулся в его сторону, он помнил, как побежал в книгохранилище, получил тяжелый удар по затылку и ничком повалился на пол, успев выставить перед собой руки, чтобы смягчить падение.
- Пиздец тебе, жид. Не понял, что ты сейчас сказал, но теперь ты у меня вообще разучишься говорить, - по-русски произнес Страшко, не скрывая злорадства.
Резкая, мучительная боль на миг ослепила Октава, пронзив его левое колено. Октав попытался отползти вперед и хрипло вскрикнул – нога волочилась за ним, как бесполезный груз.
- Куда собрался, сволочь? – пьяно засмеялся Страшко. На костистые пальцы Октава, цепляющиеся за крашеные доски, обрушилась подошва солдатского ботинка.
- Пожар! Горим! – взвыл Октав сквозь новую волну режущей боли.
Загудела, как колокол, голова. Ударившись лбом об пол, Октав почувствовал, как струится по лицу горячая кровь, и осознал, что силы неумолимо покидают его. С облегчением закрыв осоловевшие глаза, Октав перестал цепляться за жизнь и наконец потерял сознание.
Но der toyt не пришел и на этот раз. Очнувшись, Октав не сразу сообразил, где он находится: тошнотворно гудело в ушах, расплывались контуры предметов, давили на нос очки, распугивая и без того несвязные мысли.
- Слава богу! Ты в порядке? Ты помнишь, сколько тебе лет? Ты помнишь, как тебя зовут? – нервозно засыпал его вопросами мужской голос.
Сконцентрировавшись, Октав разглядел в беспорядочном мельтешении стены, выложенные голубым кафелем, обшарпанный потолок с желтоватыми разводами влаги и затененную голову Майзеля, которую тусклым ореолом окружало свечение люминесцентной лампы.
- Мне двадцать три года. Меня зовут Октав Леопольд Гаже. Гершель Либерман…
- Руками не шевели. Ногами тоже, - с мрачным видом предупредил его Майзель.
От этих слов Октаву стало не по себе. С трудом приподняв голову, он понял, что лежит на рыжей клеенчатой кушетке, а потом заметил свою правую руку, которая безвольно лежала вдоль тела, и оторопел. Искривленные, опухшие пальцы налились болезненной краснотой, а нестриженые ногти потемнели до глубокой синевы. Октав шевельнул указательным пальцем и вскрикнул – палец с хрустом согнулся, но совсем не в том месте, где должен был находиться сустав. Переведя затравленный взгляд на левую руку, Октав обнаружил там точно такую же изуродованную кисть, которая походила на раздавленного тарантула.
- Понимаю твои сомнения. В конце концов, это серьезный бизнес. Не радикальные сионисты, конечно, но тоже хлеб, - сказал Майзель и, склонив голову набок, многозначительно добавил. - Даже жаль, что не сионисты. Думаю, ты бы вписался в их ряды.
- Вряд ли из меня получился бы радикальный сионист. Я слишком безвольный.
Майзель растянул губы в странной улыбке:
- Теоретически ты можешь им стать. При определенных обстоятельствах.
У Октава засосало под ложечкой. Важный подтекст, таящийся в словах Майзеля, наконец стал для него очевидным. Октав понял, кого Майзель имеет в виду под "определенными обстоятельствами", понял, что загадочный мистер Родмахер, скорее всего, распространяет наркотики не только ради прибыли. До Октава запоздало дошло, что Майзель уже второй год мягко и ненавязчиво его вербует.
- Не торопись, Гершеле. Можешь думать хоть до ноября, - понимающим тоном сказал тот. – Если тебе понадобится помощь, мистер Родмахер с удовольствием тебя примет.
Время в Паульмунде текло медленно, как загустевший мед. Пока Октав размышлял, размышлял долго и вдумчиво, представляя себя в непривычном для него амплуа идейного террориста, город неуклюже ворочал дни и недели. Комендант отправил жену и детей на отдых в Крым, отряды народной милиции искали в лесах мальчика, пропавшего после крещенских морозов, а в драматическом театре имени Эккарта, который был для горожан предметом гордости, поставили комедию "Две свадьбы в один день". Октав вспоминал своего тезку, - Гершеля Гриншпана, чей выстрел стал поводом для Хрустальной ночи, - и мысленно убивал из пистолета эсэсовского офицера, однако пошатнувшееся здоровье насмешливо возражало его жестоким мечтам.
"Это произошло здесь", - осознавал Октав всякий раз, когда заходил в подсобку.
Спирало дыхание, сдавливал ребра ужас, бросалось в бешеный галоп сердце. Еда не лезла в горло, и Октав с трудом запихивал в желудок половину порции, а после отбоя долго не мог уснуть, боясь закрыть глаза и увидеть свой последний сон, однако ближе к утру, когда усталость становилась непреодолимой, отключался. Он боялся даже представить, как поведет себя, вновь увидев Страшко на пороге библиотеки. В коробке со старыми выпусками "Паульмундер адлер" дожидалось своего часа сапожное шило, но Октав сомневался, что сможет пустить его в ход. Пока что он склонялся скорее к нервной истерике, нежели мужественному акту сопротивления. Боевик из Октава был никудышный.
Отвлечься от самоедства удалось лишь в конце января, когда Октав снова наткнулся в кладовой на труп самоубийцы. На этот раз дверь не была заперта изнутри, а покойник выглядел необычно: это был не затравленный всеми гомосексуалист, а брутальный русский уголовник с помятым лицом и сломанным носом – такие обычно убивали других, а не себя. Труп валялся за стеллажом с бытовой химией, из закатанных рукавов полосатой рубахи торчали жилистые руки, искромсанные бритвой, а сама бритва, грязная и ржавая, валялась на полу, в темной луже запекшейся крови.
Осмотрев замок, Октав не заметил на нем царапин и понял, что уголовник либо профессионально его взломал, либо позаимствовал у кого-то ключ. Судя по тому, что труп уже окоченел, произошло это несколько часов назад. Отогнав от себя тревожные подозрения, Октав запер кладовую и спустился на первый этаж. Сдавленно гремел медью лагерный оркестр, наигрывая романтическую песню "Увезу тебя я в горы".
- Если бы ты не был такой амебой, я бы решил, что это ты их тут убиваешь, - буркнул Исаев, когда Октав привел его к найденному трупу.
- Я не амеба, - обиженно возразил Октав.
Вечером того же дня задымила труба крематория, марая черными клубами землисто-розовый закат. Вернувшись в культурхауз утром, после трех часов призрачного сна, Октав наткнулся в фойе на Эмиля, который, прижимая к груди жестяную банку из-под маргарина, ходил от одного фикуса к другому и рассыпал по горшкам пепел. Поморщившись, Октав поднялся в библиотеку и выбросил из головы вчерашний инцидент, но сделал это совершенно зря. Спустя пару часов, возвращаясь из кладовой с тюбиком клея, он столкнулся на лестнице с уголовником, которого до этого никогда не видел.
Это был крепко сбитый русский с ушанкой набекрень, распахнутым ватником и синими от татуировок пальцами. "СССР", - сообщала его левая кисть, "КПСС", - добавляла правая, однако о политических взглядах уголовника это ничего не говорило. Русские блатные уважали исчезнувшее советское государство лишь потому, что до оккупации оно было противником текущего режима, который теперь карал их за нарушение законов.
- Привет, Апаш! – воскликнул уголовник по-немецки. Не дав Октаву опомниться, он положил ему руку на плечо и притянул к себе, будто встретил давнего друга.
Октав попытался вывернуться, однако к горлу тут же прижалось что-то острое. Замерев, он скосил глаза и разглядел в татуированных пальцах граненую рукоять отвертки.
- Если не будешь кричать и честно ответишь на мои вопросы, то я тебя не убью, - вполголоса добавил уголовник и ощерился кариозными зубами.
- Какие вопросы? – лаконично осведомился Октав, стараясь не кривиться. От уголовника пахло квашеной капустой и перегаром.
- Говорят, это ты нашел Юру. Каким был труп?
- Вы говорите про мужчину, который убил себя в кладовой? – уточнил Октав.
Судя по всему, лагерный блаткомитет направил к нему уголовника, который лучше всех говорил по-немецки, и Октав, объективно оценив ситуацию, решил выражаться как можно примитивнее. Ему не хотелось, чтобы подобный молодчик неправильно его понял.
- Да, я говорю про него. Ну так что?
Октав прислушался, но уловил лишь неясный гул оркестра, увязающий в кисельно-густой тишине. Исаев, скорее всего, отдыхал у себя в каморке, а Эмиль убирался внизу. Впрочем, даже если бы последний находился поблизости, на него можно было не рассчитывать: уголовник прогнал бы Эмиля одним лишь взглядом, вложив в него весь свой авторитет.
- На полу были сухие пятна крови. Лицо было бледным. Труп был холодным и не гнулся, - кратко изложил Октав.
- Каким был замок? Его вскрывали?
- Не знаю. Царапин не было.
Уголовник издал тяжелый, шумный вздох. Октаву стало не по себе. Кажется, его ответ оказался недостаточно удовлетворительным.
- Скажи мне, Апаш… - глухо начал уголовник, заставив его поежиться. – Кто мог впустить Юру в кладовую?
- Я не знаю. Это был не я.
- Хочешь сказать, что дверь открыл Владимир Павлович? Или фейгеле Эмиль?
- Я такого не говорил. Но это точно был не я, - мрачно повторил Октав. Он уже знал, что лагерный кодекс порицает бездоказательные оговоры, и не хотел, чтобы его поймали на слове.
Опасливо покосившись на уголовника, Октав заметил, что тот буравит его угрюмым, немигающим взглядом. Решив выдержать давление, Октав посмотрел на него в ответ, хоть и понимал, что выглядит сейчас затравленно. Сквозь вонь перегара и квашеной капусты пробивался зыбкий, как мираж, смрад горящей плоти. Определившись с вердиктом, уголовник спрятал заточенную отвертку в рукав ватника, и Октав с облегчением отшатнулся в угол лестничной клетки.
- Если я узнаю, что ты мне солгал, тебе капут. Ферштейн, юде? – сказал напоследок уголовник, мешая языки. – Мой дядя был на Львовском погроме. Если ты мне солгал…
"Нашел, чем меня пугать", - презрительно подумал Октав, но вслух лишь произнес:
- Не надо, я понял. Я говорю правду.
Довольный ответом, уголовник запахнул ватник и, как ни в чем не бывало, спустился по лестнице вниз, но Октав все-таки успел прочесть его имя, указанное на бирке с личными данными - Григорий Васильев. Решив сообщить об этой стычке Майзелю, Октав вернулся в библиотеку и скрылся в подсобке. Ему нестерпимо хотелось курить.
Вытаскивая из шкафчика пачку сигарет, Октав уловил краем глаза движение в небольшом зеркале, которое висело сбоку от вешалки, и впервые за долгое время осознал, что там отражается не он, а кто-то совершенно другой – изможденный еврей с землистым лицом и синеватыми подглазьями. Из-под мютцена выбивались спутанные пряди черных волос, глаза и нос казались больше, чем были на самом деле, а под кожей проступали контуры черепа. Еврей был жив, но походил скорее на мертвеца, чем на живое существо.
- Выглядишь, как ничтожество. Неудивительно, что с тобой плохо обращаются, - сообщил ему Октав, и отражение зашевелило обветренными губами.
Серым февральским днем, когда Октав сидел за библиотекарским столом и торопливо заполнял читательские карточки, чтобы поскорее оказаться в столовой, на пороге библиотеки бесшумно возник Страшко – словно он пришел не пешком, а прополз по стене коридора, как сколопендра. На шее у него висел неизменный фотоаппарат, а в руках он бережно держал килограммовую жестяную банку, в которой, судя по рисунку, находилось кофе.
Октав встал, стянул с поникшей головы мютцен и сбивчиво произнес:
- Добрый день, герр штурмманн…
- Очень рад, что ты выздоровел, - расцвел Страшко веселой улыбкой, которая обнажила его островатые клыки. - Я тебе по такому случаю подарок принес. Ты, конечно, скорее Юдифь, чем Саломея, но я уверен, что тебе понравится.
Сказав это, Страшко вальяжно подошел к столу и поставил банку перед Октавом.
- Спасибо, герр штурмманн, - пробормотал Октав и нерешительно взял теплую банку в руки. По лагерным меркам подарок был щедрый, даже роскошный, но в сочетании с женскими именами, которые Страшко перечислил, выглядел крайне подозрительно.
- Ты лучше внутрь посмотри, - приказал Страшко.
Отряхнув ладони об брюки, он подошел к металлической двери и запер её изнутри. Лязгнул замок, у Октава заныло сердце. Страшко вернулся к столу и замер напротив Октава, впившись в него предвкушающим взглядом.
- Давай, открывай уже. Хочу посмотреть на твою реакцию. Такое происходит раз в жизни, - ухмыльнулся Страшко.
Делать было нечего. Октав осторожно поддел крышку ногтем и обмер. Банка была до краев заполнена серовато-белой золой, которая источала ощутимое тепло. Октав округлил глаза и тупо уставился на золу, а всё, что он хотел до этого сказать, вылетело у него из головы.
- Помнишь того русского, который грозился тебя убить? – вкрадчиво поинтересовался Страшко.
- Откуда вы знаете про этот разговор? – промямлил Октав.
- Случайно подслушал. Решил, что этот дегенерат зашел слишком далеко. Нельзя так с людьми.
"Бред. Нагреб пепла из печи, вот и всё", - уцепился Октав за спасительную догадку. Закрыв банку, он поставил её на стол и еле слышно произнес:
- Большое спасибо, герр штурманн. Я очень вам благодарен.
- А теперь давай, пошел. У меня сегодня мало времени, - подтолкнул его Страшко в сторону книгохранилища.
- Не надо, герр штурмманн! – запаниковал Октав, оглядываясь на него. – В прошлый раз…
- Не бойся, Гершель, эксперименты закончились. Теперь твоя жизнь в полной безопасности, - с хищной нежностью успокоил его Страшко, надавив руками на плечи.
Опустив голову, Октав ссутулился и побрел в подсобку. За окнами пылила снежная пурга, по металлическим прутьям стеллажей и ветхим корешкам книг плавно скользили две мужские тени.
Страшко не солгал: на этот раз он действительно не душил Октава. Туго стянув ему запястья бельевой веревкой, Страшко грубым толчком повалил Октава на шершавый кафельный пол и всего лишь избил резиновой дубинкой. Сглатывая кровавые сопли, которые стекали по носоглотке, Октав сжимался в комок и приглушенно рыдал, однако быстро обессилел. Он мог лишь хрипло, тяжело дышать и хватать ртом воздух, подставляя фотокамере заплаканное лицо, перемазанное кровью.
- Я же говорил, что всё будет нормально, - успокаивал его Страшко, щелкая затвором фотоаппарата. – Не волнуйся, я тебя по почкам не бил, только шкуру попортил.
Когда Страшко ушел, Октав вытер лицо, замыл пятнышки крови на рубахе, насобирав с подоконника снега, и понял, что в столовую уже не успеет – до конца обеденного перерыва оставалось пятнадцать минут. Растерянно обхватив себя руками, Октав вышел в коридор, залитый бледным светом люминесцентных ламп.
- Добрый день, герр библиотекарь, - елейно произнес кто-то сбоку.
Повернув голову, Октав увидел в тупике коридора Эмиля, который угодливо улыбался ему, опираясь одной рукой на швабру. В углу стояло оцинкованное ведро, из которого разило хлоркой. Эмиль заканчивал убирать второй этаж, и это значило, что находился он здесь уже давно и наверняка всё слышал.
- Опять не работаешь, Виеру? – строго спросил Октав, расправив плечи. Он удивился тому, как угрожающе, а не жалко прозвучала на этот раз его картавая речь.
Эмиль побледнел:
- Нет, герр библиотекарь. Я просто…
- Если еще раз увижу, что ты не работаешь, об этом узнает герр староста, - пригрозил Октав, глядя на него сверху вниз, и поправил нарукавную повязку.
Эмиль смутился и принялся усердно тереть шваброй мозаичный пол. Мысленно поблагодарив судьбу за то, что рядом не оказалось ничего, чем Эмиля можно было ударить, Октав вернулся в библиотеку, покопался в книгохранилище и швырнул на стол стопку книг, которые нужно было привести в порядок. Впереди был целый день неистового, обсессивного труда.
В десять часов вечера, когда хефтлинги, придурки и капо выстроились на аппельплацу для переклички, Октав сосредоточился и приготовился слушать. Мордатый эсэсовец в кожаном плаще выкрикивал фамилию за фамилией, однако Григория Васильева в списке заключенных не оказалось.
Осознав это, Октав впервые с того дня, когда его арестовали, растянул губы в искренней улыбке: Страшко не только пытал его, но и проявлял психопатическое подобие заботы, а это, учитывая специфическую внешность Октава, отнюдь не было лишним. В конце концов, один садист, давно знакомый и хорошо изученный, был гораздо предпочтительнее непредсказуемого коллектива. Усиленно картавя и изображая не до конца забитое ничтожество, пытающееся иногда сопротивляться, можно было без особых проблем дожить до освобождения.
О сапожном шиле, которое до сих пор лежало в коробке со старыми газетами, Октав позабыл. Днем он работал в библиотеке, после отбоя пил чай с Майзелем, утаивая от него свое истинное положение, а в конце каждого месяца становился жертвой Страшко, который наслаждался его неподдельным страхом. Число сигаретных ожогов на руке Октава достигло девятнадцати, и теперь они опоясывали запястье неровным кольцом белых щербин.
Страшко подобный расклад более чем устраивал. Фаталистичная покорность Октава расхолаживала его, наполняя самодовольством и уверенностью в своих силах. Он показывал Октаву наиболее удачные фотографии, дарил неподписанные почтовые открытки с изображением оленей, явно намекая на его домашнее имя, и требовал рассказывать о жизни в парижском гетто. Октав рассказывал, и Страшко слушал его с нескрываемой жадностью, хищнически сверкая глазами.
Отстраняясь от своего прошлого, Октав говорил о любопытном мальчике, который бегал в ближайший кинотеатр на фильмы про Фантомаса, донашивал за сыном соседей кургузое пальто и выглядывал сквозь оконце общего чердака, заколоченное досками, на рю Виши, по которой прогуливались парижане, обладающие всеми гражданскими правами. В середине лета, когда бытовые истории подошли к концу, Октав понял, что теперь придется рассказывать о мрачных эпизодах детства.
Надвигались из-за горизонта черные тучи, в открытую форточку вваливался предгрозовой воздух, пропитанный свежим ароматом озона. Страшко сидел на табуретке, а Октав стоял перед ним и рассказывал, как однажды вечером, когда ему было десять, его преследовал в темном переулке подозрительный мужчина.
- И что он делал? – спросил Страшко, пристально глядя Октаву в глаза.
- Предлагал мне сигареты, но я тогда еще не курил. Предлагал деньги, но я понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет.
- Почему он шел именно за тобой?
Октав неопределенно повел плечами:
- Наверное, я выглядел, как мишлинг, который точно не пожалуется жандармам.
- И чем всё закончилось? – прищурился Страшко.
- Он схватил меня на руки и куда-то потащил. Я укусил его за нос, и он уронил меня. Я убежал, - лаконично завершил Октав свой рассказ.
Страшко уставился в пространство, медленно выдохнул и поводил по подсобке серыми глазами, в которых играл сумрачный блеск. Октав насторожился. Страшко встал с табуретки, хрустнул пальцами и без предупреждения ударил его кулаком в живот. Октав вскрикнул, согнулся пополам и мешком повалился на пол, стукнувшись лбом об начищенный солдатский ботинок, пахнущий ваксой.
- Надеюсь, сегодня мы обойдемся без блевотины, - угрожающе произнес Страшко. – Если тебя опять вырвет, ты будешь слизывать всё с пола, как собака. Ясно, жидовская мразь?
- Меня не вырвет, герр штурмманн! – выдавил Октав, подчеркнуто картавя, хотя слова, которые Страшко подобрал для описания ситуации, вызывали именно такое желание.
Когда Страшко ушел, Октав смыл с лица кровь, обмотал бинтом запястье, на котором вздулся пузырем новый ожог, и прислушался к внутренним ощущениям. Не заметив ничего критичного, он отряхнул пиджак и решил вернуться к работе, но, выходя из подсобки, уловил краем глаза, как что-то сверкнуло под столом, будто прыгающая на воде блесна. Прищурившись, Октав вернулся назад и удивленно вскинул брови: на полу, прижимаясь к крашеному плинтусу, валялся черный бумажник с металлической кнопкой. Октав затаил дыхание. У него не было бумажника уже второй год, а обронить его в подсобке мог лишь один человек.
Насухо вытерев вспотевшие ладони об штаны, Октав воровато подобрал бумажник и сел на скрипнувшую табуретку. Понимая, что вскоре он пожалеет о принятом решении, Октав с азартом карточного игрока раскрыл бумажник и обнаружил внутри хрустящие рейхсмарки, однако интересовали его совсем не деньги. Найдя в одном из отделений членский билет турклуба "Фогельзанг", Октав поправил очки и пробежался жадным взглядом по печатным буквам. Анатолий Емельянович Страшко, рожденный в 1942 году, проживал в десятом доме на Росток-штрассе.
В другом отделении хранились фотографии, обрезанные под размер бумажника – на их неровных краях виднелись следы маникюрных ножниц, и на первом же снимке Октав разглядел тот самый дом на Росток-штрассе - бревенчатый, с резными наличниками и обрывком эмалированной таблички, на которой чернело число "10". Перед домом позировала семья: улыбающийся Страшко, обнимающий ровесницу с короткой стрижкой, и два мальчика лет пяти, в лицах которых угадывались смягченные черты отца.
Усмехнувшись, Октав перешел к следующему снимку и увидел другую часть дома – палисадник, заросший рябиной. Под её алыми кистями, поблескивая сединой, стояла женщина в цветастом платье, которой на вид было около пятидесяти. Скорее всего, это была мать Страшко.
От третьего снимка Октава передернуло: там были изображены его ноги в полосатых штанах и лагерных башмаках, туго связанные бельевой веревкой.
- Самоуверенный кретин, - пробормотал Октав себе под нос.
То ли Страшко одурел от власти настолько, что перестал бояться случайного разоблачения, то ли действительно был любимчиком коменданта, который мог замять любые его грехи – если, конечно, дело касалось мишлингов.
Неизученным оставался последний снимок. Ожидая увидеть крупный план собственного лица, Октав скучающе взглянул на фотографию, но вмиг оцепенел, будто его ткнули шилом под дых. На фоне бетонного пола и зеленых стен висел в веревочной петле светловолосый пимпф лет двенадцати. Как и полагалось гитлерюнге, он был одет в табачного цвета рубашку, короткие шорты и ботинки с гольфами, а синюшное лицо свидетельствовало лишь об одном – пимпф был мертв.
Октав не мог стряхнуть с себя клейкое оцепенение. Мелко дрожал подбородок, атонально гудел на грани слышимости оркестр. Первой пришла мысль, что Страшко, хоть и был гомосексуалистом, явно не делал с Октавом ничего незаконного – тот был для него слишком зрелым. Мгновением позже всплыли в памяти черно-белые фотографии пропавших мальчиков.
"Oy gevalt…" – с ужасом подумал Октав. До него дошло, что если Страшко заметил пропажу бумажника, то наверняка теперь его ищет.
Сделав глубокий вдох, Октав представил, что это происходит не с ним, аккуратно сложил снимки в правильном порядке и вернул бумажник ровно на то место, откуда он его взял. Затем Октав покинул подсобку, усеянную желтоватыми брызгами исчезающего солнца, и приступил к работе.
Над концлагерем расползались пепельно-черные тучи, взблескивали сталью витки колючей проволоки. Октав сидел за библиотекарским столом и бездумно перебирал читательские карточки, раскладывая их в алфавитном порядке. На краю стола, придавленная бюстом Гитлера, лежала почтовая открытка: молодой олень, задевая рогами мохнатые ветви, шагал по тропе сквозь сумрачный ельник. Снаружи всё явственнее пахло озоном. Крикливо галдели сороки. Страшко вернулся через двадцать минут.
Он натянуто усмехался, однако смотрел холодно и сосредоточенно, как патологоанатом. Вскочив со стула, Октав сдернул с головы мютцен и постарался испугаться не больше обычного.
- Расслабься, Гершель, с тебя на сегодня хватит, - криво улыбнулся Страшко. – Скажи лучше вот что… Ты уборку еще не делал?
- Нет, герр штурмманн. Я убираюсь в шесть часов вечера, согласно правилам внутреннего распорядка, - услышал Октав собственный голос, ровный и спокойный.
- Молодец. Правила надо соблюдать, - с видимым облегчением выдохнул Страшко.
Ничего не объясняя, он прошел в книгохранилище и скрылся за порогом подсобки. Вслушиваясь в торопливый шорох, который оттуда доносился, Октав радовался, что Страшко не видит сейчас его перекошенного лица. В музыкальной секции мажорно гремели трубы, заглушая дробный стук барабана.
- Вам помочь, герр штурмманн? – окликнул его Октав, вложив в голос всю возможную учтивость.
- Не надо, я сам, - послышалось в ответ приглушенное ворчание.
Нервно дернув плечом, Октав поправил нарукавную повязку и вернулся за стол. Он старательно сохранял безучастный вид, представлял себя главным героем американского триллера и выполнял бессмысленную работу, раскладывая в алфавитном порядке читательские билеты заключенных, фамилии которых начинались на букву "В".
Не прошло и минуты, как покрасневший, запыхавшийся Страшко с довольной гримасой вышел из книгохранилища. Октав посмотрел на него, вопросительно вскинув бровь.
- Чуть получку не потерял, - насмешливым тоном сказал Страшко, демонстрируя бумажник. – Очень надеюсь, что ты меня не обокрал.
- Я никогда ничего не краду, герр штурмманн. Я шулер, а не вор, - заверил его Октав.
- Смотри у меня. Если не досчитаюсь денег, то организую тебе Бабий Яр, - шутливо пригрозил Страшко.
Октав поежился и издал несмелый смешок, который, впрочем, был сейчас уместен. Страшко спрятал бумажник в карман форменной куртки, застегнул его на пуговицу и, потрепав Октава по голове, вышел из библиотеки.
Когда гулкий стук солдатских ботинок миновал лестничную клетку и растворился в тишине первого этажа, Октав вышел из-за стола, деревянной походкой направился в книгохранилище и лишь там, оказавшись в прохладной тени стеллажей, позволил себе испуганно вздохнуть, содрогнувшись всем телом. Руки и ноги тряслись от накатившей слабости, будто небрежное прикосновение Страшко вытянуло из Октава последние силы.
Вечером Октав управился с уборкой гораздо быстрее, чем обычно. Запершись в библиотеке, он устремился к последнему стеллажу, на нижней полке которого хранились коробки со старыми газетами. Схватив последний выпуск "Паульмундер адлер", Октав отыскал раздел криминальной хроники и увидел уже знакомый ему фрактурный заголовок – "Помогите найти ребенка!". Ниже располагалась черно-белая фотография еще живого, не подозревающего о своей скорой смерти пимпфа – одиннадцатилетнего фольксдойче Максима Шнейдмюллера, который совсем недавно позировал Страшко, агонизируя в петле, а теперь наверняка разлагался в одном из лесных буераков, обрастая мухоморами и полевыми цветами.
Чем дальше Октав уходил в прошлое, тем сильнее его мутило. Каждый месяц минувшего года смотрел на него бледными глазами очередного мальчика, который вышел из дома и обратно уже не вернулся. Все они обладали арийской внешностью, были членами гитлерюгенда и вступали в подростковый возраст. Выпусков за прошлый год в библиотеке уже не было, но Октав прекрасно помнил, что объявления о пропаже детей бросились ему в глаза уже тогда.
"Минимум двадцать жертв, - с отвращением подумал он, возвращая коробку на место. - Кажется, в Паульмунде действует маньяк, но власти это не афишируют. Впрочем, как всегда".
Сомнений не оставалось: штурмманн Страшко однозначно был педофилом, который похищал гитлерюнге и затем избавлялся от них, а в перерывах между убийствами, чтобы хоть как-то продержаться до следующего раза, вымещал гнев на прикормленном мишлинге. Однако доносить на Страшко не хотелось.
"В конце концов, пропадают немцы. Какое мне до них дело?" – мысленно сказал Октав сам себе, медленно затягиваясь и выдыхая дым в заоконные сумерки.
Ночь он провел без сна, сжимая в руке острое шило. В потемках влажно мерцали черные глаза, под одеялом застыло в напряжении изможденное туловище. Октав слышал всё: как барабанит по крыше барака запоздавший ливень, как похрапывают, тонко присвистывая, уставшие за день кухрабочие, как скрипят под весом дневального ступени деревянной лестницы. Октав был готов нанести удар.
Однако за ним никто не пришел. Переполненный нервным возбуждением, утром Октав отправился на работу и первым делом выбросил всю еду, которую обычно хранил в подсобке: заварку, сахар, печенье… Нельзя было исключать, что Страшко, у которого тоже имелся ключ от библиотеки, мог прийти туда ночью и отравить продукты.
Тем не менее, предосторожности оказались излишними. Страшко держался так, будто ничего экстраординарного не произошло, а Октав отвечал ему тем же и с неожиданным для себя спокойствием, которое, впрочем, не выказывал, позволял себя избивать. Унижая Октава, Страшко мог сохранять хладнокровие и убивать немецких детей, не попадая в поле зрения крипо. Неожиданное чувство причастности могло бы перерасти в подобострастие, но этому, к счастью, мешало отвращение, которое Октав не мог и не желал пересиливать. Все-таки Страшко был членом СС. Прилежно играя роль запуганной жертвы, Октав дожидался шестого ноября – дня своего освобождения.
Но освободили его гораздо раньше.
В конце августа Страшко вновь возник в дверях библиотеки. Он был задумчив, молчал и не улыбался. Подойдя к библиотекарскому столу, он остановился, уперся руками в столешницу и принялся поедать глазами Октава, который заполнял журнал учета - распухший от закладок гроссбух. Вскинув голову и отложив ручку, Октав заметил, что во взгляде Страшко отчетливо читается сожаление. Какое-то время Октав озадаченно смотрел на него в ответ, дожидаясь хоть каких-нибудь, даже оскорбительных слов, однако молчание быстро стало невыносимым.
Не выдержав, Октав поправил сползший набок мютцен и спросил:
- Всё в порядке, герр штурмман? Вид у вас какой-то невеселый.
Страшко выпрямился и, сложив руки на груди, меланхолически уставился в окно:
- Через две недели к нам приедет инспектор из Берлина. Герр комендант решил, что его нужно порадовать спектаклем.
- Каким?
- "Венецианский купец", - хмыкнул Страшко, снова взглянул на Октава и несколько оживился. - В труппу набрали заключенных, которые лучше всех говорят по-немецки, и ты, само собой, тоже участвуешь. И знаешь, какая тебе досталась роль?
Октав тяжело вздохнул. Он уже не раз играл Шейлока – и в школе, и в профучилище. Медленно встав со стула, он посмотрел на Страшко, вскинул подбородок и гневно сверкнул глазами.
- Если нас отравить – разве мы не умираем? - спросил Октав, подчеркивая свою картавость. – А если нас оскорбляют – разве мы не должны мстить?
Гладко выбритое лицо Страшко перекосилось в гримасе отвращения, будто по нему прополз домашний паук. Несколько секунд Страшко молчал, исподлобья буравя Октава угрюмым взглядом, однако потом всё понял и плотоядно ухмыльнулся.
- Какая хуцпа[58], Гершель. Но для спектакля в самый раз, - сказал он, пока его рука кралась по столу к руке Октава. – Инспектору захочется тебя придушить, и он уедет довольный.
[58] наглость (идиш)
- Я не хочу, чтобы меня душил инспектор, - буркнул Октав. Выйдя из роли Шейлока, он опустился на стул и придвинул к себе гроссбух. Рука Страшко замерла на полпути, так и не добравшись до цели.
- Правильно, что не хочешь. Вряд ли он умеет делать это так, как я.
Застучали по полу солдатские ботинки, и Октав почувствовал, как Страшко, ничего не говоря, остановился у него за спиной. Не изменившись в лице, Октав взял ручку и вычеркнул из списка имеющихся книг роман о фермерах и еврейском коммерсанте, который на днях рассыпался до такой степени, что восстановить его теперь было невозможно.
- Как ты уже догадался, Шейлок не должен напоминать жертву пыток, - тихо произнес Страшко, - так что придется мне обойтись без тебя. Пока что. А когда инспектор уедет…
Не окончив фразу, Страшко схватил Октава за волосы и, явно сдерживаясь, ткнул его лицом в гроссбух. От удивления Октав вскрикнул, но быстро опомнился. Поправив очки, он повернулся к Страшко и безучастно сказал:
- Конечно, герр штурмманн. Я всё понимаю.
Репетиции начались через несколько дней. Натянув поверх полосатой робы пахнущий нафталином лапсердак, Октав изображал Шейлока, который в его исполнении походил скорее на молодого жулика, чем на ростовщика. Мясистая сутенерша из женского сектора, игравшая дочь Шейлока, была старше Октава на десять лет и произносила свои реплики хриплым голосом курильщицы, а грабитель, получивший роль Антонио, был таких габаритов, что с легкостью мог решить все свои проблемы, утопив Шейлока в венецианском канале. Впервые за два года Октав увидел, как Исаев, который наблюдал за репетициями со зрительской скамьи, заливается искренним, гомерическим хохотом.
Берлинского инспектора, высокого эсэсовца с рубленым подбородком, Октав видел всего один раз, когда тот приходил в библиотеку, чтобы возмутиться плохим состоянием книг. На Октава инспектор не смотрел вовсе, будто считал его деталью интерьера, однако именно с подачи инспектора Октава освободили досрочно – не юридически, но фактически. Произошло это за три дня до спектакля.
Вечером, когда Октав вышел из книгохранилища, чтобы сходить на первый этаж за ведром и шваброй, в библиотеку с шумом ввалился Страшко. Ткнувшись плечом в железный косяк, он лениво повел головой, как деревенский бык, и остановил расфокусированный взгляд на Октаве, который при его появлении замер возле библиотекарского стола. Светло-серые глаза Страшко тускло блестели, как омытая водой галька, а черная униформа была влажной от дождя, который моросил с самого утра. Фотоаппарата и варенья при Страшко не было.
- Добрый вечер, герр штурманн, - произнес Октав, угодливо ссутулившись.
- Добрый, добрый… - тягучим эхом отозвался тот.
Оттолкнувшись от косяка, он грузно зашагал в сторону Октава, остановился перед ним и тряхнул подбородком, словно отгоняя назойливую муху. Сквозь удушающий запах дешевых сигарет и одеколона "Альпы" отчетливо пробивался кисловатый смрад перегара.
- Что вам угодно, герр штурмманн? – с опаской поинтересовался Октав.
- Не задавай глупых вопросов, Либерман. Иди в подсобку, - приказал Страшко, махнув рукой в сторону книгохранилища.
Октав нахмурил брови. Если в январе Страшко, будучи совершенно трезвым, вошел в раж и придушил его слишком сильно, то на самоконтроль пьяного Страшко рассчитывать уж точно не стоило.
- Боюсь, герр штурмманн, что это невозможно. Вы сами говорили, что меня нельзя трогать, пока не состоится спектакль, - возразил Октав и осторожно шагнул назад. В коробке со старыми газетами, куда обычно никто не заглядывал, до сих пор лежало сапожное шило.
- На хуй спектакль. Иди в подсобку, шваль картавая, пока я тебе пальцы не переломал, - процедил Страшко, перейдя на русский.
- Если Шейлок будет хрипеть, то инспектор заподозрит неладное.
- Скажешь, что простыл.
- Если я не смогу выйти на сцену, потому что буду лежать в лазарете с температурой и бредом, то инспектор точно заподозрит неладное.
- А что тебя не устраивает, скотина? Что я в тот раз передержал?! – искривился Страшко, сорвавшись на пьяный крик. – Ты, между прочим, вообще не дышал! А я тебя реанимировал, хотя мог просто сжечь в крематории! Как всех остальных жидов!
Октав невольно представил, как Страшко делает ему искусственное дыхание, припадая мясистым ртом к его синюшным губам, и его передернуло от отвращения.
- Ты лжешь, Слива. Ты лжец и выродок, - произнес Октав глухим, дрожащим голосом, но тоже сорвался на крик. - Gey in drerd arayn![59]
[59] "Чтоб ты сдох!" (идиш)
Что именно произошло дальше, Октав так и не понял. Он помнил, что Страшко, схватившись за резиновую дубинку, с неожиданной быстротой кинулся в его сторону, он помнил, как побежал в книгохранилище, получил тяжелый удар по затылку и ничком повалился на пол, успев выставить перед собой руки, чтобы смягчить падение.
- Пиздец тебе, жид. Не понял, что ты сейчас сказал, но теперь ты у меня вообще разучишься говорить, - по-русски произнес Страшко, не скрывая злорадства.
Резкая, мучительная боль на миг ослепила Октава, пронзив его левое колено. Октав попытался отползти вперед и хрипло вскрикнул – нога волочилась за ним, как бесполезный груз.
- Куда собрался, сволочь? – пьяно засмеялся Страшко. На костистые пальцы Октава, цепляющиеся за крашеные доски, обрушилась подошва солдатского ботинка.
- Пожар! Горим! – взвыл Октав сквозь новую волну режущей боли.
Загудела, как колокол, голова. Ударившись лбом об пол, Октав почувствовал, как струится по лицу горячая кровь, и осознал, что силы неумолимо покидают его. С облегчением закрыв осоловевшие глаза, Октав перестал цепляться за жизнь и наконец потерял сознание.
Но der toyt не пришел и на этот раз. Очнувшись, Октав не сразу сообразил, где он находится: тошнотворно гудело в ушах, расплывались контуры предметов, давили на нос очки, распугивая и без того несвязные мысли.
- Слава богу! Ты в порядке? Ты помнишь, сколько тебе лет? Ты помнишь, как тебя зовут? – нервозно засыпал его вопросами мужской голос.
Сконцентрировавшись, Октав разглядел в беспорядочном мельтешении стены, выложенные голубым кафелем, обшарпанный потолок с желтоватыми разводами влаги и затененную голову Майзеля, которую тусклым ореолом окружало свечение люминесцентной лампы.
- Мне двадцать три года. Меня зовут Октав Леопольд Гаже. Гершель Либерман…
- Руками не шевели. Ногами тоже, - с мрачным видом предупредил его Майзель.
От этих слов Октаву стало не по себе. С трудом приподняв голову, он понял, что лежит на рыжей клеенчатой кушетке, а потом заметил свою правую руку, которая безвольно лежала вдоль тела, и оторопел. Искривленные, опухшие пальцы налились болезненной краснотой, а нестриженые ногти потемнели до глубокой синевы. Октав шевельнул указательным пальцем и вскрикнул – палец с хрустом согнулся, но совсем не в том месте, где должен был находиться сустав. Переведя затравленный взгляд на левую руку, Октав обнаружил там точно такую же изуродованную кисть, которая походила на раздавленного тарантула.
Тому, что левая нога, по которой Страшко нанес первый, самый яростный удар, тоже оказалась неестественно изогнутой в колене, Октав уже не удивился, лишь безучастно зафиксировав в уме этот факт. Малейшее движение отдавалось острой болью, которая красноречиво говорила о переломе, однако сквозь штанину нельзя было разглядеть, прорвала ли кость кожу. Да и это, в общем-то, было совсем неважно.
- Мои пальцы… - прошипел Октав, побелев от злости.
Майзель мягко надавил ладонью ему на лоб, и Октав нехотя коснулся затылком изголовья кушетки. Перед глазами вновь оказались голубой кафель, грязный потолок и темная, словно чернильный эскиз, голова.
- Тебя принесли в лазарет из библиотеки. Что произошло? – спросил Майзель, склонившись над Октавом.
Тот сардонически улыбнулся, дернув лицом в легкой судороге:
- Я назвал его Сливой и обругал на идише. Недешевое развлечение.
- А ты находчивый, - усмехнулся Майзель. – Инспектор был в актовом зале, услышал про пожар и поймал Сливу с поличным. Ему, кажется, втык дадут. А тебя скоро в город увезут, будешь в спецкорпусе досиживать.
- В спецкорпусе?
- В спецкорпусе горбольницы. Учитывая твое состояние, в лагерь тебя уже вряд ли вернут, - произнес Майзель загадочным тоном.
Он глядел на Октава, не моргая, и в прозрачной синеве его глаз мерцал нездоровый, маниакальный огонь. Октав вопросительно вскинул бровь.
- Если бы Слива был заперт в газовой камере, ты бы повернул вентиль? – тихо поинтересовался Майзель.
- Я бы убил его несколько раз, но это невозможно физически.
- Да, ты прав. Это невозможно, - согласился он и понизил голос до глухого шепота. – Но если ты согласишься работать на мистера Родмахера, то сможешь травить немцев сколько душе угодно. В конце концов, именно этого они от нас и ждут. А если раса господ чего-то требует, то приказ надо выполнять. Кто мы такие, чтобы спорить?
- Никто, - хладнокровно прошептал в ответ Октав.
Майзель осклабился, как бродячий пес:
- Значит, ты согласен?
- Конечно, Меир. Я теперь на всё согласен.
Положив руку ему на плечо, Майзель вполголоса произнес:
- Слушай внимательно, Гершеле. Когда тебя переведут в вольный корпус, тебя навестит Маша, моя гражданская жена…
Выздоравливал Октав медленно. Соседи по палате, оказавшиеся на редкость миролюбивыми асоциалами, считали его образованным и уважали за драку с надзирателем, пусть даже и проигранную. Три конечности, закатанные в гипс, не давали Октаву встать с койки, и он коротал дни, обучая немецкому языку одного из асоциалов – ампутанта по имени Глеб, который попал в больницу с лесоповала, где ему раздробило деревом ногу. В долгу Глеб не оставался и помогал Октаву курить: вставлял ему в зубы сигарету, чиркал спичкой и держал крышку от кофейной банки, чтобы пепел не сыпался на одеяло. По зеленоватым стенам палаты прыгали солнечные зайчики, за окнами чирикали воробьи, а в больничном саду медленно лысели янтарно-золотистые клены. Это был мир, в котором не существовало штурмманна Страшко. Это был мир, который казался Октаву нереальным, словно выцветший кадр диафильма.
В середине октября, когда гипс сняли с рук, Октав выменял у Глеба засаленную колоду карт и стал упражняться в карточных фокусах, которым его когда-то обучил отчим, однако кривые пальцы, испещренные бледнеющими синяками, не справлялись с нагрузкой, и карты с шорохом рассыпались по одеялу, насмешливо дразня Октава узорчатыми рубашками. Октав хмурился, терпеливо собирал карты и начинал заново. Так проходили часы, часы складывались в дни, а дни тянулись друг за другом, как товарные вагоны на железнодорожном переезде.
Нормальная чувствительность вернулась лишь через две недели, но Октав с горечью осознавал, что ловкость рук, которой он в юности удивлял знакомых вурмов, стала для него недосягаемой вершиной. Когда гипс сняли и с ноги, а пальцы достаточно окрепли, Октав начал гулять по палате, грузно наваливаясь на деревянные костыли. Маша, гражданская жена и подельница Майзеля, не появлялась.
Освободили Октава в первых числах ноября, после годовщины Пивного путча. Переодевшись в старую одежду, которая была на нем в день задержания, Октав кособоко оперся на трость, проковылял к окошку, где сидел дежурный фельдфебель, и отдал ему лагерную робу. Фельдфебель искривил конопатое лицо и положил перед Октавом бумажный пакет с вещами, которые у него изъяли два года назад.
Ничего, как выяснилось, не украли – даже наоборот. Помимо наручных часов, пустого бумажника и черепахового портсигара в пакете лежал ярко-желтый конверт для бандеролей. "Моему любимому человеку", - сообщала по-немецки надпись, сделанная крупным угловатым почерком, а последние два слова были жирно подчеркнуты, словно без этого Октав не мог распознать в ласковом обращении свою настоящую фамилию.
- Чего ты там рассматриваешь? Всё на месте, соответственно списку, - буркнул из-под кепи фельдфебель.
- Вы правы, так и есть. Доброго дня, - мрачно согласился Октав.
Взяв пакет под мышку, он вышел за массивную железную дверь, которая отделяла лагерный корпус больницы от просторного, светлого, мятно-зеленого коридора с широкими окнами. Резко пахло лекарствами, стелился по стенам и полу ледянисто-желтый свет, а далеко впереди белел, словно мотылек, колпак медсестры, которая дежурила на сестринском посту. Вздохнув, Октав побрел к ближайшему подоконнику. Звонко стучала по бетонному полу трость, каждый шаг отдавался в поясницу ноющей болью, а остроносые ботинки поблескивали на солнце, как хитиновые спинки жуков.
На путь до подоконника ушла минута. С облегчением на него усевшись, Октав прислонился спиной к раме и вытянул перед собой больную ногу, чтобы немного отдохнуть. Когда боль притихла, он вынул из бумажного пакета конверт и грубым рывком его вскрыл. С почтовой открытки смотрели черные, как сгустки смолы, оленьи глаза. Тускло мерцал острым лезвием кухонный нож. Нахмурившись, Октав извлек из конверта открытку и осмотрел её со всех сторон.
"У тебя нет будущего. Ты никому не нужен. Твоя жизнь бессмысленна", - было написано на обороте открытки всё тем же угловатым почерком.
Октав будто наяву услышал, как эти слова глумливо-сочувственным тоном произносит штурмманн Страшко, и презрительно хмыкнул. Сложив вещи обратно в пакет, он поплелся к сестринскому посту. До полной выписки оставалось чуть меньше месяца.
Маша, курносая брюнетка лет сорока в лисьей шубе, объявилась лишь в начале декабря, когда Октав уже отчаялся ждать, и передала ему потертый чемодан из коричневой кожи. Внутри Октав обнаружил сигареты, деньги на самый дешевый плацкартный билет до Берлина и немного зимней одежды, в которой можно было пешком дойти до вокзала. К передаче прилагались два письма: в одном Майзель объяснял, как разыскать в Берлине мистера Родмахера, а другое, запечатанное сургучной печатью, вскрывать было запрещено – оно предназначалось самому мистеру Родмахеру.
Нарушать приказ новых хозяев Октав не стал. Отыскав в больничном коридоре наиболее яркую лампу, он изучил конверт на просвет и понял, что письмо написано на идише. Разобрать удалось немногое: "жил в Лемберге", "три года играл на скрипке", "может быть полезен для…" - но Октаву хватило и этого. Майзель отзывался о нем положительно, и это значило, что ему пока что можно было доверять.
Шестнадцатого декабря, когда улицы Паульмунда расцвели красочными дугами новогодних гирлянд, Октав с чемоданом в руке вышел на бетонное крыльцо горбольницы. Потела под ушанкой голова, колол шею мохеровый шарф, а в кармане пальто лежал кухонный нож – последний подарок штурмманна Страшко. Октав обвел сонным взглядом больничный сквер, на который уже легли голубоватые сумерки, сунул в зубы сигарету и неспешно, тыкая тростью в снежную слякоть, пошел к распахнутым воротам больницы. Сигарета мерцала в полумраке, как алый светлячок, а в окнах рыжих пятиэтажек серебрилась мишура. Когда из-за домов выныривал изрытый оспинами полумесяц, в очках Октава зажигались два бледных огонька. Начиналась новая, невиданная жизнь.
Железнодорожный вокзал Паульмунда оказался неказистым двухэтажным коробом, который был отделан узкими плитами розоватого ракушечника. Плоский навес крыльца опирался на тонкие колонны, переливалась под фонарным светом белая чешуя стеклоблоков, а слева вилась по стене пожарная лестница. Под ней изгибалась, плавно переходя в грунтовку, асфальтовая дорога, чье узкое щупальце терялось в лабиринте промзоны. Над бетонными плитами заборов и крышами цехов тускло мерцали фонари.
Скрывшись в вокзале, Октав купил билет на ближайшую электричку до Гитлерштадта и поднялся на второй этаж, который опоясывал внутреннее пространство вокзала широкой галереей. В воздухе витал запах борща, и вскоре Октав нашел его источник – небольшую столовую. Заказав картофельное пюре с котлетами, залитое вязким томатным соусом, и горячий чай в граненом стакане, Октав с жадностью набил желудок. Его не смутила даже сладковатая вонь паленого мяса, которая душным мороком пробивалась откуда-то извне.
Когда Октав вышел из столовой, было уже совсем темно. На вокзал рыхлыми слоями ложились синие потемки, в стеклоблоках дробился на яркие клочья уличный свет, а зал ожидания кишел местными жителями. Поудобнее перехватив чемодан, Октав подошел к лестнице и уже приготовился спускаться, как вдруг прищурился и медленно отступил назад, словно пятящийся в кусты олень. К билетной кассе, вальяжно пробираясь сквозь толпу, шагал эсэсовец в черном кепи. Рассмотрев его холодное, слегка рыбье лицо, Октав узнал в эсэсовце штурмманна Страшко.
"Надо уходить", - понял он и сосредоточенно осмотрелся.
Пройдя по галерее второго этажа, можно было скрыться либо в общественном туалете, либо за красной дверью пожарного выхода. Оказываться наедине со Страшко в туалете, пусть даже общественном, Октав не желал, поэтому он взял в руку трость и прогулочным шагом, чтобы не привлекать к себе внимания, направился к пожарному выходу.
К счастью, дверь, помеченная фрактурным шрифтом, была не заперта. Вывалившись на широкий балкон пожарной лестницы, Октав увидел внизу грязные сталагмиты городского снега и грунтовую дорогу, на которой сплетались друг с другом следы шин. Притворив за собой дверь, Октав спустился по лестнице и захромал в сумрак промзоны, оставляя на снегу четкие отпечатки зимних ботинок, которые ему передала Маша.
Когда цеха, обнесенные бетонными заборами, остались позади, Октав понял, что оказался в самом начале безлюдной трассы. Среди рваных облаков серебрился узкий серп луны, искрились, будто сахарная глазурь, сугробы, а ели сливались в бесформенное черное скопище. Справа от трассы косо торчал из снега дорожный указатель: до Гитлерштадта оставалось четыреста километров.
Оценив ситуацию, Октав решил вернуться на вокзал после небольшой прогулки. С трудом отыскав в густой тени деревьев левую обочину, он оперся на трость и устремил быстрые шаги в сумрачную даль. Скрипел под ботинками снег, ненавязчиво ныло колено. Октав растворялся в ледяной темноте, задевая чемоданом сугробы и оставляя за собой извилистый след. Время застыло, как мороженая туша.
Свечение фар, мелькнувшее на дороге россыпью бледно-желтых бликов, застало Октава врасплох. Резко обернувшись, он увидел, как со стороны Паульмунда приближается, явно замедляясь и подъезжая к обочине, кремовый "фольксваген", до середины покрытый замерзшими брызгами грязи. Стиснув зубы, Октав сунул трость под мышку, запустил руку в карман пальто и нащупал шершавую рукоять ножа.
"Фольксваген" окатил Октава желтым светом и притормозил. Медленно, как в американских триллерах, опустилось стекло.
- Вы заблудились? Вам помочь? – спросил по-немецки блондин, которому на вид было около сорока пяти.
Октав бегло осмотрел водителя. Лицо у него было вытянутое и явно нордическое, на лоб спадала сальная прядь светлых волос, а в глубине глазниц лихорадочно поблескивали голубые глаза. Легкая щетина и растянутый свитер с оленями придавали немцу слегка асоциальный вид, что Октава скорее порадовало, чем огорчило – прилично одетому немцу он бы точно не доверился.
Отпустив нож, Октав вынул руку из кармана. Поправив очки, он вновь уперся тростью в притоптанный снег и состроил растерянную гримасу:
- Кажется, да. Мне нужно в Гитлерштадт.
- Так вы пешком не дойдете, туда ехать часа четыре. Может, подвезти вас? – предложил немец, внимательно рассматривая Октава. Его оценивающий взгляд скользнул по трости, искривленным пальцам, семитскому лицу…
- Я был бы очень благодарен, - вежливо улыбнулся Октав, пока немец не передумал.
- Акцент у вас странный какой-то… - задумчиво протянул он. – Вы что, француз?
- Так и есть. Меня зовут Люсьен Моро, я фармацевт из Парижа. Приезжал к брату на свадьбу, - улыбнулся Октав еще шире. В нем медленно, но неумолимо разгорался шулерский азарт.
- Генрих Шиммер, акушер. Рад знакомству, - улыбнулся немец. Наклонившись к пассажирскому сиденью, он призывно открыл дверь.
Обойдя "фольксваген", Октав занял предложенное место, поставил перед собой чемодан и сжал трость коленями. Запотели очки, налились жаром щеки. Октав стянул зубами перчатки, расстегнул пальто и, протерев очки, украдкой осмотрел салон, залитый грязно-желтым светом. На заднем сиденье валялся скомканный плед, под зеркалом покачивалась йольская шишка с красной лентой, а из отделения для перчаток, не давая ему закрыться, торчал бежевый термос. О характере водителя это мало что говорило, но Октав не сомневался, что тот был одиночкой.
"Фольксваген" тронулся с места, набрал скорость, и Шиммер со смешком признался:
- Вы не представляете, как я рад, что встретил в этой глуши европейца. Пока я работал в деревне, меня окружали только местные.
- Здесь, в Сибири? – из вежливости поинтересовался Октав.
- В Туркестане.
- Там, наверное, тепло.
- Вы ошибаетесь, Люсьен. Это огромная степь, в которой дует холодный ветер, а зимой выпадает метровый слой снега, - сказал Шиммер и искоса взглянул на Октава. – Как там, в Париже?
- Все готовятся к Рождеству. Если успею вернуться до конца праздников, то проведу их с семьей.
- Тогда вам нужно в Москау. Оттуда можно вылететь прямиком в Париж.
- Да, я туда и собирался, - виновато улыбнулся Октав, - просто выпил вчера. И заблудился немного…
- Не нужно этого стыдиться. Свадьба – дело такое, - мягко успокоил его Шиммер.
Рассеянно кивнув, Октав замолчал и уставился в окно. Быстро сменяли друг друга сугробы и деревья, облитые вязкой патокой лунного света. По дороге, хватаясь за размытые снопы фар, ползали мохнатые тени ветвей. Становилось душно. Сняв шапку и шарф, Октав положил их сбоку от себя и пригладил пальцами растрепанные волосы. Он не знал, о чем еще поговорить с Шиммером, однако радовался, что тот оказался не худшим попутчиком: сделал вид, что поверил в его биографию, и даже пустил в машину. Если Страшко и заметил поспешное бегство Октава, то догнать его уже не мог.
- Мы с вами, Люсьен, в некотором роде коллеги… - произнес Шиммер, сосредоточенно глядя на темную дорогу.
- Да, в некотором роде.
- Почему вы выбрали фармацию? Вам неинтересна медицина?
Октав выдавил из себя кривую улыбку:
- Меня тошнит при виде крови. Я был бы кошмарным доктором.
- Справедливо. Каждому свое, - усмехнулся Шиммер. Он повернул руль, и "фольксваген", съехав с дороги, замер на обочине.
- Почему вы остановились? – настороженно спросил Октав. Его правая рука незаметным движением скользнула в карман пальто, где лежал нож.
Шиммер заглушил мотор, повернулся к Октаву и снисходительно на него посмотрел:
- Никакой ты не француз, Люсьен. Ты мишлинг, который солгал мне, хотя в этом не было надобности. И я, если так подумать, должен высадить тебя здесь. Ты, конечно, можешь и замерзнуть насмерть в такой глуши, но что поделать? Ты слишком подозрительный, чтобы везти тебя дальше.
Октав прикинул, насколько далеко они отъехали от Паульмунда, и озадачился. Ехал Шиммер довольно быстро и преодолел за это время километров двадцать, а добираться до Паульмунда пешком в осеннем пальто было слишком рискованно.
- Вы можете довезти меня до ближайшей деревни. Дальше я сам, - предложил Октав.
- И что ты будешь делать в этой деревне? Ночевать в сарае у какого-нибудь унтерменша? – издал Шиммер довольный смешок. – Ну уж нет, давай лучше я все-таки отвезу тебя в Гитлерштадт. Но, конечно, не бесплатно…
Склонив голову набок, Шиммер подался вперед. Октав удивленно вскинул брови: по его левому колену уверенно ползла вверх теплая мужская рука. Ситуация стремительно выходила из-под контроля. Октаву хотелось, чтобы Шиммер прекратил этот разговор, пока не стало слишком поздно.
- Как тебя зовут на самом деле, Люсьен? – вкрадчиво спросил тот.
- Гершель. Гершель Либерман, - произнес Октав, сонно взглянув на Шиммера из-под тяжелых век. Он надеялся, что внутренние переживания не отражаются у него на лице.
- Учти, Гершель, что если мне что-то не понравится, то высажу тебя здесь и уеду, - со смешком пригрозил Шиммер, сдавив его ногу чуть выше колена. – Так что будь хорошим еврейским мальчиком и не разочаровывай меня.
- Вам повезло, - глухо произнес Октав, пристально глядя на него почерневшими глазами. – Последние два года я провел в концлагере и кое-чему там научился.
- Ты наркоторговец?
- Шулер.
Шиммер ничего не сказал. Трясущиеся пальцы его другой руки мягко легли Октаву на шею, но тот даже не пошевелился. Он медленно и размеренно дышал, чтобы не сорваться раньше времени. Шиммер бережно поглаживал его по горлу и сверлил тяжелым паучьим взглядом. За его спиной мерцали под лунным светом снежные волны.
- Чего ты так дрожишь, олененочек? – с ласковой хрипотцой спросил Шиммер, и его левая рука переползла с колена Октава на внутреннюю сторону бедра. – Я не сделаю тебе больно, мне тебя даже жалко. Картавый, хромой, близорукий…
- Farmash dos moyl![60] – прошипел Октав сквозь зубы. Выхватив из кармана нож, он со всей возможной силой ударил Шиммера в грудь.
[60] "Заткнись!" (идиш)
Тот вскрикнул и машинально отнял руки, пытаясь зажать рану. Октав невнятно зарычал, схватил Шиммера за горло и нанес ему второй удар ножом, третий, четвертый…
Когда аффект схлынул, Октав понял, что тычет ножом в обмякший труп. Шумно выдохнув, он разжал окровавленные пальцы. Труп грузно повалился назад и стукнулся макушкой об окно. В остекленевших голубых глазах желтыми огоньками отражался свет, из приоткрытого рта текла тонкая струйка крови, а свитер, искромсанный ударами ножа, стремительно пропитывался темно-красным.
- Я же предупреждал, - сообщил Октав трупу и вытер нож, испачканный кровью, об его брюки. Он поймал себя на том, что не испытывает сильного беспокойства – лишь легкое физиологическое волнение, в котором сложно было распознать какое-либо чувство.
Остаток пути до Гитлерштадта Октав преодолел на машине. Мерцали сугробы, с неба бледным киселем лился лунный свет. Труп Шиммера, завернутый в плед, медленно коченел в чреве багажника, а Октав, спокойный и умиротворенный, барабанил пальцами по рулю и слушал радио. Сестры Фляйш исполняли комическую песню "Не видели ли вы мою сестру?".
Машину с трупом Октав оставил в лесной чаще около Гитлерштадта, деньги из бумажника Шиммера забрал себе, а нож выбросил в канализационный люк. Избавившись от улик, он сел на поезд, который на протяжении последующих двух недель вез его в Берлин, делая остановки то в Санкт-Петербурге, то в Восточной Пруссии, то в Праге.
На берлинском вокзале Октава не задержали. Кажется, его вспышка гнева осталась незамеченной и обещала в скором времени превратиться в безнадежный полицейский висяк. В этом Октав не сомневался, потому что Шиммер, учитывая его намерения, вряд ли кому-то сообщал, куда и зачем он едет. К тому же, Октав прибрал за собой: смочил носовой платок Шиммера огуречным лосьоном, который нашел в бардачке, протер всё, к чему теоретически мог прикоснуться голыми руками, и замыл снегом брызги крови, попавшие на его черное пальто. Беспокоиться было не о чем.
Нойкёльн, - злачный район Берлина, где проживали мишлинги, остарбайтеры и просто расовые изгои, - приятно удивил Октава, чем-то напомнив ему гетто, где он провел первые тринадцать лет своей жизни. Жители Нойкёльна не глядели на Октава, как на чужака, а старинные дома с запылившейся лепниной, которые Гитлер не успел снести, чтобы перекроить столицу на свой манер, разительно отличались от монументальной арийской архитектуры. Заселившись в дешевую гостиницу "Сесил", Октав принял душ, переоделся в чистую одежду и, оставив чемодан в номере, отправился бродить по сумрачным улицам Нойкельна. Щелкала по брусчатке трость, в небе алебастровой бусиной висела полная луна, а неоновые вывески, рассеивая темноту, рассыпали по влажному асфальту красно-синие блики. Когда уличного освещения стало ощутимо меньше, а под ногами захрустели осколки бутылок и шприцы, Октав предположил, что бар "Белая рыба", в который его направил Майзель, находится где-то неподалеку, и оказался прав.
Нужный дом, - грязно-бежевая постройка начала века с тремя этажами и облупленным фасадом, - обнаружился в соседнем квартале. Позади дома моргал красноватыми фонарями неухоженный сквер, а вход в бар представлял собой черную металлическую дверь, которая вела в подвальное помещение. Переступив порог, Октав на миг забыл, зачем вообще он сюда пришел. Среди бархатных теней неторопливо ползали желто-зеленые огни цветомузыки, в дальнем углу постукивали за вуалью сигаретного дыма бильярдные шары, а возле музыкального автомата, глухо шипящего джазом, сидел за круглым столиком потрепанный вурм с рассеченной бровью. Бар "Белая рыба" очень сильно походил на львовское джаз-кафе, где Октав проводил много времени, когда был совсем юным.
В глубине помещения располагалась барная стойка. Рыжий бармен в бордовом жилете, важно вскинув подбородок, протирал пивные бокалы, а за его спиной поблескивала гвоздиками дверь, занавешенная складчатой черной шторой. Чем ближе Октав подходил к барной стойке, тем явственнее становилась вонь сжигаемой плоти. Проигнорировав галлюцинацию, которая уже успела ему надоесть, он забрался вместе с тростью на один из барных стульев.
- Что будете пить? – спросил бармен, даже не посмотрев на него.
- Я хочу встретиться с мистером Родмахером, - произнес Октав на идише.
- А с чего ты взял, что мистер Родмахер захочет встретиться с тобой? – возразил бармен на том же языке, продолжая протирать бокал. - Откуда ты приехал такой умный? Из деревни?
- Из Сибири. Я от Майзеля, - мрачно сказал Октав.
Отвлекшись от бокала, бармен наконец удостоил его взглядом:
- Ну и как тебя зовут?
- Гершель Либерман.
- Мистер Родмахер приедет через два часа. Подожди здесь, - небрежно приказал бармен.
Октав ждал и не волновался, потому что никуда не спешил. Потягивая из бокала горьковатое пиво, он курил, стряхивал пепел в керамический цветок пепельницы и вспоминал, как запихивал в багажник скрюченный труп Шиммера, однако убийство, совершенное на другом конце рейха две недели назад, казалось теперь всего лишь дурным сном.
Мистер Родмахер задержался и прибыл через три часа. Бармен провел Октава в дверь, которая находилась позади него, указал на деревянную лестницу, ведущую наверх, и лаконично объяснил:
- Последняя комната справа.
Поднявшись, Октав оказался в узком коридоре, который мог бы принадлежать дешевой почасовой гостинице: прокуренный воздух пах пылью и сыростью, каблуки ботинок глухо стучали по вытертой ковровой дорожке, а бледно-зеленые стены с однообразными деревянными дверьми то ли казались грязными из-за приглушенного света, то ли действительно такими были. В большом зеркале, которое висело в самом конце коридора, шагал навстречу Октаву его двойник – хромой, осунувшийся и мешковато одетый. Приводить себя в порядок было уже поздно. Положившись на волю случая, Октав постучал в нужную дверь.
- Заходи, - донесся изнутри гнусавый мужской голос.
Переступив порог, Октав не сразу разглядел людей, с которыми уже не первый год работал Майзель - окна, несмотря на ночь, были задернуты тяжелыми темными шторами. Посередине комнаты вполсилы горел торшер, слабо освещая пару кожаных кресел, кофейный столик и рассохшийся паркет. В левом кресле, закинув ногу на ногу, сидел молодой мишлинг с густыми черными бровями, одетый в мятый пиджак, водолазку и узкие брюки. В правом кресле протирал платком очки сухощавый мужчина лет тридцати. Из-за опрятной серой тройки он походил на банковского работника, а шляпа, которую он носил в помещении, позволяла рассмотреть лишь длинный нос и безвольный подбородок с ниткой рта.
- Кто из вас мистер Родмахер? – ровным тоном поинтересовался Октав и заметил, что молодой мишлинг покосился на мужчину в шляпе.
Тот надел очки и деловито произнес:
- Мистер Родмахер – это я. А это Йосси, - добавил он, указав кивком головы на мишлинга. – Давай сюда письмо и документы.
Пока мистер Родмахер изучал документы, уделяя особенное внимание свидетельству о происхождении, Йосси сохранял молчание и скептически поглядывал на трость, рукоять которой Октав сжимал искривленными пальцами. Октав сохранял невозмутимый вид: из углов комнаты тянуло жженной кожей, и ему не хотелось, чтобы кто-то заметил, как на его лице проступает отвращение. Мистер Родмахер отложил документы на кофейный столик и поднес к глазам письмо Майзеля, спрятавшись за ним, как за маской.
- Ты бегать хоть можешь? – спросил наконец Йосси, простудно гнусавя.
- Могу. Две недели назад я полностью выздоровел.
- Смотри у меня. Если это ложь, то тебя в первую же неделю изобьет какой-нибудь легавый. Или недовольный покупатель. Сам будешь виноват.
Аккуратно сложив письмо, мистер Родмахер убрал его в карман и приказал:
- Йосси, возьми его на розницу. Пусть сначала разберется, как всё устроено. Потом посмотрим.
С жильем Октаву повезло. Он переселился на верхний этаж гостиницы "Сесил", где номера сдавались на долгий срок, и заплатил за январь деньгами, которые раньше принадлежали Шиммеру. Санузел наполовину занимала громоздкая чугунная ванна, в комнате выцветали под лучами солнца желтоватые обои, а около двери, ведущей на пятачок балкона, стояла узкая койка с металлической спинкой. Слева снимал идентичный номер остарбайтер из Польши, который по выходным пил и играл на гитаре, а справа наслаждалась асоциальной связью пара любовников, состоящая из маргинальной немки и вороватого мишлинга.
В работу Октав включился быстро. Любительские эксперименты Страшко на его память не повлияли, так что местность он запомнил практически сразу, отметив на воображаемой карте переулки и подворотни, в лабиринте которых можно было скрыться от преследователей. Пригодилось и шулерское чутье, которое раньше помогало Октаву выделять из толпы наивных дураков, а теперь безошибочно реагировало на полицейских, прикидывающихся наркоманами, и преступников, которые пошли на сделку со следствием. Первых выдавала казенная манера держаться, свойственная надзирателям из рядов СС, а вторые отличались затаенной нервозностью, которую Октав часто замечал в лицах лагерных стукачей. Приятно удивленный этим качеством, Йосси сменил скепсис на милостаь и в начале весны перевел Октава на мелкий опт.
- Нечего тебе по улице шастать. Мозги у тебя есть, глаз наметан. Да нервы крепкие, - объяснил он свое решение.
Октав лишь сардонически хмыкнул. Йосси не знал, что каждую ночь он, лежа на продавленной койке, слепо глядит в облезлый потолок и чувствует, как шевелится в солнечном сплетении зарождающийся ужас. Против своей воли Октав представлял, как он валяется на кафельном полу подсобки, как наливаются грязной синевой его обветренные губы, как он плавно соскальзывает в пустоту небытия. Ужас сменялся холодной, как лед, злостью, и всё преображалось: Октав кромсал опасной бритвой голый живот штурмманна Страшко, бил связанного Страшко головой об чугунную батарею, душил его поясом от пальто и закапывал труп в березовом лесу. Засыпал Октав лишь под утро, с кровожадным сумбуром в голове и трясущимися руками.
Промучившись так два месяца, он стал выпивать перед сном по бутылке красного вина и теперь засыпал практически сразу, не успев погрязнуть в навязчивых мыслях о том, что жестокое убийство Страшко избавит его от всех тревог, что очень приятно после всех пережитых унижений оказаться на месте того, кто топчет и разрушает. Однако вскоре образ штурмманна Страшко расплылся и поблек, превратившись в аморфный слепок прошлого, а вместе с ним исчез несуществующий запах паленой плоти.
Новая жизнь стала для Октава компенсацией за сибирские годы, хотя теперь он не до конца понимал, зачем ему вообще нужна эта новая жизнь. Поддавшись инерции, Октав приобрел двухкомнатную квартиру в панельном доме, хозяйка которой, пьющая немка, получила деньги неофициально, а передачу недвижимости оформила как акт дарения. Потом подошла очередь автомобиля, и Октав за приемлемую сумму купил подержанный "ситроен", модель которого считалась во Франции роскошью. Жаловаться было не на что, однако ничто не радовало. В свободное от работы время Октав слушал пластинки, не все из которых были легальными, иногда ходил в "Бабилон", чтобы по старой привычке опустошить там бутылку вина, и смотрел в кинотеатре "Штерн" пропагандистские фильмы, от которых вскипала кровь и неистово хотелось жить.
Наперекосяк всё пошло третьего июня. Йосси в тот день не вышел на связь, хотя должен был договориться о передаче денег, которые Октав заработал в мае. Заподозрив неладное, Октав первым делом позвонил Йосси домой, но трубку взяла его любовница, которая не видела его со вчерашнего вечера. У второй любовницы Йосси тоже не оказалось, и когда Октав уже натягивал пиджак, чтобы отправиться на поиски лично, ему наконец дозвонился мистер Родмахер.
- Приезжай в "Белую рыбу", Гершель. Мне надо срочно с тобой поговорить, - сообщил он, не поздоровавшись.
Надев шляпу, Октав с хмурым видом покинул квартиру. Возле подъезда удушающе цвели ярко-розовые пионы, в окнах противоположного дома жидким золотом отражалось слепящее солнце. Над гаражами сновали из стороны в сторону белые, как мука, бабочки и зеленые жуки, отливающие бронзой.
Встреча состоялась в той же комнате, что и полгода назад. Шторы вновь были задернуты, однако на этот раз внутрь пробивались тонкие полоски света. На кофейном столике щетинилась окурками пепельница из цветного стекла. Слабо горел высокий торшер с бахромой, разгоняя по углам чернильный полумрак. Мистер Родмахер сидел в своем кресле, задумчиво глядел на дверь и вертел в узловатых пальцах прозрачную аптечную склянку с белыми таблетками. Шляпа отбрасывала на его лицо зыбкую тень, в которой влажно мерцали темные глаза.
- Йосси больше нет, - сухо произнес Родмахер.
Октав, который сидел теперь на месте Йосси, удивленно вскинул бровь.
- Его не убили. Он переоценил свои силы и снюхал слишком много кокса, - повернулся Родмахер к Октаву, закинув ногу на ногу. - Так бывает, когда не умеешь себя ограничивать и считаешь себя самым умным. Земля ему пухом, конечно, но такие торговцы нам не нужны.
- И как теперь быть?
- Нужно найти ему замену. Но я об этом уже позаботился. Я выбрал наиболее трезвого и уравновешенного человека. Это ты, Гершель. Надеюсь, ты не откажешься.
Октав настороженно посмотрел на него из-под шляпы:
- Вы уверены, что я справлюсь, мистер Родмахер? Я ведь не то что бы трезвый. Я пью каждый день.
- И что ты там пьешь? Немного вина перед сном? – хмыкнул тот. Таблетки в склянке пересыпались, издавая шуршащее постукивание. – Это не алкоголизм, а детские забавы. К тому же, я тебя не алкоголем ставлю торговать. Главное, чтобы ты нос в товар не совал, а то тоже сдохнешь в каком-нибудь загаженном мотеле.
Щелкнув зажигалкой, Октав закурил и погрузился в раздумья. Обычно Родмахер, беседуя с подчиненными, был крайне скуп на слова, и поэтому сегодня его речь звучала весьма дружелюбно, однако завуалированные угрозы, которые в ней проскальзывали, заставили Октава насторожиться. К сожалению, возражать Родмахеру было опасно – во всяком случае, пока.
- Хорошо, я вас понял. Я возьму всё в свои руки, - сказал Октав.
Родмахер бледно улыбнулся, поставил склянку с таблетками на кофейный столик и начал покачивать ботинком, словно отсчитывая секунды:
- И еще кое-что, Гершель… Ты знаешь, что у гауляйтера есть младший сын, Рудольф фон Штакельберг?
- Знаю, и мне это очень не нравится.
- Да, конечно, - усмехнулся Родмахер. – Ты хотел бы, чтобы немцы тоже не могли размножаться. Но именно об этом я и собираюсь с тобой поговорить.
Октав заинтересованно прищурился, склонив голову набок.
- Дело в том, что Рудольф неженат, раз в месяц посещает "Лебенсборн" и теперь ищет нового дилера, потому что старый отбыл в концлагерь, - спокойным тоном объяснил Родмахер. – Рудольф предпочитает максимально чистый кокс, быстрое обслуживание и доставку на дом. К дилерам-евреям относится положительно. Считает, что именно для этого евреи и созданы. Как видишь, он впитал в себя нацистский миф про отравление колодцев, но трактует его совсем не так, как хотели бы его учителя.
Октав маслянисто блеснул глазами, и его губы растянулись в злорадной улыбке:
- Понимаю. Мажору нужен надежный поставщик, который подложит ему свинью. У меня есть несколько кандидатур.
Родмахер довольно засмеялся:
- Нет, Гершель, ты меня не понял. Я уже решил, что этим поставщиком станешь ты.
Октав замер с сигаретой в руке, и столбик пепла осыпался ему на колено. Дело, которое и без того было мутным, принимало странный оборот. Родмахер доверительно взял Октава за запястье, направляя сигарету к пепельнице.
- Это не отнимет много времени. Будешь приезжать к нему раз в неделю, обычно Рудольф нюхает по субботам, - сказал он с теплой улыбкой. – Конечно, тебе не по статусу таким заниматься, но я не могу поручить это задание дураку, который провалит всё в первый же день. Видишь таблетки?
Собравшись с мыслями, Октав выбросил тлеющий окурок в пепельницу и поднес к лицу аптечную склянку, которая всё это время стояла на кофейном столике. Никаких этикеток на ней не оказалось.
- Талидомид. Два года назад его перевели на строгий учет. У них, видишь ли, младенцы после него уродами рождались. С культями вместо рук и деформированными глазными яблоками, - усмехнулся Родмахер. – В семье гауляйтера такого не случалось ни разу, но теперь случится.
Октав хмуро уставился на склянку талидомида, которая неприятно холодила ладонь. Намек Родмахера был прозрачен донельзя, однако в плане, который он только что кратко изложил, был серьезный, заметный при первом же осмыслении изъян.
- Через девять месяцев дети начнут рождаться, и Рудольф догадается, что его травлю я, - произнес Октав.
Родмахер улыбнулся, горделиво вскинув подбородок:
- Не волнуйся, Гершель. Послезавтра у тебя появится запасной паспорт. Если начнутся неприятности, то француз с немецкими корнями сможет без проблем покинуть Германию.
"Во что ты меня втягиваешь, падла?" - подумал Октав. Щедрость Родмахера вызывала подозрения сама по себе, а теперь, когда выяснились подробности, в плане начал проглядывать политический заказ.
До него и раньше доходили слухи, что семья Кляйн возникла не без помощи спецслужб, однако теперь он готов был в них поверить. Разрушенная репутация одного из гауляйтерских сыновей слабо тянула на месть арийской расе, зато могла испортить политическую карьеру гауляйтеру фон Штакельбергу, который занимал этот пост уже больше десяти лет. Высказывать свои сомнения Октав не стал. Ему не хотелось умереть от передозировки в дешевом мотеле, как это, возможно, произошло с несговорчивым Йосси.
- Мои пальцы… - прошипел Октав, побелев от злости.
Майзель мягко надавил ладонью ему на лоб, и Октав нехотя коснулся затылком изголовья кушетки. Перед глазами вновь оказались голубой кафель, грязный потолок и темная, словно чернильный эскиз, голова.
- Тебя принесли в лазарет из библиотеки. Что произошло? – спросил Майзель, склонившись над Октавом.
Тот сардонически улыбнулся, дернув лицом в легкой судороге:
- Я назвал его Сливой и обругал на идише. Недешевое развлечение.
- А ты находчивый, - усмехнулся Майзель. – Инспектор был в актовом зале, услышал про пожар и поймал Сливу с поличным. Ему, кажется, втык дадут. А тебя скоро в город увезут, будешь в спецкорпусе досиживать.
- В спецкорпусе?
- В спецкорпусе горбольницы. Учитывая твое состояние, в лагерь тебя уже вряд ли вернут, - произнес Майзель загадочным тоном.
Он глядел на Октава, не моргая, и в прозрачной синеве его глаз мерцал нездоровый, маниакальный огонь. Октав вопросительно вскинул бровь.
- Если бы Слива был заперт в газовой камере, ты бы повернул вентиль? – тихо поинтересовался Майзель.
- Я бы убил его несколько раз, но это невозможно физически.
- Да, ты прав. Это невозможно, - согласился он и понизил голос до глухого шепота. – Но если ты согласишься работать на мистера Родмахера, то сможешь травить немцев сколько душе угодно. В конце концов, именно этого они от нас и ждут. А если раса господ чего-то требует, то приказ надо выполнять. Кто мы такие, чтобы спорить?
- Никто, - хладнокровно прошептал в ответ Октав.
Майзель осклабился, как бродячий пес:
- Значит, ты согласен?
- Конечно, Меир. Я теперь на всё согласен.
Положив руку ему на плечо, Майзель вполголоса произнес:
- Слушай внимательно, Гершеле. Когда тебя переведут в вольный корпус, тебя навестит Маша, моя гражданская жена…
Выздоравливал Октав медленно. Соседи по палате, оказавшиеся на редкость миролюбивыми асоциалами, считали его образованным и уважали за драку с надзирателем, пусть даже и проигранную. Три конечности, закатанные в гипс, не давали Октаву встать с койки, и он коротал дни, обучая немецкому языку одного из асоциалов – ампутанта по имени Глеб, который попал в больницу с лесоповала, где ему раздробило деревом ногу. В долгу Глеб не оставался и помогал Октаву курить: вставлял ему в зубы сигарету, чиркал спичкой и держал крышку от кофейной банки, чтобы пепел не сыпался на одеяло. По зеленоватым стенам палаты прыгали солнечные зайчики, за окнами чирикали воробьи, а в больничном саду медленно лысели янтарно-золотистые клены. Это был мир, в котором не существовало штурмманна Страшко. Это был мир, который казался Октаву нереальным, словно выцветший кадр диафильма.
В середине октября, когда гипс сняли с рук, Октав выменял у Глеба засаленную колоду карт и стал упражняться в карточных фокусах, которым его когда-то обучил отчим, однако кривые пальцы, испещренные бледнеющими синяками, не справлялись с нагрузкой, и карты с шорохом рассыпались по одеялу, насмешливо дразня Октава узорчатыми рубашками. Октав хмурился, терпеливо собирал карты и начинал заново. Так проходили часы, часы складывались в дни, а дни тянулись друг за другом, как товарные вагоны на железнодорожном переезде.
Нормальная чувствительность вернулась лишь через две недели, но Октав с горечью осознавал, что ловкость рук, которой он в юности удивлял знакомых вурмов, стала для него недосягаемой вершиной. Когда гипс сняли и с ноги, а пальцы достаточно окрепли, Октав начал гулять по палате, грузно наваливаясь на деревянные костыли. Маша, гражданская жена и подельница Майзеля, не появлялась.
Освободили Октава в первых числах ноября, после годовщины Пивного путча. Переодевшись в старую одежду, которая была на нем в день задержания, Октав кособоко оперся на трость, проковылял к окошку, где сидел дежурный фельдфебель, и отдал ему лагерную робу. Фельдфебель искривил конопатое лицо и положил перед Октавом бумажный пакет с вещами, которые у него изъяли два года назад.
Ничего, как выяснилось, не украли – даже наоборот. Помимо наручных часов, пустого бумажника и черепахового портсигара в пакете лежал ярко-желтый конверт для бандеролей. "Моему любимому человеку", - сообщала по-немецки надпись, сделанная крупным угловатым почерком, а последние два слова были жирно подчеркнуты, словно без этого Октав не мог распознать в ласковом обращении свою настоящую фамилию.
- Чего ты там рассматриваешь? Всё на месте, соответственно списку, - буркнул из-под кепи фельдфебель.
- Вы правы, так и есть. Доброго дня, - мрачно согласился Октав.
Взяв пакет под мышку, он вышел за массивную железную дверь, которая отделяла лагерный корпус больницы от просторного, светлого, мятно-зеленого коридора с широкими окнами. Резко пахло лекарствами, стелился по стенам и полу ледянисто-желтый свет, а далеко впереди белел, словно мотылек, колпак медсестры, которая дежурила на сестринском посту. Вздохнув, Октав побрел к ближайшему подоконнику. Звонко стучала по бетонному полу трость, каждый шаг отдавался в поясницу ноющей болью, а остроносые ботинки поблескивали на солнце, как хитиновые спинки жуков.
На путь до подоконника ушла минута. С облегчением на него усевшись, Октав прислонился спиной к раме и вытянул перед собой больную ногу, чтобы немного отдохнуть. Когда боль притихла, он вынул из бумажного пакета конверт и грубым рывком его вскрыл. С почтовой открытки смотрели черные, как сгустки смолы, оленьи глаза. Тускло мерцал острым лезвием кухонный нож. Нахмурившись, Октав извлек из конверта открытку и осмотрел её со всех сторон.
"У тебя нет будущего. Ты никому не нужен. Твоя жизнь бессмысленна", - было написано на обороте открытки всё тем же угловатым почерком.
Октав будто наяву услышал, как эти слова глумливо-сочувственным тоном произносит штурмманн Страшко, и презрительно хмыкнул. Сложив вещи обратно в пакет, он поплелся к сестринскому посту. До полной выписки оставалось чуть меньше месяца.
Маша, курносая брюнетка лет сорока в лисьей шубе, объявилась лишь в начале декабря, когда Октав уже отчаялся ждать, и передала ему потертый чемодан из коричневой кожи. Внутри Октав обнаружил сигареты, деньги на самый дешевый плацкартный билет до Берлина и немного зимней одежды, в которой можно было пешком дойти до вокзала. К передаче прилагались два письма: в одном Майзель объяснял, как разыскать в Берлине мистера Родмахера, а другое, запечатанное сургучной печатью, вскрывать было запрещено – оно предназначалось самому мистеру Родмахеру.
Нарушать приказ новых хозяев Октав не стал. Отыскав в больничном коридоре наиболее яркую лампу, он изучил конверт на просвет и понял, что письмо написано на идише. Разобрать удалось немногое: "жил в Лемберге", "три года играл на скрипке", "может быть полезен для…" - но Октаву хватило и этого. Майзель отзывался о нем положительно, и это значило, что ему пока что можно было доверять.
Шестнадцатого декабря, когда улицы Паульмунда расцвели красочными дугами новогодних гирлянд, Октав с чемоданом в руке вышел на бетонное крыльцо горбольницы. Потела под ушанкой голова, колол шею мохеровый шарф, а в кармане пальто лежал кухонный нож – последний подарок штурмманна Страшко. Октав обвел сонным взглядом больничный сквер, на который уже легли голубоватые сумерки, сунул в зубы сигарету и неспешно, тыкая тростью в снежную слякоть, пошел к распахнутым воротам больницы. Сигарета мерцала в полумраке, как алый светлячок, а в окнах рыжих пятиэтажек серебрилась мишура. Когда из-за домов выныривал изрытый оспинами полумесяц, в очках Октава зажигались два бледных огонька. Начиналась новая, невиданная жизнь.
Железнодорожный вокзал Паульмунда оказался неказистым двухэтажным коробом, который был отделан узкими плитами розоватого ракушечника. Плоский навес крыльца опирался на тонкие колонны, переливалась под фонарным светом белая чешуя стеклоблоков, а слева вилась по стене пожарная лестница. Под ней изгибалась, плавно переходя в грунтовку, асфальтовая дорога, чье узкое щупальце терялось в лабиринте промзоны. Над бетонными плитами заборов и крышами цехов тускло мерцали фонари.
Скрывшись в вокзале, Октав купил билет на ближайшую электричку до Гитлерштадта и поднялся на второй этаж, который опоясывал внутреннее пространство вокзала широкой галереей. В воздухе витал запах борща, и вскоре Октав нашел его источник – небольшую столовую. Заказав картофельное пюре с котлетами, залитое вязким томатным соусом, и горячий чай в граненом стакане, Октав с жадностью набил желудок. Его не смутила даже сладковатая вонь паленого мяса, которая душным мороком пробивалась откуда-то извне.
Когда Октав вышел из столовой, было уже совсем темно. На вокзал рыхлыми слоями ложились синие потемки, в стеклоблоках дробился на яркие клочья уличный свет, а зал ожидания кишел местными жителями. Поудобнее перехватив чемодан, Октав подошел к лестнице и уже приготовился спускаться, как вдруг прищурился и медленно отступил назад, словно пятящийся в кусты олень. К билетной кассе, вальяжно пробираясь сквозь толпу, шагал эсэсовец в черном кепи. Рассмотрев его холодное, слегка рыбье лицо, Октав узнал в эсэсовце штурмманна Страшко.
"Надо уходить", - понял он и сосредоточенно осмотрелся.
Пройдя по галерее второго этажа, можно было скрыться либо в общественном туалете, либо за красной дверью пожарного выхода. Оказываться наедине со Страшко в туалете, пусть даже общественном, Октав не желал, поэтому он взял в руку трость и прогулочным шагом, чтобы не привлекать к себе внимания, направился к пожарному выходу.
К счастью, дверь, помеченная фрактурным шрифтом, была не заперта. Вывалившись на широкий балкон пожарной лестницы, Октав увидел внизу грязные сталагмиты городского снега и грунтовую дорогу, на которой сплетались друг с другом следы шин. Притворив за собой дверь, Октав спустился по лестнице и захромал в сумрак промзоны, оставляя на снегу четкие отпечатки зимних ботинок, которые ему передала Маша.
Когда цеха, обнесенные бетонными заборами, остались позади, Октав понял, что оказался в самом начале безлюдной трассы. Среди рваных облаков серебрился узкий серп луны, искрились, будто сахарная глазурь, сугробы, а ели сливались в бесформенное черное скопище. Справа от трассы косо торчал из снега дорожный указатель: до Гитлерштадта оставалось четыреста километров.
Оценив ситуацию, Октав решил вернуться на вокзал после небольшой прогулки. С трудом отыскав в густой тени деревьев левую обочину, он оперся на трость и устремил быстрые шаги в сумрачную даль. Скрипел под ботинками снег, ненавязчиво ныло колено. Октав растворялся в ледяной темноте, задевая чемоданом сугробы и оставляя за собой извилистый след. Время застыло, как мороженая туша.
Свечение фар, мелькнувшее на дороге россыпью бледно-желтых бликов, застало Октава врасплох. Резко обернувшись, он увидел, как со стороны Паульмунда приближается, явно замедляясь и подъезжая к обочине, кремовый "фольксваген", до середины покрытый замерзшими брызгами грязи. Стиснув зубы, Октав сунул трость под мышку, запустил руку в карман пальто и нащупал шершавую рукоять ножа.
"Фольксваген" окатил Октава желтым светом и притормозил. Медленно, как в американских триллерах, опустилось стекло.
- Вы заблудились? Вам помочь? – спросил по-немецки блондин, которому на вид было около сорока пяти.
Октав бегло осмотрел водителя. Лицо у него было вытянутое и явно нордическое, на лоб спадала сальная прядь светлых волос, а в глубине глазниц лихорадочно поблескивали голубые глаза. Легкая щетина и растянутый свитер с оленями придавали немцу слегка асоциальный вид, что Октава скорее порадовало, чем огорчило – прилично одетому немцу он бы точно не доверился.
Отпустив нож, Октав вынул руку из кармана. Поправив очки, он вновь уперся тростью в притоптанный снег и состроил растерянную гримасу:
- Кажется, да. Мне нужно в Гитлерштадт.
- Так вы пешком не дойдете, туда ехать часа четыре. Может, подвезти вас? – предложил немец, внимательно рассматривая Октава. Его оценивающий взгляд скользнул по трости, искривленным пальцам, семитскому лицу…
- Я был бы очень благодарен, - вежливо улыбнулся Октав, пока немец не передумал.
- Акцент у вас странный какой-то… - задумчиво протянул он. – Вы что, француз?
- Так и есть. Меня зовут Люсьен Моро, я фармацевт из Парижа. Приезжал к брату на свадьбу, - улыбнулся Октав еще шире. В нем медленно, но неумолимо разгорался шулерский азарт.
- Генрих Шиммер, акушер. Рад знакомству, - улыбнулся немец. Наклонившись к пассажирскому сиденью, он призывно открыл дверь.
Обойдя "фольксваген", Октав занял предложенное место, поставил перед собой чемодан и сжал трость коленями. Запотели очки, налились жаром щеки. Октав стянул зубами перчатки, расстегнул пальто и, протерев очки, украдкой осмотрел салон, залитый грязно-желтым светом. На заднем сиденье валялся скомканный плед, под зеркалом покачивалась йольская шишка с красной лентой, а из отделения для перчаток, не давая ему закрыться, торчал бежевый термос. О характере водителя это мало что говорило, но Октав не сомневался, что тот был одиночкой.
"Фольксваген" тронулся с места, набрал скорость, и Шиммер со смешком признался:
- Вы не представляете, как я рад, что встретил в этой глуши европейца. Пока я работал в деревне, меня окружали только местные.
- Здесь, в Сибири? – из вежливости поинтересовался Октав.
- В Туркестане.
- Там, наверное, тепло.
- Вы ошибаетесь, Люсьен. Это огромная степь, в которой дует холодный ветер, а зимой выпадает метровый слой снега, - сказал Шиммер и искоса взглянул на Октава. – Как там, в Париже?
- Все готовятся к Рождеству. Если успею вернуться до конца праздников, то проведу их с семьей.
- Тогда вам нужно в Москау. Оттуда можно вылететь прямиком в Париж.
- Да, я туда и собирался, - виновато улыбнулся Октав, - просто выпил вчера. И заблудился немного…
- Не нужно этого стыдиться. Свадьба – дело такое, - мягко успокоил его Шиммер.
Рассеянно кивнув, Октав замолчал и уставился в окно. Быстро сменяли друг друга сугробы и деревья, облитые вязкой патокой лунного света. По дороге, хватаясь за размытые снопы фар, ползали мохнатые тени ветвей. Становилось душно. Сняв шапку и шарф, Октав положил их сбоку от себя и пригладил пальцами растрепанные волосы. Он не знал, о чем еще поговорить с Шиммером, однако радовался, что тот оказался не худшим попутчиком: сделал вид, что поверил в его биографию, и даже пустил в машину. Если Страшко и заметил поспешное бегство Октава, то догнать его уже не мог.
- Мы с вами, Люсьен, в некотором роде коллеги… - произнес Шиммер, сосредоточенно глядя на темную дорогу.
- Да, в некотором роде.
- Почему вы выбрали фармацию? Вам неинтересна медицина?
Октав выдавил из себя кривую улыбку:
- Меня тошнит при виде крови. Я был бы кошмарным доктором.
- Справедливо. Каждому свое, - усмехнулся Шиммер. Он повернул руль, и "фольксваген", съехав с дороги, замер на обочине.
- Почему вы остановились? – настороженно спросил Октав. Его правая рука незаметным движением скользнула в карман пальто, где лежал нож.
Шиммер заглушил мотор, повернулся к Октаву и снисходительно на него посмотрел:
- Никакой ты не француз, Люсьен. Ты мишлинг, который солгал мне, хотя в этом не было надобности. И я, если так подумать, должен высадить тебя здесь. Ты, конечно, можешь и замерзнуть насмерть в такой глуши, но что поделать? Ты слишком подозрительный, чтобы везти тебя дальше.
Октав прикинул, насколько далеко они отъехали от Паульмунда, и озадачился. Ехал Шиммер довольно быстро и преодолел за это время километров двадцать, а добираться до Паульмунда пешком в осеннем пальто было слишком рискованно.
- Вы можете довезти меня до ближайшей деревни. Дальше я сам, - предложил Октав.
- И что ты будешь делать в этой деревне? Ночевать в сарае у какого-нибудь унтерменша? – издал Шиммер довольный смешок. – Ну уж нет, давай лучше я все-таки отвезу тебя в Гитлерштадт. Но, конечно, не бесплатно…
Склонив голову набок, Шиммер подался вперед. Октав удивленно вскинул брови: по его левому колену уверенно ползла вверх теплая мужская рука. Ситуация стремительно выходила из-под контроля. Октаву хотелось, чтобы Шиммер прекратил этот разговор, пока не стало слишком поздно.
- Как тебя зовут на самом деле, Люсьен? – вкрадчиво спросил тот.
- Гершель. Гершель Либерман, - произнес Октав, сонно взглянув на Шиммера из-под тяжелых век. Он надеялся, что внутренние переживания не отражаются у него на лице.
- Учти, Гершель, что если мне что-то не понравится, то высажу тебя здесь и уеду, - со смешком пригрозил Шиммер, сдавив его ногу чуть выше колена. – Так что будь хорошим еврейским мальчиком и не разочаровывай меня.
- Вам повезло, - глухо произнес Октав, пристально глядя на него почерневшими глазами. – Последние два года я провел в концлагере и кое-чему там научился.
- Ты наркоторговец?
- Шулер.
Шиммер ничего не сказал. Трясущиеся пальцы его другой руки мягко легли Октаву на шею, но тот даже не пошевелился. Он медленно и размеренно дышал, чтобы не сорваться раньше времени. Шиммер бережно поглаживал его по горлу и сверлил тяжелым паучьим взглядом. За его спиной мерцали под лунным светом снежные волны.
- Чего ты так дрожишь, олененочек? – с ласковой хрипотцой спросил Шиммер, и его левая рука переползла с колена Октава на внутреннюю сторону бедра. – Я не сделаю тебе больно, мне тебя даже жалко. Картавый, хромой, близорукий…
- Farmash dos moyl![60] – прошипел Октав сквозь зубы. Выхватив из кармана нож, он со всей возможной силой ударил Шиммера в грудь.
[60] "Заткнись!" (идиш)
Тот вскрикнул и машинально отнял руки, пытаясь зажать рану. Октав невнятно зарычал, схватил Шиммера за горло и нанес ему второй удар ножом, третий, четвертый…
Когда аффект схлынул, Октав понял, что тычет ножом в обмякший труп. Шумно выдохнув, он разжал окровавленные пальцы. Труп грузно повалился назад и стукнулся макушкой об окно. В остекленевших голубых глазах желтыми огоньками отражался свет, из приоткрытого рта текла тонкая струйка крови, а свитер, искромсанный ударами ножа, стремительно пропитывался темно-красным.
- Я же предупреждал, - сообщил Октав трупу и вытер нож, испачканный кровью, об его брюки. Он поймал себя на том, что не испытывает сильного беспокойства – лишь легкое физиологическое волнение, в котором сложно было распознать какое-либо чувство.
Остаток пути до Гитлерштадта Октав преодолел на машине. Мерцали сугробы, с неба бледным киселем лился лунный свет. Труп Шиммера, завернутый в плед, медленно коченел в чреве багажника, а Октав, спокойный и умиротворенный, барабанил пальцами по рулю и слушал радио. Сестры Фляйш исполняли комическую песню "Не видели ли вы мою сестру?".
Машину с трупом Октав оставил в лесной чаще около Гитлерштадта, деньги из бумажника Шиммера забрал себе, а нож выбросил в канализационный люк. Избавившись от улик, он сел на поезд, который на протяжении последующих двух недель вез его в Берлин, делая остановки то в Санкт-Петербурге, то в Восточной Пруссии, то в Праге.
На берлинском вокзале Октава не задержали. Кажется, его вспышка гнева осталась незамеченной и обещала в скором времени превратиться в безнадежный полицейский висяк. В этом Октав не сомневался, потому что Шиммер, учитывая его намерения, вряд ли кому-то сообщал, куда и зачем он едет. К тому же, Октав прибрал за собой: смочил носовой платок Шиммера огуречным лосьоном, который нашел в бардачке, протер всё, к чему теоретически мог прикоснуться голыми руками, и замыл снегом брызги крови, попавшие на его черное пальто. Беспокоиться было не о чем.
Нойкёльн, - злачный район Берлина, где проживали мишлинги, остарбайтеры и просто расовые изгои, - приятно удивил Октава, чем-то напомнив ему гетто, где он провел первые тринадцать лет своей жизни. Жители Нойкёльна не глядели на Октава, как на чужака, а старинные дома с запылившейся лепниной, которые Гитлер не успел снести, чтобы перекроить столицу на свой манер, разительно отличались от монументальной арийской архитектуры. Заселившись в дешевую гостиницу "Сесил", Октав принял душ, переоделся в чистую одежду и, оставив чемодан в номере, отправился бродить по сумрачным улицам Нойкельна. Щелкала по брусчатке трость, в небе алебастровой бусиной висела полная луна, а неоновые вывески, рассеивая темноту, рассыпали по влажному асфальту красно-синие блики. Когда уличного освещения стало ощутимо меньше, а под ногами захрустели осколки бутылок и шприцы, Октав предположил, что бар "Белая рыба", в который его направил Майзель, находится где-то неподалеку, и оказался прав.
Нужный дом, - грязно-бежевая постройка начала века с тремя этажами и облупленным фасадом, - обнаружился в соседнем квартале. Позади дома моргал красноватыми фонарями неухоженный сквер, а вход в бар представлял собой черную металлическую дверь, которая вела в подвальное помещение. Переступив порог, Октав на миг забыл, зачем вообще он сюда пришел. Среди бархатных теней неторопливо ползали желто-зеленые огни цветомузыки, в дальнем углу постукивали за вуалью сигаретного дыма бильярдные шары, а возле музыкального автомата, глухо шипящего джазом, сидел за круглым столиком потрепанный вурм с рассеченной бровью. Бар "Белая рыба" очень сильно походил на львовское джаз-кафе, где Октав проводил много времени, когда был совсем юным.
В глубине помещения располагалась барная стойка. Рыжий бармен в бордовом жилете, важно вскинув подбородок, протирал пивные бокалы, а за его спиной поблескивала гвоздиками дверь, занавешенная складчатой черной шторой. Чем ближе Октав подходил к барной стойке, тем явственнее становилась вонь сжигаемой плоти. Проигнорировав галлюцинацию, которая уже успела ему надоесть, он забрался вместе с тростью на один из барных стульев.
- Что будете пить? – спросил бармен, даже не посмотрев на него.
- Я хочу встретиться с мистером Родмахером, - произнес Октав на идише.
- А с чего ты взял, что мистер Родмахер захочет встретиться с тобой? – возразил бармен на том же языке, продолжая протирать бокал. - Откуда ты приехал такой умный? Из деревни?
- Из Сибири. Я от Майзеля, - мрачно сказал Октав.
Отвлекшись от бокала, бармен наконец удостоил его взглядом:
- Ну и как тебя зовут?
- Гершель Либерман.
- Мистер Родмахер приедет через два часа. Подожди здесь, - небрежно приказал бармен.
Октав ждал и не волновался, потому что никуда не спешил. Потягивая из бокала горьковатое пиво, он курил, стряхивал пепел в керамический цветок пепельницы и вспоминал, как запихивал в багажник скрюченный труп Шиммера, однако убийство, совершенное на другом конце рейха две недели назад, казалось теперь всего лишь дурным сном.
Мистер Родмахер задержался и прибыл через три часа. Бармен провел Октава в дверь, которая находилась позади него, указал на деревянную лестницу, ведущую наверх, и лаконично объяснил:
- Последняя комната справа.
Поднявшись, Октав оказался в узком коридоре, который мог бы принадлежать дешевой почасовой гостинице: прокуренный воздух пах пылью и сыростью, каблуки ботинок глухо стучали по вытертой ковровой дорожке, а бледно-зеленые стены с однообразными деревянными дверьми то ли казались грязными из-за приглушенного света, то ли действительно такими были. В большом зеркале, которое висело в самом конце коридора, шагал навстречу Октаву его двойник – хромой, осунувшийся и мешковато одетый. Приводить себя в порядок было уже поздно. Положившись на волю случая, Октав постучал в нужную дверь.
- Заходи, - донесся изнутри гнусавый мужской голос.
Переступив порог, Октав не сразу разглядел людей, с которыми уже не первый год работал Майзель - окна, несмотря на ночь, были задернуты тяжелыми темными шторами. Посередине комнаты вполсилы горел торшер, слабо освещая пару кожаных кресел, кофейный столик и рассохшийся паркет. В левом кресле, закинув ногу на ногу, сидел молодой мишлинг с густыми черными бровями, одетый в мятый пиджак, водолазку и узкие брюки. В правом кресле протирал платком очки сухощавый мужчина лет тридцати. Из-за опрятной серой тройки он походил на банковского работника, а шляпа, которую он носил в помещении, позволяла рассмотреть лишь длинный нос и безвольный подбородок с ниткой рта.
- Кто из вас мистер Родмахер? – ровным тоном поинтересовался Октав и заметил, что молодой мишлинг покосился на мужчину в шляпе.
Тот надел очки и деловито произнес:
- Мистер Родмахер – это я. А это Йосси, - добавил он, указав кивком головы на мишлинга. – Давай сюда письмо и документы.
Пока мистер Родмахер изучал документы, уделяя особенное внимание свидетельству о происхождении, Йосси сохранял молчание и скептически поглядывал на трость, рукоять которой Октав сжимал искривленными пальцами. Октав сохранял невозмутимый вид: из углов комнаты тянуло жженной кожей, и ему не хотелось, чтобы кто-то заметил, как на его лице проступает отвращение. Мистер Родмахер отложил документы на кофейный столик и поднес к глазам письмо Майзеля, спрятавшись за ним, как за маской.
- Ты бегать хоть можешь? – спросил наконец Йосси, простудно гнусавя.
- Могу. Две недели назад я полностью выздоровел.
- Смотри у меня. Если это ложь, то тебя в первую же неделю изобьет какой-нибудь легавый. Или недовольный покупатель. Сам будешь виноват.
Аккуратно сложив письмо, мистер Родмахер убрал его в карман и приказал:
- Йосси, возьми его на розницу. Пусть сначала разберется, как всё устроено. Потом посмотрим.
С жильем Октаву повезло. Он переселился на верхний этаж гостиницы "Сесил", где номера сдавались на долгий срок, и заплатил за январь деньгами, которые раньше принадлежали Шиммеру. Санузел наполовину занимала громоздкая чугунная ванна, в комнате выцветали под лучами солнца желтоватые обои, а около двери, ведущей на пятачок балкона, стояла узкая койка с металлической спинкой. Слева снимал идентичный номер остарбайтер из Польши, который по выходным пил и играл на гитаре, а справа наслаждалась асоциальной связью пара любовников, состоящая из маргинальной немки и вороватого мишлинга.
В работу Октав включился быстро. Любительские эксперименты Страшко на его память не повлияли, так что местность он запомнил практически сразу, отметив на воображаемой карте переулки и подворотни, в лабиринте которых можно было скрыться от преследователей. Пригодилось и шулерское чутье, которое раньше помогало Октаву выделять из толпы наивных дураков, а теперь безошибочно реагировало на полицейских, прикидывающихся наркоманами, и преступников, которые пошли на сделку со следствием. Первых выдавала казенная манера держаться, свойственная надзирателям из рядов СС, а вторые отличались затаенной нервозностью, которую Октав часто замечал в лицах лагерных стукачей. Приятно удивленный этим качеством, Йосси сменил скепсис на милостаь и в начале весны перевел Октава на мелкий опт.
- Нечего тебе по улице шастать. Мозги у тебя есть, глаз наметан. Да нервы крепкие, - объяснил он свое решение.
Октав лишь сардонически хмыкнул. Йосси не знал, что каждую ночь он, лежа на продавленной койке, слепо глядит в облезлый потолок и чувствует, как шевелится в солнечном сплетении зарождающийся ужас. Против своей воли Октав представлял, как он валяется на кафельном полу подсобки, как наливаются грязной синевой его обветренные губы, как он плавно соскальзывает в пустоту небытия. Ужас сменялся холодной, как лед, злостью, и всё преображалось: Октав кромсал опасной бритвой голый живот штурмманна Страшко, бил связанного Страшко головой об чугунную батарею, душил его поясом от пальто и закапывал труп в березовом лесу. Засыпал Октав лишь под утро, с кровожадным сумбуром в голове и трясущимися руками.
Промучившись так два месяца, он стал выпивать перед сном по бутылке красного вина и теперь засыпал практически сразу, не успев погрязнуть в навязчивых мыслях о том, что жестокое убийство Страшко избавит его от всех тревог, что очень приятно после всех пережитых унижений оказаться на месте того, кто топчет и разрушает. Однако вскоре образ штурмманна Страшко расплылся и поблек, превратившись в аморфный слепок прошлого, а вместе с ним исчез несуществующий запах паленой плоти.
Новая жизнь стала для Октава компенсацией за сибирские годы, хотя теперь он не до конца понимал, зачем ему вообще нужна эта новая жизнь. Поддавшись инерции, Октав приобрел двухкомнатную квартиру в панельном доме, хозяйка которой, пьющая немка, получила деньги неофициально, а передачу недвижимости оформила как акт дарения. Потом подошла очередь автомобиля, и Октав за приемлемую сумму купил подержанный "ситроен", модель которого считалась во Франции роскошью. Жаловаться было не на что, однако ничто не радовало. В свободное от работы время Октав слушал пластинки, не все из которых были легальными, иногда ходил в "Бабилон", чтобы по старой привычке опустошить там бутылку вина, и смотрел в кинотеатре "Штерн" пропагандистские фильмы, от которых вскипала кровь и неистово хотелось жить.
Наперекосяк всё пошло третьего июня. Йосси в тот день не вышел на связь, хотя должен был договориться о передаче денег, которые Октав заработал в мае. Заподозрив неладное, Октав первым делом позвонил Йосси домой, но трубку взяла его любовница, которая не видела его со вчерашнего вечера. У второй любовницы Йосси тоже не оказалось, и когда Октав уже натягивал пиджак, чтобы отправиться на поиски лично, ему наконец дозвонился мистер Родмахер.
- Приезжай в "Белую рыбу", Гершель. Мне надо срочно с тобой поговорить, - сообщил он, не поздоровавшись.
Надев шляпу, Октав с хмурым видом покинул квартиру. Возле подъезда удушающе цвели ярко-розовые пионы, в окнах противоположного дома жидким золотом отражалось слепящее солнце. Над гаражами сновали из стороны в сторону белые, как мука, бабочки и зеленые жуки, отливающие бронзой.
Встреча состоялась в той же комнате, что и полгода назад. Шторы вновь были задернуты, однако на этот раз внутрь пробивались тонкие полоски света. На кофейном столике щетинилась окурками пепельница из цветного стекла. Слабо горел высокий торшер с бахромой, разгоняя по углам чернильный полумрак. Мистер Родмахер сидел в своем кресле, задумчиво глядел на дверь и вертел в узловатых пальцах прозрачную аптечную склянку с белыми таблетками. Шляпа отбрасывала на его лицо зыбкую тень, в которой влажно мерцали темные глаза.
- Йосси больше нет, - сухо произнес Родмахер.
Октав, который сидел теперь на месте Йосси, удивленно вскинул бровь.
- Его не убили. Он переоценил свои силы и снюхал слишком много кокса, - повернулся Родмахер к Октаву, закинув ногу на ногу. - Так бывает, когда не умеешь себя ограничивать и считаешь себя самым умным. Земля ему пухом, конечно, но такие торговцы нам не нужны.
- И как теперь быть?
- Нужно найти ему замену. Но я об этом уже позаботился. Я выбрал наиболее трезвого и уравновешенного человека. Это ты, Гершель. Надеюсь, ты не откажешься.
Октав настороженно посмотрел на него из-под шляпы:
- Вы уверены, что я справлюсь, мистер Родмахер? Я ведь не то что бы трезвый. Я пью каждый день.
- И что ты там пьешь? Немного вина перед сном? – хмыкнул тот. Таблетки в склянке пересыпались, издавая шуршащее постукивание. – Это не алкоголизм, а детские забавы. К тому же, я тебя не алкоголем ставлю торговать. Главное, чтобы ты нос в товар не совал, а то тоже сдохнешь в каком-нибудь загаженном мотеле.
Щелкнув зажигалкой, Октав закурил и погрузился в раздумья. Обычно Родмахер, беседуя с подчиненными, был крайне скуп на слова, и поэтому сегодня его речь звучала весьма дружелюбно, однако завуалированные угрозы, которые в ней проскальзывали, заставили Октава насторожиться. К сожалению, возражать Родмахеру было опасно – во всяком случае, пока.
- Хорошо, я вас понял. Я возьму всё в свои руки, - сказал Октав.
Родмахер бледно улыбнулся, поставил склянку с таблетками на кофейный столик и начал покачивать ботинком, словно отсчитывая секунды:
- И еще кое-что, Гершель… Ты знаешь, что у гауляйтера есть младший сын, Рудольф фон Штакельберг?
- Знаю, и мне это очень не нравится.
- Да, конечно, - усмехнулся Родмахер. – Ты хотел бы, чтобы немцы тоже не могли размножаться. Но именно об этом я и собираюсь с тобой поговорить.
Октав заинтересованно прищурился, склонив голову набок.
- Дело в том, что Рудольф неженат, раз в месяц посещает "Лебенсборн" и теперь ищет нового дилера, потому что старый отбыл в концлагерь, - спокойным тоном объяснил Родмахер. – Рудольф предпочитает максимально чистый кокс, быстрое обслуживание и доставку на дом. К дилерам-евреям относится положительно. Считает, что именно для этого евреи и созданы. Как видишь, он впитал в себя нацистский миф про отравление колодцев, но трактует его совсем не так, как хотели бы его учителя.
Октав маслянисто блеснул глазами, и его губы растянулись в злорадной улыбке:
- Понимаю. Мажору нужен надежный поставщик, который подложит ему свинью. У меня есть несколько кандидатур.
Родмахер довольно засмеялся:
- Нет, Гершель, ты меня не понял. Я уже решил, что этим поставщиком станешь ты.
Октав замер с сигаретой в руке, и столбик пепла осыпался ему на колено. Дело, которое и без того было мутным, принимало странный оборот. Родмахер доверительно взял Октава за запястье, направляя сигарету к пепельнице.
- Это не отнимет много времени. Будешь приезжать к нему раз в неделю, обычно Рудольф нюхает по субботам, - сказал он с теплой улыбкой. – Конечно, тебе не по статусу таким заниматься, но я не могу поручить это задание дураку, который провалит всё в первый же день. Видишь таблетки?
Собравшись с мыслями, Октав выбросил тлеющий окурок в пепельницу и поднес к лицу аптечную склянку, которая всё это время стояла на кофейном столике. Никаких этикеток на ней не оказалось.
- Талидомид. Два года назад его перевели на строгий учет. У них, видишь ли, младенцы после него уродами рождались. С культями вместо рук и деформированными глазными яблоками, - усмехнулся Родмахер. – В семье гауляйтера такого не случалось ни разу, но теперь случится.
Октав хмуро уставился на склянку талидомида, которая неприятно холодила ладонь. Намек Родмахера был прозрачен донельзя, однако в плане, который он только что кратко изложил, был серьезный, заметный при первом же осмыслении изъян.
- Через девять месяцев дети начнут рождаться, и Рудольф догадается, что его травлю я, - произнес Октав.
Родмахер улыбнулся, горделиво вскинув подбородок:
- Не волнуйся, Гершель. Послезавтра у тебя появится запасной паспорт. Если начнутся неприятности, то француз с немецкими корнями сможет без проблем покинуть Германию.
"Во что ты меня втягиваешь, падла?" - подумал Октав. Щедрость Родмахера вызывала подозрения сама по себе, а теперь, когда выяснились подробности, в плане начал проглядывать политический заказ.
До него и раньше доходили слухи, что семья Кляйн возникла не без помощи спецслужб, однако теперь он готов был в них поверить. Разрушенная репутация одного из гауляйтерских сыновей слабо тянула на месть арийской расе, зато могла испортить политическую карьеру гауляйтеру фон Штакельбергу, который занимал этот пост уже больше десяти лет. Высказывать свои сомнения Октав не стал. Ему не хотелось умереть от передозировки в дешевом мотеле, как это, возможно, произошло с несговорчивым Йосси.
- Они должны понять, каково это – быть в нашей шкуре. Они виновны в том, что произошло. Все без исключения, - вкрадчиво произнес Родмахер, наклонившись Октаву. – Если ты боишься за себя, то подумай о том, что произошло с твоей бабушкой. Вряд ли она, зная, что её ждет, пожалела бы эсэсовца. Даже такого бесполезного, как Рудольф.
Октав криво улыбнулся. Он был не настолько слепым фанатиком, чтобы клюнуть на пространные рассуждения о мести, а если бы был им, то предложил бы отравить не родственника важной политической фигуры, а берлинскую систему водоснабжения, чтобы счет убитых сравнялся. Но Родмахер, некогда бывший идейным отравителем немцев, а теперь ставший их прикормленным псом, вряд ли оценил бы эту идею.
Спрятав склянку талидомида в карман пиджака, Октав невозмутимо произнес:
- По рукам. Мне нужен паспорт на имя Йозефа Рихтера.
Рудольф фон Штакельберг оказался надменным и недалеким. К Октаву он относился с дружеским презрением, видя в нем всего лишь забавного мишлинга, сошедшего с нацистских карикатур, и бесстрашно нюхал всё, что Октав привозил в его квартиру возле Унтер-ден-Линден. Сам того не зная, Рудольф плодил дефективных немецких детей, первый из которых должен бы появиться на свет в марте 1969 года. Октав тоже не терял время зря. Презирая Родмахера за алчность, он поддерживал с ним хорошие отношения и, стараясь не привлекать внимания, практиковался в стрельбе.
Когда Рудольф, готовясь к командировке в Паульмунд, начал расспрашивать его о лагерных порядках и надзирателях, Октав решил умолчать о том, что штурмманн Страшко был причастен к исчезновению гитлерюнге: если тот до сих пор был жив и находился на свободе, то явно продолжал свое темное дело, и выдавать его Октаву не хотелось.
Если бы в планы Октава не вмешался инспектор Нейдорф, то всё закончилось бы в марте.
"Ничего не поделаешь. Раз уж всё сложилось именно так, то надо действовать", - хладнокровно подумал Октав, сидя на скамье электрички, которая теперь была наполовину забита сидящими пассажирами.
Ландшафт за окном тронулся, оставляя позади станцию "Хиршгартен". Вытянувшись, как струна, Октав устремил тяжелый взгляд на дверь с круглым окошком, которая вела в тамбур. Ползли по окнам тени фонарных столбов, монотонно стучали колеса. Дверь скрипнула, плавно открылась, и в вагон вошел Хайни – гладко выбритый, розовощекий, в новом коричневом плаще. Октав впился в Хайни помертвевшими глазами. Мир застыл, превратившись в хрупкую музейную диораму. Октав остро почувствовал, как остается позади берлинский отрезок жизни.
Поймав его взгляд, Хайни снисходительно улыбнулся уголками рта и, поправив небрежным движением руки светлые волосы, решительно зашагал в конец вагона. Октав напрягся, как готовая разжаться пружина. Бешено колотилось об ребра сердце, заглушая стук колес и тихие разговоры пассажиров. Сверкнуло на металлическом поручне солнце, Хайни прошел мимо гитлерюнге, который увлеченно читал комикс про Уберменша. Октав не выдержал. Вскочив на ноги, он выхватил из кармана автоматический пистолет и трижды выстрелил Хайни в грудь.
Запахло порохом. Хайни рухнул навзничь. Со своего места Октав видел, как пропитывается кровью коричневое сукно плаща, как под мертвым Хайни расплывается вишнево-красная лужа, как подергивается в квадрате бледного света ослабшая кисть. Октав ощутил всем своим существом, как пронзают звенящую тишину ошарашенные взгляды, как они липнут к его семитскому лицу, изуродованному животным оскалом.
- Меня зовут Гершель Либерман! – с яростью выкрикнул Октав. Маниакально сверкнув смолисто-черными глазами, он вскинул руку с никелированной "россомахой" и открыл огонь по пассажирам.
Истошные человеческие вопли слились в невыносимый атональный вой, похоронив под собой надрывные хлопки выстрелов. Скаля желтоватые зубы, Октав методично жал на спусковой крючок, и каждое шевеление пестрой людской массы перед тамбуром, каждый алый всплеск, расцветающий на пшенично-золотистом затылке, отдавался в его сердце сокрушительной радостью. Всё было не зря. Всё шло к тому, чтобы он оказался именно сегодня, именно здесь. Жизнь не прошла впустую.
Что-то ударило Октава по ребрам, обдав его тяжелой волной жара. В глазах потемнело, обмякшая рука выронила пистолет. Падая назад, Октав долго не мог сообразить, что произошло. Опрокидывался вагон, сверкал бледной искрой металлический поручень, сливались в одну призрачную линию потолочные лампы. Когда Октав ударился затылком об пол, он был уже мертв.
Поблескивала никелем "россомаха", валялась под мятно-голубой скамьей черная шляпа. За стеклами черепаховых очков наливались стеклянной пустотой янтарно-карие глаза, из-под лацкана пиджака выползало на белизну рубашки багровое пятно, а в заостренном мыске ботинка лилейно отражалось солнце. Затоптанный труп Хайни истекал кровью. Испачканный грязью "Штюрмер" с карикатурой на еврейского совратителя валялся под ногами убитого бюргера. Беременная немка с простреленной головой лежала в проходе, раскинув в стороны руки. Чуть далее прижимался лбом к полу гитлерюнге, прошитый пулей, а у выхода в тамбур трепыхалась умирающая груда – трое молодых рабочих, которым не повезло оказаться последними. Мерцали осколки стекла, загустевали дорожки кровавых капель, оставленные сбежавшими пассажирами, высыхали багровые, смазанные следы обуви.
В углу тамбура, сжимая в руках "вальтер", дышал сквозь стиснутые зубы Георг Шильд – агент гестапо, который уже несколько дней следил за Октавом Леопольдом Гаже, а сегодня, незамеченный, приехал вслед за ним на Восточный вокзал. Догадки подтвердились: Гаже, который знал слишком много, вступил в контакт с крипо, однако оказался не только стукачом, но и безумцем.
Шильд поступил так, как на его месте поступил бы любой немецкий патриот. Как только освободился обзор, он нейтрализовал Гаже и теперь думал, как покинуть движущуюся электричку, пока не появились представители конкурирующего ведомства, которые начнут задавать вопросы. Сунув "вальтер" в карман плаща, Шильд надвинул на глаза кепку-восьмиклинку и бегом устремился в первый вагон, чтобы слиться с толпой выживших пассажиров. Синяя стрела электрички, следуя установленному маршруту, увозила восемь холодеющих трупов в сторону Эркнера.
Октав криво улыбнулся. Он был не настолько слепым фанатиком, чтобы клюнуть на пространные рассуждения о мести, а если бы был им, то предложил бы отравить не родственника важной политической фигуры, а берлинскую систему водоснабжения, чтобы счет убитых сравнялся. Но Родмахер, некогда бывший идейным отравителем немцев, а теперь ставший их прикормленным псом, вряд ли оценил бы эту идею.
Спрятав склянку талидомида в карман пиджака, Октав невозмутимо произнес:
- По рукам. Мне нужен паспорт на имя Йозефа Рихтера.
Рудольф фон Штакельберг оказался надменным и недалеким. К Октаву он относился с дружеским презрением, видя в нем всего лишь забавного мишлинга, сошедшего с нацистских карикатур, и бесстрашно нюхал всё, что Октав привозил в его квартиру возле Унтер-ден-Линден. Сам того не зная, Рудольф плодил дефективных немецких детей, первый из которых должен бы появиться на свет в марте 1969 года. Октав тоже не терял время зря. Презирая Родмахера за алчность, он поддерживал с ним хорошие отношения и, стараясь не привлекать внимания, практиковался в стрельбе.
Когда Рудольф, готовясь к командировке в Паульмунд, начал расспрашивать его о лагерных порядках и надзирателях, Октав решил умолчать о том, что штурмманн Страшко был причастен к исчезновению гитлерюнге: если тот до сих пор был жив и находился на свободе, то явно продолжал свое темное дело, и выдавать его Октаву не хотелось.
Если бы в планы Октава не вмешался инспектор Нейдорф, то всё закончилось бы в марте.
"Ничего не поделаешь. Раз уж всё сложилось именно так, то надо действовать", - хладнокровно подумал Октав, сидя на скамье электрички, которая теперь была наполовину забита сидящими пассажирами.
Ландшафт за окном тронулся, оставляя позади станцию "Хиршгартен". Вытянувшись, как струна, Октав устремил тяжелый взгляд на дверь с круглым окошком, которая вела в тамбур. Ползли по окнам тени фонарных столбов, монотонно стучали колеса. Дверь скрипнула, плавно открылась, и в вагон вошел Хайни – гладко выбритый, розовощекий, в новом коричневом плаще. Октав впился в Хайни помертвевшими глазами. Мир застыл, превратившись в хрупкую музейную диораму. Октав остро почувствовал, как остается позади берлинский отрезок жизни.
Поймав его взгляд, Хайни снисходительно улыбнулся уголками рта и, поправив небрежным движением руки светлые волосы, решительно зашагал в конец вагона. Октав напрягся, как готовая разжаться пружина. Бешено колотилось об ребра сердце, заглушая стук колес и тихие разговоры пассажиров. Сверкнуло на металлическом поручне солнце, Хайни прошел мимо гитлерюнге, который увлеченно читал комикс про Уберменша. Октав не выдержал. Вскочив на ноги, он выхватил из кармана автоматический пистолет и трижды выстрелил Хайни в грудь.
Запахло порохом. Хайни рухнул навзничь. Со своего места Октав видел, как пропитывается кровью коричневое сукно плаща, как под мертвым Хайни расплывается вишнево-красная лужа, как подергивается в квадрате бледного света ослабшая кисть. Октав ощутил всем своим существом, как пронзают звенящую тишину ошарашенные взгляды, как они липнут к его семитскому лицу, изуродованному животным оскалом.
- Меня зовут Гершель Либерман! – с яростью выкрикнул Октав. Маниакально сверкнув смолисто-черными глазами, он вскинул руку с никелированной "россомахой" и открыл огонь по пассажирам.
Истошные человеческие вопли слились в невыносимый атональный вой, похоронив под собой надрывные хлопки выстрелов. Скаля желтоватые зубы, Октав методично жал на спусковой крючок, и каждое шевеление пестрой людской массы перед тамбуром, каждый алый всплеск, расцветающий на пшенично-золотистом затылке, отдавался в его сердце сокрушительной радостью. Всё было не зря. Всё шло к тому, чтобы он оказался именно сегодня, именно здесь. Жизнь не прошла впустую.
Что-то ударило Октава по ребрам, обдав его тяжелой волной жара. В глазах потемнело, обмякшая рука выронила пистолет. Падая назад, Октав долго не мог сообразить, что произошло. Опрокидывался вагон, сверкал бледной искрой металлический поручень, сливались в одну призрачную линию потолочные лампы. Когда Октав ударился затылком об пол, он был уже мертв.
Поблескивала никелем "россомаха", валялась под мятно-голубой скамьей черная шляпа. За стеклами черепаховых очков наливались стеклянной пустотой янтарно-карие глаза, из-под лацкана пиджака выползало на белизну рубашки багровое пятно, а в заостренном мыске ботинка лилейно отражалось солнце. Затоптанный труп Хайни истекал кровью. Испачканный грязью "Штюрмер" с карикатурой на еврейского совратителя валялся под ногами убитого бюргера. Беременная немка с простреленной головой лежала в проходе, раскинув в стороны руки. Чуть далее прижимался лбом к полу гитлерюнге, прошитый пулей, а у выхода в тамбур трепыхалась умирающая груда – трое молодых рабочих, которым не повезло оказаться последними. Мерцали осколки стекла, загустевали дорожки кровавых капель, оставленные сбежавшими пассажирами, высыхали багровые, смазанные следы обуви.
В углу тамбура, сжимая в руках "вальтер", дышал сквозь стиснутые зубы Георг Шильд – агент гестапо, который уже несколько дней следил за Октавом Леопольдом Гаже, а сегодня, незамеченный, приехал вслед за ним на Восточный вокзал. Догадки подтвердились: Гаже, который знал слишком много, вступил в контакт с крипо, однако оказался не только стукачом, но и безумцем.
Шильд поступил так, как на его месте поступил бы любой немецкий патриот. Как только освободился обзор, он нейтрализовал Гаже и теперь думал, как покинуть движущуюся электричку, пока не появились представители конкурирующего ведомства, которые начнут задавать вопросы. Сунув "вальтер" в карман плаща, Шильд надвинул на глаза кепку-восьмиклинку и бегом устремился в первый вагон, чтобы слиться с толпой выживших пассажиров. Синяя стрела электрички, следуя установленному маршруту, увозила восемь холодеющих трупов в сторону Эркнера.
Глава 9
Лесополоса
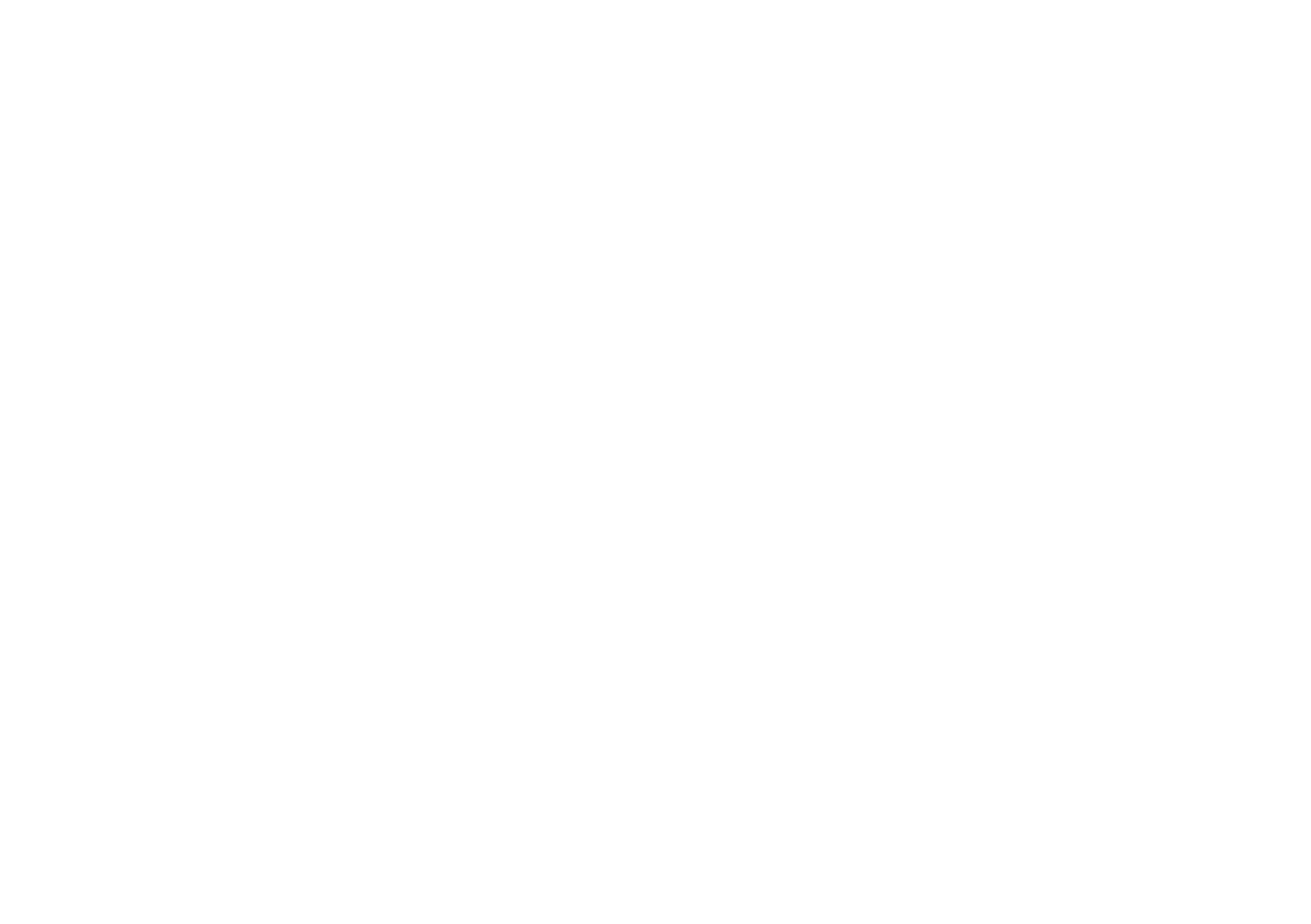
2020 год, июнь
- Маленькая страна, маленькая страна…
Печальные звуки музыки разносились по ночному воздуху, подернутому мутью помех, и смешивались с протяжным скрипом качелей. Панельные девятиэтажки глядели на детскую площадку черными провалами окон, из темноты творожисто-белым пятном проступал ларек сапожника, а чуть поодаль, указывая мятым жестяным шпилем на звездное небо, возвышался пестрый каркас двухъярусной горки. На облупившихся качелях понуро раскачивалась, отталкиваясь от земли мыском грязной кроссовки, одиннадцатилетняя Даша Фомина – вещественная, теплая, окруженная синюшной мглой. На потертых джинсах скалилась нашивка в виде черепа, из закатанных рукавов клетчатой рубашки торчали хрупкие руки, апатично держащиеся за ржавые цепи качелей, а в стеклах очков медленно плавали крупицы лунного света. Даша не слышала музыку, не видела черную "ладу", уткнувшуюся носом в высокие волны бурьяна возле дороги, не замечала, что у неё за спиной, возле границы детской площадки, обозначенной пестрыми дугами покрышек, уже не первую минуту стоит и нервно поправляет медицинские перчатки Алина Емельяновна.
"Если бы Фишер был девочкой, он так бы и выглядел", - подумала она, не отрывая от Даши пристального взгляда.
Запустив руку в карман широких брюк, она ощупью отыскала там кусок бельевой веревки. В прищуренных глазах Алина Емельяновны вспыхнул дымчато-синий огонь, и зыбкий силуэт Даши дрогнул, лишившись теплоты красок. Та недоуменно повела головой, будто жеребенок – перед ней простирался знакомый, но заметно поблекший ландшафт: мертвенно-синее небо с молочным осколком луны и гвоздиками звезд, безлюдный двор, затянутый зернистой пеленой, и искореженная временем горка, похожая на цирковой балаган. Поскрипывали качели, сухо шелестела сорная трава. Приглушенно играла старомодная синтезаторная музыка.
- Ты почему не дома, Даша? Тебе разве не говорили, что в городе появился маньяк? – вкрадчиво спросила Алина Емельяновна, сдерживая улыбку.
Вскочив с качелей, Даша растерянно повернулась на звук, однако тут же замерла с исказившимся лицом. Алина Емельяновна ощерила зубы. Цианозно-синее свечение её нечеловеческих глаз размытыми отблесками падало на гнутые металлические прутья, крохотными искрами отражалось в стеклах Дашиных очков. Опустив взгляд, Даша приоткрыла рот – она заметила в руках Алины Емельяновны бельевую веревку.
- Вы чего?.. – срывающимся голосом пробормотала она и опасливо шагнула назад.
Алина Емельяновна резко перескочила через покрышки, обсыпанные шелухой краски. Даша уже готовилась сорваться с места, но Алина Емельяновна схватила её за волосы и ударила головой об стойку качелей. Загудело железо, глухо вскрикнул ребенок, упали на пыльную землю очки. Алина Емельяновна снова ударила Дашу головой об стойку, и по перекошенному детскому лицу заструилась из носа темная, как гранатовый сок, кровь. Злобно оскалившись, Алина Емельяновна с силой швырнула Дашу на землю. Та ударилась лбом об бетонную опору качелей, торчащую из земли, слабо простонала и вцепилась ослабшими пальцами в бурую почву. Треснувшие очки поблескивали под лунным светом, будто алмазная россыпь.
Сосредоточенно нахмурившись, Алина Емельяновна уселась на Дашу, придавила оглушенное туловище к земле и стала связывать ей руки за спиной. Она чувствовала, как под мешковатой рубашкой сползает по плечу лямка бюстгальтера, но решила не отвлекаться – ситуация складывалась тревожная. Еще днем, когда Алина Емельяновна кормила кроликов, в крольчатник явился смертельно прекрасный Максим Пряников и, стряхивая с похоронного костюма несуществующую пыль, потребовал, чтобы Даша Фомина погибла при определенных обстоятельствах: около полуночи, в березовой роще возле железнодорожного переезда. Выбор времени и места наводил на тягостные мысли, однако права голоса у Алины Емельяновны больше не было. Приказ Матери Душегубов обсуждению не подлежал.
Даша шевельнулась, понемногу приходя в себя, и застонала от боли в перетянутых запястьях. Алина Емельяновна сдула с лица темную прядь волос и вынула из кармана брюк еще один кусок веревки.
- Не волнуйся. Скоро мы приедем в одно место, и всё будет как раньше, - пробормотала Алина Емельяновна, успокаивая то ли жертву, то ли себя.
- Маленькая страна, маленькая страна…
Печальные звуки музыки разносились по ночному воздуху, подернутому мутью помех, и смешивались с протяжным скрипом качелей. Панельные девятиэтажки глядели на детскую площадку черными провалами окон, из темноты творожисто-белым пятном проступал ларек сапожника, а чуть поодаль, указывая мятым жестяным шпилем на звездное небо, возвышался пестрый каркас двухъярусной горки. На облупившихся качелях понуро раскачивалась, отталкиваясь от земли мыском грязной кроссовки, одиннадцатилетняя Даша Фомина – вещественная, теплая, окруженная синюшной мглой. На потертых джинсах скалилась нашивка в виде черепа, из закатанных рукавов клетчатой рубашки торчали хрупкие руки, апатично держащиеся за ржавые цепи качелей, а в стеклах очков медленно плавали крупицы лунного света. Даша не слышала музыку, не видела черную "ладу", уткнувшуюся носом в высокие волны бурьяна возле дороги, не замечала, что у неё за спиной, возле границы детской площадки, обозначенной пестрыми дугами покрышек, уже не первую минуту стоит и нервно поправляет медицинские перчатки Алина Емельяновна.
"Если бы Фишер был девочкой, он так бы и выглядел", - подумала она, не отрывая от Даши пристального взгляда.
Запустив руку в карман широких брюк, она ощупью отыскала там кусок бельевой веревки. В прищуренных глазах Алина Емельяновны вспыхнул дымчато-синий огонь, и зыбкий силуэт Даши дрогнул, лишившись теплоты красок. Та недоуменно повела головой, будто жеребенок – перед ней простирался знакомый, но заметно поблекший ландшафт: мертвенно-синее небо с молочным осколком луны и гвоздиками звезд, безлюдный двор, затянутый зернистой пеленой, и искореженная временем горка, похожая на цирковой балаган. Поскрипывали качели, сухо шелестела сорная трава. Приглушенно играла старомодная синтезаторная музыка.
- Ты почему не дома, Даша? Тебе разве не говорили, что в городе появился маньяк? – вкрадчиво спросила Алина Емельяновна, сдерживая улыбку.
Вскочив с качелей, Даша растерянно повернулась на звук, однако тут же замерла с исказившимся лицом. Алина Емельяновна ощерила зубы. Цианозно-синее свечение её нечеловеческих глаз размытыми отблесками падало на гнутые металлические прутья, крохотными искрами отражалось в стеклах Дашиных очков. Опустив взгляд, Даша приоткрыла рот – она заметила в руках Алины Емельяновны бельевую веревку.
- Вы чего?.. – срывающимся голосом пробормотала она и опасливо шагнула назад.
Алина Емельяновна резко перескочила через покрышки, обсыпанные шелухой краски. Даша уже готовилась сорваться с места, но Алина Емельяновна схватила её за волосы и ударила головой об стойку качелей. Загудело железо, глухо вскрикнул ребенок, упали на пыльную землю очки. Алина Емельяновна снова ударила Дашу головой об стойку, и по перекошенному детскому лицу заструилась из носа темная, как гранатовый сок, кровь. Злобно оскалившись, Алина Емельяновна с силой швырнула Дашу на землю. Та ударилась лбом об бетонную опору качелей, торчащую из земли, слабо простонала и вцепилась ослабшими пальцами в бурую почву. Треснувшие очки поблескивали под лунным светом, будто алмазная россыпь.
Сосредоточенно нахмурившись, Алина Емельяновна уселась на Дашу, придавила оглушенное туловище к земле и стала связывать ей руки за спиной. Она чувствовала, как под мешковатой рубашкой сползает по плечу лямка бюстгальтера, но решила не отвлекаться – ситуация складывалась тревожная. Еще днем, когда Алина Емельяновна кормила кроликов, в крольчатник явился смертельно прекрасный Максим Пряников и, стряхивая с похоронного костюма несуществующую пыль, потребовал, чтобы Даша Фомина погибла при определенных обстоятельствах: около полуночи, в березовой роще возле железнодорожного переезда. Выбор времени и места наводил на тягостные мысли, однако права голоса у Алины Емельяновны больше не было. Приказ Матери Душегубов обсуждению не подлежал.
Даша шевельнулась, понемногу приходя в себя, и застонала от боли в перетянутых запястьях. Алина Емельяновна сдула с лица темную прядь волос и вынула из кармана брюк еще один кусок веревки.
- Не волнуйся. Скоро мы приедем в одно место, и всё будет как раньше, - пробормотала Алина Емельяновна, успокаивая то ли жертву, то ли себя.
Фишер с неохотой выныривал из сна, слабо ощущая затекшие руки. Он щурился и сонно помаргивал, вглядываясь близорукими глазами в сизую тьму, пока в памяти у него проносились фрагменты вчерашнего дня: как Неля внезапно пришла к нему в гости, оправдав это праздником – Днем защиты детей, как она из-за ливня решила заночевать у него, как перед сном он выдал ей вместо ночнушки футболку Joy Division… Вновь провалившись в дрему, Фишер поймал себя на том, что испытывает неестественное внутреннее спокойствие. Туловище практически не чувствовалось, будто превратилось в полую конструкцию, а под веками, в серой шевелящейся тьме расцветали желтые кольца. Что-то было не так, но Фишер не мог испугаться. Приложив усилие, он открыл глаза и сразу же отстраненно об этом пожалел.
Ливень, судя по тишине, уже закончился. В голубоватом мраке терялись углы незнакомой, практически пустой комнаты, чьи грязные стены были покрыты пятнами сырости и треснувшей скорлупой штукатурки. На дощатом полу, усыпанном песком и сухими листьями, источал призрачно-белый свет туристический фонарь – похожим Фишер пользовался, если уходил на ночь в лес. Переведя взгляд чуть в сторону, Фишер увидел сквозь залапанные линзы очков собственные ноги в мешковатых пижамных штанах: теряясь под складками ткани в бело-синюю полоску, они тесно прижимались друг к другу и тянулись в полутьму, оканчиваясь бледными пятнами ступней. Ощутив притупленным сознанием, что в комнате зябко, Фишер пошевелился, однако ноги друг от друга не отделились. У Фишера перехватило дыхание. Он осознал, что его ноги связаны.
"Неля…" – запоздало догадался он.
Стряхнув с себя давящую волну бестелесности, Фишер понял, что его руки находятся где-то наверху. Запрокинув тяжелую голову, он стукнулся затылком об стену, совсем не ощутил боли и увидел деревянный подоконник, к которому прижимались его руки, туго связанные бельевой веревкой. Над подоконником нависала черная крестовина рамы, поблескивающая зубцами битого стекла. За ней сухо, по-стариковски шелестел белыми зонтиками борщевик.
Сдерживая зубовный стук, Фишер пошевелил руками, надеясь выломать раму, однако скрип дерева заставил его нервно уставиться в дальний угол комнаты. Приоткрылась дверь, на грязный пол лег скошенный конус лунного света, и в комнату, отбросив длинную тень, шагнул рослый, слегка одутловатый мужчина в черной балаклаве. В руке он держал еще один туристический фонарь, свет которого бледными потеками падал на его коричневую рубашку, заправленную в камуфляжные штаны, и блестящие от ваксы берцы. Механически обратив внимание на темный дверной проем по правую стену комнаты, Фишер сразу же о нем забыл. У него похолодело в солнечном сплетении. Он окончательно понял, в каком положении оказался. Мужчина притворил за собой дверь, подтолкнув её мыском берца, и замер на месте. Он молча оглядывал Фишера с головы до ног, его глаза тускло поблескивали зеленым, словно болотные огни. Фишер моргнул, прогоняя галлюцинацию, и заметил, что над коленом мужчины неаккуратным бугром топорщится карман.
- Кто вы такой? Что это за место? – хрипло спросил Фишер. Услышав в своем голосе дрожь, он нервно сглотнул.
Он понял, что Нели, которая так некстати у него заночевала, скорее всего, больше нет в живых. Он тягостно удивился тому, что Шерхан не залаял, почуяв чужака, и сразу же понял, что у него больше нет собаки.
Пока Фишер путался в панических мыслях, как в рыболовных сетях, мужчина молча его разглядывал, склонив голову набок. Немного помедлив, он прошел вглубь комнаты, и поставил второй фонарь напротив первого, осветив Фишера со всех сторон. Затем мужчина непринужденным движением стянул балаклаву, и Фишер, узнав его, замер с перекошенным ртом. Над ним, разглаживая толстыми пальцами светлые волосы, примятые балаклавой, возвышался Вадим Щукин: заметно обрюзгший, с ассиметричным, будто после инсульта, курносым лицом, нехорошо взбудораженный до блеска в глазах и лихорадочного румянца.
- Что, страшно? – спросил Щукин, кривя в улыбке обветренные губы.
- Не без этого, - через силу отшутился Фишер.
- Я вчера, когда из психушки сбежал, первым делом подумал именно о тебе, - произнес Щукин и лениво кинул балаклаву на пол. – Я и до этого все шесть лет, когда меня на вязки клали, думал: "Как поживает тот маниакальный еврейчик, который на меня донос написал?".
- Почему маниакальный?
- Об этом ты мне сам расскажешь. Очень скоро.
- Ты как… ко мне во двор попал? Ты убил моего пса? – опасливо спросил Фишер, пытаясь звучать мужественно.
- С божьей помощью. Мы русские, с нами бог, - ухмыльнулся Щукин.
Фишер подавленно уставился перед собой. Его затрясло от гнетущего, безжалостного осознания. Он понял, что больше никогда не выпустит Шерхана побегать по огороду, больше никогда не получит от Нерона в подарок мертвую мышь, больше никогда не вернется в дом, где он провел большую часть своей жизни.
Тень Щукина черной кляксой скользнула по стене. Проскрипев половицами, он деловито уселся Фишеру на ноги. Тот поморщился от боли в коленях, придавленных чужим весом, но возражать не рискнул. Щукин неспешно закатал рукава рубашки, оголив землистое от синяков предплечье с портретом Гиммлера, и Фишера передернуло. Поймав его обеспокоенный взгляд, Щукин загадочно улыбнулся.
- Пижама у тебя отличная. Рад, что мы с тобой на одной волне, - со смешком произнес он и вынул из кармана штанов массивный складной нож с черной рукоятью.
Лезвие сухо щелкнуло перед лицом Фишера, заставив его вздрогнуть. Разглядев на клинке готические буквы, образующие эсэсовский девиз, Фишер оцепенел. Впервые за несколько лет он пожалел, что купил в свое время пижаму, расцветка которой могла натолкнуть ксенофоба Щукина на опасные мысли.
- Помогите! – завопил Фишер с такой силой, что у него зазвенело в ушах.
Лицо Щукина искривилось в мучительной, болезненно-плаксивой гримасе. Встрепенувшись, он яростно вонзил нож в дощатый пол, рванулся вперед и крепко зажал Фишеру рот ладонью, вдавив его затылком в шершавую стену. Игнорируя запах лука, Фишер резко обвел комнату распахнувшимися глазами и встретился взглядом с оскалившимся Щукиным.
- Не ори. Тебя всё равно никто не услышит, мы на заброшенных дачах, - процедил тот сквозь зубы. – А вот я после лечения очень плохо реагирую на громкие звуки. У меня от них голова болит. И я из-за этого злюсь. Ясно тебе, блядская тварь?
Фишер испуганно моргнул. Щукин убрал ладонь, занял прежнее положение, вновь придавив Фишеру затекшие ноги, и с сожалением вздохнул. Подобрав с пола балаклаву, испачканную песком и крупицами сухих листьев, Щукин смял её в кулаке и, нахмурившись, продемонстрировал Фишеру. Намек был прозрачен донельзя. Пытаясь успокоиться, Фишер сделал глубокий вдох, однако это не помогло – у него застучали зубы.
- Не волнуйся насчет кетамина, тебя скоро отпустит. В ветклинике дозировки рассчитаны на собак, а ты весишь, как несколько собак, - сообщил Щукин и положил балаклаву рядом с ножом, торчащим из половицы. - Ты проснулся раньше времени и начал дергаться. Пришлось ширнуть тебя, чтобы у меня от твоего ора голова не раскололась.
- Я такого не помню.
- Ничего. Скоро вспомнишь, - сказал Щукин и достал из кармана штанов тронутые ржавчиной плоскогубцы.
- Моя бабушка была немкой с Поволжья. А дедушка полицаем… - растерянно пробормотал Фишер.
Плоскогубцы с тихим стуком коснулись пола, а Щукин поморщился, будто учуял вонь протухшего мяса:
- Жидовские гены, если они есть, неизбежно проявляются к тридцати годам и забивают любую нордическую примесь. Так что толку от твоей бабушки немного. Как и от дедушки-хохла. Да и вообще, я из-за тебя шесть провел в психшуке по политической статье. Думаешь, меня можно разжалобить немецкой бабушкой?
Беспомощно шевельнув связанными руками, Фишер ощерил зубы. Впервые с начала разговора к глубинному страху примешалось гнетущее, непреодолимое желание сдавить Щукину горло, чтобы на этот раз довести дело до конца. Однако вспышка гнева не осталась незамеченной – Щукин равнодушно, сохраняя самообладание, ударил Фишера кулаком по лицу. Простонав от резкой боли, пронзившей затылок, Фишер почувствовал, как из разбитого носа стекает на губы кровь, и протяжно шмыгнул, втягивая назад красноватые сопли.
- Сука ты, Евгений, - произнес Щукин со скучающим видом. – Твоя проблема даже не в том, что ты в оперчасть бегал, как к себе домой, а в том, что ты от рождения дегенерат. Я таких не люблю…
- Если ты убьешь меня, тебя рано или поздно арестуют, - прогнусавил Фишер, поежившись.
Щукин довольно усмехнулся:
- А с чего ты взял, что я собираюсь тебя убить? Я всего лишь хочу, чтобы ты честно признался в том, что шесть лет назад настучал на меня. Если сделаешь это, то уже утром вернешься домой. Живым. И даже с минимумом повреждений.
Фишер насторожился. Предложение звучало соблазнительно, однако верить Щукину не хотелось: сложно было сказать, что именно тот считал минимумом повреждений.
- Я был стукачом Сухарева, это правда. Но конкретно на тебя я никогда не стучал, - отважился солгать Фишер, добавив в свои слова немного честности. Почувствовав, как очки сползают по спинке носа, он запрокинул голову, чтобы их поправить.
Легко улыбнувшись, Щукин указательным пальцем вдавил очки Фишеру в переносицу:
- Заметь, я не обвиняю тебя в том, что ты пытался меня убить. Для вырожденцев вроде тебя это даже подвиг – убить кого-то голыми руками. Но я уверен, что донос, из-за которого меня перевели в дурку, написал именно ты. И если ты не хочешь признаваться по-хорошему, то ничего страшного. Мне так даже больше нравится.
Фишер стиснул зубы и судорожно вздохнул, в бессильной злобе сжав онемевшие кулаки. Заныло сердце, подкатил к горлу ком, в желудке заворочалась тошнота. Напряженно глядя то на Щукина, то на плоскогубцы и нож, тускло мерцающие в обескровленном свете фонаря, Фишер пытался отыскать в себе хотя бы отзвук кетаминового безразличия, однако, к своему сожалению, так и не смог ощутить себя пустым. Предсмертный ужас опутал его, будто липкая, удушливая паутина.
- Хочу, чтобы ты знал. Я следил за тобой целых два месяца, - глумливо продолжил Щукин. – И случайно узнал, какие бабы тебе нравятся, но не удивился. Было бы странно, если бы ты не оказался извращенцем. Это у вас в крови.
От осознания того, что может произойти, Фишер содрогнулся. Теперь от Щукина, который старательно изображал безумца, пересыпая свою речь несостыковками, точно не следовало ожидать ничего хорошего – каким бы ни был источник его догадок. Немели затекшие руки, вкрадчиво перешептывался за окном борщевик.
- И я сначала подумал, что пытать тебя будет непросто, - продолжил Щукин, внимательно разглядывая побелевшее лицо Фишера, - однако потом понял, что есть один способ, который тебе точно не понравится. Он никому не нравится.
- Какой? – боязливо поинтересовался Фишер.
Предвкушающе усмехнувшись, Щукин запустил руку в нагрудный карман рубашки, извлек оттуда что-то мелкое и продемонстрировал Фишеру, поднеся предмет к его разбитому носу. Фишер сфокусировал взгляд, и его бросило в холод. В мясистых пальцах Щукина, покрытых светлыми волосками, взблескивал потускневшим железом обойный гвоздь – с округлой шляпкой, тонкой ножкой и заостренным кончиком, похожим на иглу.
- Ты когда-нибудь занозу под ноготь загонял? – со смешком спросил Щукин.
Вмиг растеряв остатки злости, Фишер отчаянно замотал головой:
- Я не стучал на тебя. Мне такого не приказывали. Я никогда не стал бы…
- Правда, что ли?
Не скрывая испуга, Фишер так же отчаянно закивал.
- Неубедительно, жид. Ничего, сейчас ты мне всё расскажешь – хочешь ты этого или нет.
Фишер не мог выдавить из себя ни слова. Мелко задрожал подбородок, побелели костяшки на стиснутых кулаках, влажно блеснули угольно-черные глаза. Щукин сжал обойный гвоздь зубами, как сигарету, освободившейся рукой подобрал с пола балаклаву и, удрученно вздохнув, начал сминать её в тугой комок.
- Может, я просто…
Щукин схватил Фишера за подбородок и, не сдерживаясь, грубо затолкал ему в рот скомканную балаклаву. Фишер ощутил, как липнет к слизистым песок, и закашлялся от удушья – приглушенно, с клекотом, хрипя, как подстреленный олень.
- Если выплюнешь, я отрежу тебе палец. Понятно?
В том, что Щукин был на это способен, Фишер не сомневался. Молча кивнув, он собрался с духом, зажмурился и, насколько это было возможно, стиснул зубы. Эффект кетамина полностью сошел на нет, и Фишер отчетливо почувствовал, как Щукин крепко сдавил его большой палец, в котором тут же вспыхнула режущая боль. Широко распахнув глаза, Фишер беспомощно дернулся под весом Щукина и глухо завопил. Острие гвоздя зарылось глубже, выдавив из-под ногтя крупную каплю крови. Вновь закричав, Фишер измученно откинул голову назад и слезно взвыл – гвоздь вращался в ране, раздирая плоть. Фишера захлестнуло агонией, и ассиметричное лицо Щукина, похожее на кусок сырого теста, растворилось в непроглядной мгле.
- Не спать! – раздался яростный окрик, за ним последовала тяжелая оплеуха.
- Хватит… Мне больно… - прошептал Фишер. С трудом открыв глаза, он обессиленно уронил голову на грудь.
- В этом и смысл, жид, - сказал Щукин. Он сидел на ногах Фишера, держа в кулаке балаклаву, и внимательно, с жадным любопытством разглядывал его землистое лицо, на котором запекалась под носом кровь.
- Мне больно…
Схватив обмякшего Фишера за подбородок, Щукин силой задрал ему голову.
- Смотри, - хрипло приказал он. В голосе Щукина слышались нотки подавленного гнева.
Побоявшись сопротивляться, Фишер скосил наверх затуманенные глаза и увидел свою левую кисть, безвольно повисшую над витками веревки. Кисть мелко подрагивала, на коже загустевали извилистые багровые потеки, а из-под ногтя большого пальца торчала шляпка обойного гвоздя. Фишера передернуло, он жалостно всхлипнул. Шершавая стена гадко холодила ноющий затылок.
- Видишь? – так же хрипло спросил Щукин.
- Да, - ответил Фишер одними губами.
- Ты на меня донес? Ты это сделал, выблядок?
- Нет… - обреченно выдохнул Фишер и закрыл глаза. В груди у него потянуло холодом. Фишер надеялся, что теперь Щукин ему поверит.
- А тебе, я смотрю, понравилось… - осклабился тот. Запустив руку в нагрудный карман, он вынул оттуда еще один обойный гвоздь и мертвой хваткой вцепился в указательный палец Фишера.
Нарастающая боль заглушала связные мысли. Придавленный Щукиным, Фишер дергался, но не мог сдвинуться с места, он бился затылком об стену, но по-прежнему оставался в сознании, надрывно мычал, сдавливая балаклаву окровавленными зубами, однако Щукину этого было недостаточно. Жадно рассматривая заплаканное лицо Фишера, его стеклянные глаза, помутившиеся от ужаса, Щукин вращал гвоздь в ране и досадливо морщился, слыша приглушенный, но всё еще истошный вопль. Фишер терял сознание, обмякая всем туловищем, будто тряпичная кукла, но после удара по лицу вынужденно приходил в себя. Когда Щукин достал из кармана третий гвоздь, Фишер разрыдался в голос и судорожно закивал.
Оживившись, Щукин расплылся в широкой улыбке. Вернув обойный гвоздь в карман, он выдернул изо рта Фишера намокшую от слюны балаклаву и замер в ожидании. Острая спица лунного света, пробивающаяся через закрытую входную дверь, стелилась по грязным половицам и сливалась с ледянисто-белым свечением туристических фонарей. Фишер жался к стене и содрогался от плача. На его левой кисти, мерцая истертыми шляпками, торчали из-под ногтей три обойных гвоздя. По запястью тянулись вниз ручейки засыхающей крови: она пропитывала тугие витки веревки и багровыми пятнами расползалась по обшлагу полосатой пижамы.
- Это был я… - выдавил Фишер, давясь плачем и слепо глядя перед собой. – Отпусти меня, пожалуйста… Ты обещал…
- Ну и зачем ты это сделал? – мрачно спросил Щукин.
- Сухарев сказал, чтобы я…
Оскалившись, Щукин резко схватил его обеими руками за горло и сдавил изо всех сил. Фишер вытаращил глаза и надсадно захрипел, его землистое лицо побагровело от удушья. Он дергался, тщетно хватая ртом воздух, а в линзах его очков бешено метались мертвенно-бледные искры.
- Если бы ты отказался писать этот донос, то всего лишь провел бы две недели в шизо! Но ты решил обвинить меня в том, чего я никогда при тебе не делал! – сорвался Щукин на гневный вопль.
Хрип Фишера превратился в тихий клекот, темные глаза закатились под отяжелевшие веки, оставив на виду лишь полумесяцы белков. Опомнившись, Щукин отнял подрагивающие руки. Фишер привалился к стене, отчаянно глотая воздух. В ушах гудело, он плохо понимал, что именно у него болит.
"Так это и происходит", - отрешенно подумал он.
Вскочив на ноги, Щукин выхватил из половицы нож и замахнулся для удара. Фишер слабо вскрикнул, однако нож, описав крутую дугу, всего лишь перерезал веревку, которая удерживала его запястья около подоконника. Повалившись набок, Фишер впечатался туловищем в грязные доски. Щукин пнул его в живот и попал берцем по окровавленной кисти. Хрипло взвыв, Фишер прижал к груди связанные руки. Его губы бесконтрольно подрагивали, зубы стучали, как фарфор.
- Я действительно считаю, что малые народы России следовало уничтожить еще на этапе колонизации, - устало произнес Щукин. Сжав в руке нож, он ходил из стороны в сторону, половицы под ним жалобно поскрипывали. - Но тебе, блядь жидовская, я такого никогда не говорил! Жаль, что немецкая армия не дошла до Сибири. Они бы вас всех вычистили, как на Украине. Слышал про Бабий Яр?
- Слышал. В школе рассказывали, - выдавил Фишер, чувствуя во рту железистый привкус собственной крови. Он покосился на Щукина снизу вверх, с трудом сфокусировав на нем воспаленный взгляд.
- Гитлер ошибался, низко оценивая славян, однако насчет вас он не ошибся. Вы все больны и психически, и физически – ты именно поэтому без очков нихрена не видишь и на людей кидаешься, как собака, - не унимался Щукин. – Я уверен, что ты тогда не оборонялся, а намеренно человека зарезал, потому что тебе предоставилась такая возможность. Ты в этом, конечно, не виноват, ты не можешь себя контролировать. Но будущим поколениям твои бракованные гены не нужны.
- Он первый меня пырнул. У меня не было другого выхода, - осторожно возразил Фишер.
Поблескивая темными глазами, он внимательно наблюдал за Щукиным. Тот, погрузившись в размышления, ходил от одной стены к другой. Его берцы мелькали перед лицом Фишера, тяжело ступая по скрипящим половицам. Лезвие ножа в руке Щукина, отмеченное эсэсовским девизом, безжизненно отражало бледный, как кладбищенские лилии, свет.
- Другого ответа я от тебя не ожидал, - брезгливо поморщился Щукин. – Но я тебе не верю. Если бы ты знал, что со мной происходило шесть лет подряд, то вряд ли вел бы себя так нагло. Я ведь могу найти хороший подвал, чтобы держать тебя сутками привязанным к кровати, могу закалывать тебя препаратами, чтобы тебя крутило от судорог. Они говорили, что я шизофреник, что моя вменяемость…
Остро сверкнув почерневшими глазами, Фишер обеими руками схватил Щукина за щиколотку и, закричав от боли, дернул его на себя. Не удержавшись на ногах, Щукин повалился на пол. Громко хрустнула прогнившая доска, нож упал в призрачный круг света. Фишер дернулся всем телом в сторону Щукина, словно червяк, перекинул связанные руки через его голову и решительно потянул на себя, сдавливая веревкой беззащитное горло. Щукин захрипел и бешено задергался, хватая Фишера за израненые пальцы.
- Голова у тебя от шума болит, да?! – завопил Фишер ему в ухо, подтягивая Щукина к себе. – И сейчас болит, сука?!
Щукин конвульсивно содрогнулся, хрип стал глухим и прерывистым, как у забиваемого индюка. Погружаясь в жгучую боль, Фишер не давал Щукину вырваться и чувствовал, как щетина царапает ему большие пальцы, как бьется под разгоряченной кожей чужой кадык. Щукин слабел, мучительно удалясь всё дальше от жизни. Глаза Фишера сонливо осоловели, налились тяжелым нефтяным блеском.
- Теперь мне никто не помешает… - глухо произнес он на ухо умирающему Щукину. – Теперь ты никуда не уйдешь…
Ливень, судя по тишине, уже закончился. В голубоватом мраке терялись углы незнакомой, практически пустой комнаты, чьи грязные стены были покрыты пятнами сырости и треснувшей скорлупой штукатурки. На дощатом полу, усыпанном песком и сухими листьями, источал призрачно-белый свет туристический фонарь – похожим Фишер пользовался, если уходил на ночь в лес. Переведя взгляд чуть в сторону, Фишер увидел сквозь залапанные линзы очков собственные ноги в мешковатых пижамных штанах: теряясь под складками ткани в бело-синюю полоску, они тесно прижимались друг к другу и тянулись в полутьму, оканчиваясь бледными пятнами ступней. Ощутив притупленным сознанием, что в комнате зябко, Фишер пошевелился, однако ноги друг от друга не отделились. У Фишера перехватило дыхание. Он осознал, что его ноги связаны.
"Неля…" – запоздало догадался он.
Стряхнув с себя давящую волну бестелесности, Фишер понял, что его руки находятся где-то наверху. Запрокинув тяжелую голову, он стукнулся затылком об стену, совсем не ощутил боли и увидел деревянный подоконник, к которому прижимались его руки, туго связанные бельевой веревкой. Над подоконником нависала черная крестовина рамы, поблескивающая зубцами битого стекла. За ней сухо, по-стариковски шелестел белыми зонтиками борщевик.
Сдерживая зубовный стук, Фишер пошевелил руками, надеясь выломать раму, однако скрип дерева заставил его нервно уставиться в дальний угол комнаты. Приоткрылась дверь, на грязный пол лег скошенный конус лунного света, и в комнату, отбросив длинную тень, шагнул рослый, слегка одутловатый мужчина в черной балаклаве. В руке он держал еще один туристический фонарь, свет которого бледными потеками падал на его коричневую рубашку, заправленную в камуфляжные штаны, и блестящие от ваксы берцы. Механически обратив внимание на темный дверной проем по правую стену комнаты, Фишер сразу же о нем забыл. У него похолодело в солнечном сплетении. Он окончательно понял, в каком положении оказался. Мужчина притворил за собой дверь, подтолкнув её мыском берца, и замер на месте. Он молча оглядывал Фишера с головы до ног, его глаза тускло поблескивали зеленым, словно болотные огни. Фишер моргнул, прогоняя галлюцинацию, и заметил, что над коленом мужчины неаккуратным бугром топорщится карман.
- Кто вы такой? Что это за место? – хрипло спросил Фишер. Услышав в своем голосе дрожь, он нервно сглотнул.
Он понял, что Нели, которая так некстати у него заночевала, скорее всего, больше нет в живых. Он тягостно удивился тому, что Шерхан не залаял, почуяв чужака, и сразу же понял, что у него больше нет собаки.
Пока Фишер путался в панических мыслях, как в рыболовных сетях, мужчина молча его разглядывал, склонив голову набок. Немного помедлив, он прошел вглубь комнаты, и поставил второй фонарь напротив первого, осветив Фишера со всех сторон. Затем мужчина непринужденным движением стянул балаклаву, и Фишер, узнав его, замер с перекошенным ртом. Над ним, разглаживая толстыми пальцами светлые волосы, примятые балаклавой, возвышался Вадим Щукин: заметно обрюзгший, с ассиметричным, будто после инсульта, курносым лицом, нехорошо взбудораженный до блеска в глазах и лихорадочного румянца.
- Что, страшно? – спросил Щукин, кривя в улыбке обветренные губы.
- Не без этого, - через силу отшутился Фишер.
- Я вчера, когда из психушки сбежал, первым делом подумал именно о тебе, - произнес Щукин и лениво кинул балаклаву на пол. – Я и до этого все шесть лет, когда меня на вязки клали, думал: "Как поживает тот маниакальный еврейчик, который на меня донос написал?".
- Почему маниакальный?
- Об этом ты мне сам расскажешь. Очень скоро.
- Ты как… ко мне во двор попал? Ты убил моего пса? – опасливо спросил Фишер, пытаясь звучать мужественно.
- С божьей помощью. Мы русские, с нами бог, - ухмыльнулся Щукин.
Фишер подавленно уставился перед собой. Его затрясло от гнетущего, безжалостного осознания. Он понял, что больше никогда не выпустит Шерхана побегать по огороду, больше никогда не получит от Нерона в подарок мертвую мышь, больше никогда не вернется в дом, где он провел большую часть своей жизни.
Тень Щукина черной кляксой скользнула по стене. Проскрипев половицами, он деловито уселся Фишеру на ноги. Тот поморщился от боли в коленях, придавленных чужим весом, но возражать не рискнул. Щукин неспешно закатал рукава рубашки, оголив землистое от синяков предплечье с портретом Гиммлера, и Фишера передернуло. Поймав его обеспокоенный взгляд, Щукин загадочно улыбнулся.
- Пижама у тебя отличная. Рад, что мы с тобой на одной волне, - со смешком произнес он и вынул из кармана штанов массивный складной нож с черной рукоятью.
Лезвие сухо щелкнуло перед лицом Фишера, заставив его вздрогнуть. Разглядев на клинке готические буквы, образующие эсэсовский девиз, Фишер оцепенел. Впервые за несколько лет он пожалел, что купил в свое время пижаму, расцветка которой могла натолкнуть ксенофоба Щукина на опасные мысли.
- Помогите! – завопил Фишер с такой силой, что у него зазвенело в ушах.
Лицо Щукина искривилось в мучительной, болезненно-плаксивой гримасе. Встрепенувшись, он яростно вонзил нож в дощатый пол, рванулся вперед и крепко зажал Фишеру рот ладонью, вдавив его затылком в шершавую стену. Игнорируя запах лука, Фишер резко обвел комнату распахнувшимися глазами и встретился взглядом с оскалившимся Щукиным.
- Не ори. Тебя всё равно никто не услышит, мы на заброшенных дачах, - процедил тот сквозь зубы. – А вот я после лечения очень плохо реагирую на громкие звуки. У меня от них голова болит. И я из-за этого злюсь. Ясно тебе, блядская тварь?
Фишер испуганно моргнул. Щукин убрал ладонь, занял прежнее положение, вновь придавив Фишеру затекшие ноги, и с сожалением вздохнул. Подобрав с пола балаклаву, испачканную песком и крупицами сухих листьев, Щукин смял её в кулаке и, нахмурившись, продемонстрировал Фишеру. Намек был прозрачен донельзя. Пытаясь успокоиться, Фишер сделал глубокий вдох, однако это не помогло – у него застучали зубы.
- Не волнуйся насчет кетамина, тебя скоро отпустит. В ветклинике дозировки рассчитаны на собак, а ты весишь, как несколько собак, - сообщил Щукин и положил балаклаву рядом с ножом, торчащим из половицы. - Ты проснулся раньше времени и начал дергаться. Пришлось ширнуть тебя, чтобы у меня от твоего ора голова не раскололась.
- Я такого не помню.
- Ничего. Скоро вспомнишь, - сказал Щукин и достал из кармана штанов тронутые ржавчиной плоскогубцы.
- Моя бабушка была немкой с Поволжья. А дедушка полицаем… - растерянно пробормотал Фишер.
Плоскогубцы с тихим стуком коснулись пола, а Щукин поморщился, будто учуял вонь протухшего мяса:
- Жидовские гены, если они есть, неизбежно проявляются к тридцати годам и забивают любую нордическую примесь. Так что толку от твоей бабушки немного. Как и от дедушки-хохла. Да и вообще, я из-за тебя шесть провел в психшуке по политической статье. Думаешь, меня можно разжалобить немецкой бабушкой?
Беспомощно шевельнув связанными руками, Фишер ощерил зубы. Впервые с начала разговора к глубинному страху примешалось гнетущее, непреодолимое желание сдавить Щукину горло, чтобы на этот раз довести дело до конца. Однако вспышка гнева не осталась незамеченной – Щукин равнодушно, сохраняя самообладание, ударил Фишера кулаком по лицу. Простонав от резкой боли, пронзившей затылок, Фишер почувствовал, как из разбитого носа стекает на губы кровь, и протяжно шмыгнул, втягивая назад красноватые сопли.
- Сука ты, Евгений, - произнес Щукин со скучающим видом. – Твоя проблема даже не в том, что ты в оперчасть бегал, как к себе домой, а в том, что ты от рождения дегенерат. Я таких не люблю…
- Если ты убьешь меня, тебя рано или поздно арестуют, - прогнусавил Фишер, поежившись.
Щукин довольно усмехнулся:
- А с чего ты взял, что я собираюсь тебя убить? Я всего лишь хочу, чтобы ты честно признался в том, что шесть лет назад настучал на меня. Если сделаешь это, то уже утром вернешься домой. Живым. И даже с минимумом повреждений.
Фишер насторожился. Предложение звучало соблазнительно, однако верить Щукину не хотелось: сложно было сказать, что именно тот считал минимумом повреждений.
- Я был стукачом Сухарева, это правда. Но конкретно на тебя я никогда не стучал, - отважился солгать Фишер, добавив в свои слова немного честности. Почувствовав, как очки сползают по спинке носа, он запрокинул голову, чтобы их поправить.
Легко улыбнувшись, Щукин указательным пальцем вдавил очки Фишеру в переносицу:
- Заметь, я не обвиняю тебя в том, что ты пытался меня убить. Для вырожденцев вроде тебя это даже подвиг – убить кого-то голыми руками. Но я уверен, что донос, из-за которого меня перевели в дурку, написал именно ты. И если ты не хочешь признаваться по-хорошему, то ничего страшного. Мне так даже больше нравится.
Фишер стиснул зубы и судорожно вздохнул, в бессильной злобе сжав онемевшие кулаки. Заныло сердце, подкатил к горлу ком, в желудке заворочалась тошнота. Напряженно глядя то на Щукина, то на плоскогубцы и нож, тускло мерцающие в обескровленном свете фонаря, Фишер пытался отыскать в себе хотя бы отзвук кетаминового безразличия, однако, к своему сожалению, так и не смог ощутить себя пустым. Предсмертный ужас опутал его, будто липкая, удушливая паутина.
- Хочу, чтобы ты знал. Я следил за тобой целых два месяца, - глумливо продолжил Щукин. – И случайно узнал, какие бабы тебе нравятся, но не удивился. Было бы странно, если бы ты не оказался извращенцем. Это у вас в крови.
От осознания того, что может произойти, Фишер содрогнулся. Теперь от Щукина, который старательно изображал безумца, пересыпая свою речь несостыковками, точно не следовало ожидать ничего хорошего – каким бы ни был источник его догадок. Немели затекшие руки, вкрадчиво перешептывался за окном борщевик.
- И я сначала подумал, что пытать тебя будет непросто, - продолжил Щукин, внимательно разглядывая побелевшее лицо Фишера, - однако потом понял, что есть один способ, который тебе точно не понравится. Он никому не нравится.
- Какой? – боязливо поинтересовался Фишер.
Предвкушающе усмехнувшись, Щукин запустил руку в нагрудный карман рубашки, извлек оттуда что-то мелкое и продемонстрировал Фишеру, поднеся предмет к его разбитому носу. Фишер сфокусировал взгляд, и его бросило в холод. В мясистых пальцах Щукина, покрытых светлыми волосками, взблескивал потускневшим железом обойный гвоздь – с округлой шляпкой, тонкой ножкой и заостренным кончиком, похожим на иглу.
- Ты когда-нибудь занозу под ноготь загонял? – со смешком спросил Щукин.
Вмиг растеряв остатки злости, Фишер отчаянно замотал головой:
- Я не стучал на тебя. Мне такого не приказывали. Я никогда не стал бы…
- Правда, что ли?
Не скрывая испуга, Фишер так же отчаянно закивал.
- Неубедительно, жид. Ничего, сейчас ты мне всё расскажешь – хочешь ты этого или нет.
Фишер не мог выдавить из себя ни слова. Мелко задрожал подбородок, побелели костяшки на стиснутых кулаках, влажно блеснули угольно-черные глаза. Щукин сжал обойный гвоздь зубами, как сигарету, освободившейся рукой подобрал с пола балаклаву и, удрученно вздохнув, начал сминать её в тугой комок.
- Может, я просто…
Щукин схватил Фишера за подбородок и, не сдерживаясь, грубо затолкал ему в рот скомканную балаклаву. Фишер ощутил, как липнет к слизистым песок, и закашлялся от удушья – приглушенно, с клекотом, хрипя, как подстреленный олень.
- Если выплюнешь, я отрежу тебе палец. Понятно?
В том, что Щукин был на это способен, Фишер не сомневался. Молча кивнув, он собрался с духом, зажмурился и, насколько это было возможно, стиснул зубы. Эффект кетамина полностью сошел на нет, и Фишер отчетливо почувствовал, как Щукин крепко сдавил его большой палец, в котором тут же вспыхнула режущая боль. Широко распахнув глаза, Фишер беспомощно дернулся под весом Щукина и глухо завопил. Острие гвоздя зарылось глубже, выдавив из-под ногтя крупную каплю крови. Вновь закричав, Фишер измученно откинул голову назад и слезно взвыл – гвоздь вращался в ране, раздирая плоть. Фишера захлестнуло агонией, и ассиметричное лицо Щукина, похожее на кусок сырого теста, растворилось в непроглядной мгле.
- Не спать! – раздался яростный окрик, за ним последовала тяжелая оплеуха.
- Хватит… Мне больно… - прошептал Фишер. С трудом открыв глаза, он обессиленно уронил голову на грудь.
- В этом и смысл, жид, - сказал Щукин. Он сидел на ногах Фишера, держа в кулаке балаклаву, и внимательно, с жадным любопытством разглядывал его землистое лицо, на котором запекалась под носом кровь.
- Мне больно…
Схватив обмякшего Фишера за подбородок, Щукин силой задрал ему голову.
- Смотри, - хрипло приказал он. В голосе Щукина слышались нотки подавленного гнева.
Побоявшись сопротивляться, Фишер скосил наверх затуманенные глаза и увидел свою левую кисть, безвольно повисшую над витками веревки. Кисть мелко подрагивала, на коже загустевали извилистые багровые потеки, а из-под ногтя большого пальца торчала шляпка обойного гвоздя. Фишера передернуло, он жалостно всхлипнул. Шершавая стена гадко холодила ноющий затылок.
- Видишь? – так же хрипло спросил Щукин.
- Да, - ответил Фишер одними губами.
- Ты на меня донес? Ты это сделал, выблядок?
- Нет… - обреченно выдохнул Фишер и закрыл глаза. В груди у него потянуло холодом. Фишер надеялся, что теперь Щукин ему поверит.
- А тебе, я смотрю, понравилось… - осклабился тот. Запустив руку в нагрудный карман, он вынул оттуда еще один обойный гвоздь и мертвой хваткой вцепился в указательный палец Фишера.
Нарастающая боль заглушала связные мысли. Придавленный Щукиным, Фишер дергался, но не мог сдвинуться с места, он бился затылком об стену, но по-прежнему оставался в сознании, надрывно мычал, сдавливая балаклаву окровавленными зубами, однако Щукину этого было недостаточно. Жадно рассматривая заплаканное лицо Фишера, его стеклянные глаза, помутившиеся от ужаса, Щукин вращал гвоздь в ране и досадливо морщился, слыша приглушенный, но всё еще истошный вопль. Фишер терял сознание, обмякая всем туловищем, будто тряпичная кукла, но после удара по лицу вынужденно приходил в себя. Когда Щукин достал из кармана третий гвоздь, Фишер разрыдался в голос и судорожно закивал.
Оживившись, Щукин расплылся в широкой улыбке. Вернув обойный гвоздь в карман, он выдернул изо рта Фишера намокшую от слюны балаклаву и замер в ожидании. Острая спица лунного света, пробивающаяся через закрытую входную дверь, стелилась по грязным половицам и сливалась с ледянисто-белым свечением туристических фонарей. Фишер жался к стене и содрогался от плача. На его левой кисти, мерцая истертыми шляпками, торчали из-под ногтей три обойных гвоздя. По запястью тянулись вниз ручейки засыхающей крови: она пропитывала тугие витки веревки и багровыми пятнами расползалась по обшлагу полосатой пижамы.
- Это был я… - выдавил Фишер, давясь плачем и слепо глядя перед собой. – Отпусти меня, пожалуйста… Ты обещал…
- Ну и зачем ты это сделал? – мрачно спросил Щукин.
- Сухарев сказал, чтобы я…
Оскалившись, Щукин резко схватил его обеими руками за горло и сдавил изо всех сил. Фишер вытаращил глаза и надсадно захрипел, его землистое лицо побагровело от удушья. Он дергался, тщетно хватая ртом воздух, а в линзах его очков бешено метались мертвенно-бледные искры.
- Если бы ты отказался писать этот донос, то всего лишь провел бы две недели в шизо! Но ты решил обвинить меня в том, чего я никогда при тебе не делал! – сорвался Щукин на гневный вопль.
Хрип Фишера превратился в тихий клекот, темные глаза закатились под отяжелевшие веки, оставив на виду лишь полумесяцы белков. Опомнившись, Щукин отнял подрагивающие руки. Фишер привалился к стене, отчаянно глотая воздух. В ушах гудело, он плохо понимал, что именно у него болит.
"Так это и происходит", - отрешенно подумал он.
Вскочив на ноги, Щукин выхватил из половицы нож и замахнулся для удара. Фишер слабо вскрикнул, однако нож, описав крутую дугу, всего лишь перерезал веревку, которая удерживала его запястья около подоконника. Повалившись набок, Фишер впечатался туловищем в грязные доски. Щукин пнул его в живот и попал берцем по окровавленной кисти. Хрипло взвыв, Фишер прижал к груди связанные руки. Его губы бесконтрольно подрагивали, зубы стучали, как фарфор.
- Я действительно считаю, что малые народы России следовало уничтожить еще на этапе колонизации, - устало произнес Щукин. Сжав в руке нож, он ходил из стороны в сторону, половицы под ним жалобно поскрипывали. - Но тебе, блядь жидовская, я такого никогда не говорил! Жаль, что немецкая армия не дошла до Сибири. Они бы вас всех вычистили, как на Украине. Слышал про Бабий Яр?
- Слышал. В школе рассказывали, - выдавил Фишер, чувствуя во рту железистый привкус собственной крови. Он покосился на Щукина снизу вверх, с трудом сфокусировав на нем воспаленный взгляд.
- Гитлер ошибался, низко оценивая славян, однако насчет вас он не ошибся. Вы все больны и психически, и физически – ты именно поэтому без очков нихрена не видишь и на людей кидаешься, как собака, - не унимался Щукин. – Я уверен, что ты тогда не оборонялся, а намеренно человека зарезал, потому что тебе предоставилась такая возможность. Ты в этом, конечно, не виноват, ты не можешь себя контролировать. Но будущим поколениям твои бракованные гены не нужны.
- Он первый меня пырнул. У меня не было другого выхода, - осторожно возразил Фишер.
Поблескивая темными глазами, он внимательно наблюдал за Щукиным. Тот, погрузившись в размышления, ходил от одной стены к другой. Его берцы мелькали перед лицом Фишера, тяжело ступая по скрипящим половицам. Лезвие ножа в руке Щукина, отмеченное эсэсовским девизом, безжизненно отражало бледный, как кладбищенские лилии, свет.
- Другого ответа я от тебя не ожидал, - брезгливо поморщился Щукин. – Но я тебе не верю. Если бы ты знал, что со мной происходило шесть лет подряд, то вряд ли вел бы себя так нагло. Я ведь могу найти хороший подвал, чтобы держать тебя сутками привязанным к кровати, могу закалывать тебя препаратами, чтобы тебя крутило от судорог. Они говорили, что я шизофреник, что моя вменяемость…
Остро сверкнув почерневшими глазами, Фишер обеими руками схватил Щукина за щиколотку и, закричав от боли, дернул его на себя. Не удержавшись на ногах, Щукин повалился на пол. Громко хрустнула прогнившая доска, нож упал в призрачный круг света. Фишер дернулся всем телом в сторону Щукина, словно червяк, перекинул связанные руки через его голову и решительно потянул на себя, сдавливая веревкой беззащитное горло. Щукин захрипел и бешено задергался, хватая Фишера за израненые пальцы.
- Голова у тебя от шума болит, да?! – завопил Фишер ему в ухо, подтягивая Щукина к себе. – И сейчас болит, сука?!
Щукин конвульсивно содрогнулся, хрип стал глухим и прерывистым, как у забиваемого индюка. Погружаясь в жгучую боль, Фишер не давал Щукину вырваться и чувствовал, как щетина царапает ему большие пальцы, как бьется под разгоряченной кожей чужой кадык. Щукин слабел, мучительно удалясь всё дальше от жизни. Глаза Фишера сонливо осоловели, налились тяжелым нефтяным блеском.
- Теперь мне никто не помешает… - глухо произнес он на ухо умирающему Щукину. – Теперь ты никуда не уйдешь…
Нелю разбудил человеческий вопль, доносящийся до неё будто сквозь толщу воды. Вместе с бодрствованием дал о себе знать стылый, будто осенний погост, воздух, а уже за ним последовало недоброе предчувствие. Неля не могла сообразить, что скрывается в окружающей темноте, однако понимала, что её организм ведет себя слишком неестественно: в ушах стоял нестройный гул, сквозь который прорывались атональные переливы свирели, а туловище казалось пустым, частично несуществующим. Неле было знакомо это ощущение. Проживая в Петербурге, она изредка нюхала розовый, как жвачка, кетамин, и это обычно заканчивалось потерей телесности, долгим сном и спутанными мыслями поутру.
Но в этот раз Неля вспомнила и осознала всё, хоть и не сразу: вечером она, укрывшись легким одеялом, заснула у Фишера на диване, однако теперь её окружала лишь темнота, пахнущая многолетней сыростью. За окном, которое было наглухо заколочено досками, вкрадчиво шуршала листва. Голые ноги Нели, торчащие из-под длинной футболки Фишера, неприятно холодил занозистый пол, а где-то впереди лежали на половицах зыбкие штрихи белесого света. Подавив смутное волнение, Неля поняла, что лежит на боку и попыталась встать, но вместо этого лишь слабо уронила голову, стукнувшись виском об пол. Медленно втянув затхлый воздух, Неля закусила губу, чтобы не закричать от нахлынувшего ужаса, который не мог притупить даже кетамин. Её руки были туго связаны за спиной, а вокруг лодыжек обвивались змеистые кольца веревки. Покинуть это странное место, чем бы оно ни было, не представлялось возможным.
"Сарай. У Жени за домом есть еще один сарай, куда он меня никогда не водил…" – мелькнула в голове у Нели паническая догадка.
Ей вспомнились их многочисленные беседы, во время которых Фишер с непринужденным видом рассуждал о том, как Головкин, Дамер и Сливко заманивали свои жертвы в ловушку. Стиснув зубы, Неля гневно уставилась в пустоту. Странности Фишера начали складываться в целостную картину, но было уже слишком поздно.
Глаза Нели тем временем привыкали к темноте, и в ней размытыми фрагментами проступали облупившиеся стены, покрытые чешуей грязно-белой штукатурки. Бледный свет, который лежал на полу, проникал в комнату из соседнего помещения, минуя пустой дверной проем с оббитыми краями. Неля, которая уже представляла, как обескровленный труп Фишера, втиснутый в покрышку от грузовика, жадно пожирают золотисто-алые языки огня, вдруг осознала, что у Фишера подобного помещения не могло быть ни в доме, ни в огороде.
- Не спать!
Неля оцепенела, у нее задрожали пальцы. Этот грубый мужской голос, доносящийся из-за стены, она никогда прежде не слышала.
- Хватит… Мне больно… - обессиленно простонал Фишер.
- В этом и смысл, жид.
Неля порывисто вздохнула. Она понимала, что должна сейчас испытывать страх перед неминуемой смертью, однако вместо этого чувствовала лишь гнев – отстраненный и смазанный, будто принадлежал он совсем другому человеку. Неля отчаянно пыталась вспомнить, упоминал ли Фишер при ней особенно нехорошие истории из прошлого. На ум ничего не приходило, но в том, что у сидевшего Фишера, который был в колонии активистом, такие истории имелись, она не сомневалась. Сталкиваться с фигурантом одной из них, находясь в настолько беспомощном состоянии, было опасно для жизни.
- Ты на меня донес? Ты это сделал, выблядок? – спросил незнакомец, отдаленно напоминая быковатыми интонациями Жору.
"Точно с зоны", - подумала Неля.
Осторожно пошевелившись, она прислушалась. Пол под ней скрипел совсем тихо. В соседней комнате неразборчиво бормотал Фишер. Медленно согнувшись, как эмбрион, Неля плотно прижала колени к груди и попыталась опустить связанные руки настолько низко, насколько это было возможно.
- А тебе, я смотрю, понравилось… - с улыбкой в голосе произнес незнакомец.
Неля напряглась, скрючившись до предела, и связанные руки скользнули по голым бедрам. Слабо скрипнув половицами, Неля с опаской высвободила ноги. Руки, стянутые вместе бельевой веревкой, наконец оказались перед ней. Из соседнего помещения послышался отрывистый стук, будто кого-то били головой об стену. Приглушенно завопил Фишер. Поднеся связанные руки к лицу, Неля нахмурилась, нащупала зубами узел и принялась грызть его, как собака, обгладывающая кость.
Узел оказался тугим, но незнакомцу, судя по нескончаемым воплям Фишера, было сейчас не до Нели. Она медленно, укус за укусом, распутывала узел, а крики Фишера становились всё слабее, пока не перешли в прерывистый плач. Веревка обмякла и змеей соскользнула на пол. Сдерживая шумное дыхание, Неля без особого труда освободила себе ноги. За стеной надсадно, словно его душили, захрипел Фишер. Растирая затекшие конечности, Неля лихорадочно оглядывала комнату, в которой оказалась, надеясь обнаружить хотя бы кусок кирпича, чтобы бросить его незнакомцу в лицо и сбежать.
- Если бы ты отказался писать этот донос, то всего лишь провел бы две недели в шизо! Но ты решил обвинить меня в том, чего я никогда при тебе не делал! – яростно выкрикнул незнакомец, заглушая клекот удушья.
Неля нервно улыбнулась: в том, что Фишер кого-то оговорил, не было ничего удивительного. Клекот прекратился. Неля настороженно прислушалась к давящей тишине. Заскрипели половицы, незнакомец начал торопливо ходить по комнате. Опершись рукой об шероховатую стену, тронутую плесенью, Неля встала на ноги, и доски под ней предательски хрустнули. Неля осознала, что бесшумно прокрасться хоть куда-нибудь ей не удастся, и застыла в темном углу комнаты, вцепившись пальцами в подол футболки. Близость смерти дышала в затылок, туго сдавливала горло. Сердце дергалось в грудной клетке, как обезображенная птица.
- Я действительно считаю, что малые народы России следовало уничтожить еще на этапе колонизации, - заговорил вдруг незнакомец.
Неля вздрогнула от испуга. Сквозь щели в заколоченном окне пробивались тонкие лучи лунного света, наполненные шевелением пыли. Продолжая скрипеть половицами, незнакомец рассказывал то ли полуживому Фишеру, то ли его задушенному трупу о массовых казнях, которые устраивали нацистские каратели, расовых убеждениях Гитлера и подлости самого Фишера, который, как считал незнакомец, убил человека не вынужденно, а преднамеренно. Неля не трогалась с места. Беззвучно дыша, она покусывала пересохшие губы. Лишь плесневелая стена покинутого дачного домика отделяла её от смерти, которая ходила из стороны в сторону и никуда не спешила, потому что была уверена в успехе.
- Он первый меня пырнул. У меня не было другого выхода, - послышался осторожный голос Фишера.
Неля с облегчением вздохнула. Фишер до сих пор был жив, и это значило, что у неё еще оставалось время. Окинув взглядом сумрачную комнату, Неля заметила у противоположной стены ворох жженых тряпок, под которыми виднелась отломанная ножка стула. Ссутулившись, как стервятник, аккуратно пробуя ногой доски, Неля крадучись направилась к цели. У неё не было четкого плана – было лишь намерение дождаться, когда незнакомец придет за ней, ткнуть ему в лицо ножкой стула и, воспользовавшись секундой замешательства, убежать как можно дальше. На этом план Нели обрывался. Что делать дальше, она совершенно не представляла.
- Другого ответа я от тебя не ожидал, - брезгливо произнес незнакомец и, понемногу раздражаясь, перешел на подробности своего тяжелого прошлого.
Искренне желая, чтобы его рассказ оказался долгим, Неля беззвучно сделала еще один шаг. Но история незнакомца о том, как он лежал в психбольнице, прервалась резким грохотом, за ним последовал неистовый хрип. Однако на этот раз душили точно не Фишера: его голос Неля узнала бы в любых обстоятельствах – особенно в таких.
- Голова у тебя от шума болит, да?! И сейчас болит, сука?! – злобно заорал Фишер.
Сорвавшись с места, Неля ринулась к дверному проему и едва не упала в соседнюю комнату, но вовремя ухватилась за косяк. От увиденного что-то сдвинулось у Нели в голове, нарушая привычный ход жизни. В небольшой комнате, где за разбитым окном шелестели заросли борщевика, в бледном свете двух туристических фонарей дрались на полу Фишер в окровавленной пижаме и грузный блондин лет тридцати, одетый в коричневую рубашку и камуфляжные штаны. Лежа на боку, Фишер скалил зубы и душил мужчину со спины, сдавливая ему горло связанными руками. В его перекосившихся очках нервно подрагивали белые искры фонарей. Мужчина хрипел, слепо закатывая глаза, и конвульсивно хватал скрюченными пальцами воздух перед грудью. Его рыхлое лицо наливалось темным багрянцем удушья, начищенные берцы с глухим стуком бились об пол. В призрачном круге света, остро сверкая лезвием, валялся охотничий нож с черной рукоятью.
От накатившей волны адреналина у Нели зазвенело в ушах, где-то вдали фальшиво заиграл на свирели ребенок. Время сместилось, и Неля мельком вспомнила, как наблюдала за Фишером через густую рабицу забора, пока тот, понуро уставившись перед собой, брел по выметенным дорожкам мужского сектора, пока жгучее летнее солнце обдавало жаром пестрые клумбы, цветущие под окнами бараков, концлагерную униформу Фишера и выгоревший мютцен на его черных волосах. Испустив хриплый вопль, Неля метнулась к ножу и, крепко обхватив прохладную рукоять, вонзила лезвие блондину под ребра. Полилась теплая кровь, расходясь мокрым пятном по измятой рубашке, пропитывая скрипучие доски пола, стекая по руке Нели мелкими каплями брызг. Неопрятная копна пергидрольно-желтых волос, дымчатые круги туши под глазами, черные монеты зрачков – Неля была искаженной, свирепой копией себя.
- Спасибо, - тихо произнес Фишер.
Поморщившись от боли, он задрал связанные руки и выпустил из захвата обмякший труп. Тот грузно повалился на пол и уткнулся сливовым лицом в шершавые доски. Кровь спрутом расползалась по коричневой рубашке и впитывалась в половицы.
Моргнув, Неля опомнилась. На неё тяжелым пластом навалилась усталость. Не выпуская из руки нож, не отрывая взгляда от мертвого блондина, чье туловище превратилось в кровоточащий шмат мяса, Неля попятилась, уткнулась спиной в стену и сползла по ней на пол. Подогнув под себя озябшие ноги, она перевела взгляд в пустоту перед собой и издала нервный смешок. Смерть, вмиг лишившаяся своего могущества, откладывалась.
- Помоги мне.
Повернув голову на звук, Неля вновь увидела Фишера. Связанный по рукам и ногам, он обессиленно лежал на боку и действительно походил на узника концлагеря: бледное лицо покрывали красноватые пятна свежих синяков, под распухшим носом темнела запекшаяся кровь, а взгляд был мутным, полубезумным. Левая кисть Фишера, обильно испачканная багровым, болезненно подрагивала, и на ней, поблескивая шляпками, торчали из-под трех ногтей обойные гвозди. Неля перевела осоловелый взгляд на нож, который держала в руках, и заметила на лезвии гравировку – девиз СС, набранный острыми готическими буквами.
- Что это был за мужик? – отстраненно спросила Неля. Она разглядывала окровавленный нож, поднеся его к глазам.
- Нацик, с которым я сидел в одной колонии, - так же отстраненно ответил Фишер.
- На которого ты донос написал?
- Ага.
Поразмыслив, Неля встала, подошла к Фишеру и перерезала веревку, стягивающую его ноги. Фишер настороженно посмотрел на Нелю и молча, буравя её немигающим взглядом, подставил руки. Машинально перерезав и эту веревку, Неля вернулась на прежнее место, прислонилась к стене и вновь погрузилась в раздумья. Она утомленно смотрела на обмякший труп и поигрывала ножом, высекая из его лезвия тусклые всполохи.
Кривясь от боли, Фишер уселся на полу и начал нерешительно, как-то механически растирать затекшие запястья. Наконец, когда его руки обрели чувствительность, Фишер взглянул на свою левую кисть, и его передернуло.
- Что теперь с ним делать? – апатично спросила Неля.
- Утопим в болоте. Если успеем до рассвета, то его никто не найдет, - произнес Фишер.
Сжав зубами основание гвоздя, который торчал из его большого пальца, он резко откинул голову назад, и гвоздь вырвался из-под ногтя. Лицо Фишера болезненно искривилось, сквозь зубы вырвался сдавленный стон. Ноготь потемнел, под ним тяжелой каплей набухла кровь. Спрятав гвоздь в нагрудный карман пижамы, Фишер слизнул с пальца вишнево-красную каплю и замер, сонно прикрыв глаза.
- До болота нужно как-то добраться, - нахмурилась Неля. На периферии зрения шевелились размытые блики света, ползающие по лезвию ножа.
- Он упоминал, что мы на заброшенных дачах. Если это правда, то вряд ли он нас сюда на такси привез, - сказал Фишер. Открыв глаза, он аккуратно обхватил зубами основание второго обойного гвоздя.
Неля с сомнением покосилась на Фишера и сложила нож. Фишер резко дернул головой и застонал от боли, гвоздь в его зубах блеснул окровавленным острием. Утомленно вздохнув, Неля встала и подолом футболки вытерла с руки кровь убитого незнакомца. Какое-то время она топталась на месте, однако быстро собралась с мыслями и, ступая босыми ногами по грязному полу, старательно обходя труп, доски под которым промокли от крови, подошла к единственной двери – деревянной, чуть перекошенной, покрытой темными пятнами плесени. Дверь пронзительно скрипнула, и взгляду Нели открылся безлюдный пейзаж, затянутый рыхлым налетом тумана, тронутый буйством природы и естественным тлением.
На бетонном крыльце, тускло отражая ледянистое свечение луны, поблескивали останки битого кафеля. Справа от крыльца тянулась к зернистой россыпи звезд сосна, за ней вился сгнивший хребет забора из лыжных палок. На небольшом пятачке перед заброшенной дачей была припаркована болотно-зеленая "нива", до середины забрызганная грязью, а прямо за ней, сверкая лужами, начиналась ухабистая колея, которая уходила далеко за горизонт, рассекая омытые ливнем зеленые просторы. В неряшливом море сорняков, борщевика и полыни то тут, то там виднелись колючие заросли малины, скрюченные силуэты одичавших яблонь и покосившиеся дачные домики, оплетенные вьюнком.
Кинув на "ниву" оценивающий взгляд, Неля вернулась в дом. Фишер сидел на прежнем месте и понемногу приходил в себя: здоровой рукой он растирал затекшие лодыжки, а пальцы левой руки с ошарашенным видом посасывал, то ли останавливая кровь, то ли пробуя её на вкус. В темных глазах Фишера играл нездоровый блеск. Тактично не обратив на это внимания, Неля опустилась на корточки рядом с трупом и принялась шарить по карманам камуфляжных штанов. Отбросив на пол дешевую зажигалку и портмоне, набитое мятыми рублями, Неля сосредоточенно посмотрела на Фишера и продемонстрировала ему ключи от машины на широком шнурке.
- Евгеша… Ты сможешь сейчас за руль сесть?
Удерживая на весу раненую кисть, Фишер с мрачным воодушевлением уставился на труп:
- Придется. Но сначала нужно кое-что сделать. Чтобы его никто не опознал.
- Расчленить его хочешь, да? – нервно усмехнулась Неля.
- Нет, это слишком долго. Но нужно отделить хотя бы голову и руки.
- У нас нет инструментов. Давай просто утопим его в болоте.
Вздрогнув, Фишер прошипел сквозь зубы:
- Чтобы нас потом посадили? Ну уж нет, я не собираюсь из-за этого обмудка рукавицы шить! У него в машине должно быть что-то: топор, пила… Если он меня пытать собирался, то явно подготовился.
- Ладно… Пойдем, поищем что-нибудь, - с сомнением согласилась Неля и протянула ему руку, помогая встать.
Выпрямившись, Фишер хрустнул позвоночником и шатко побрел к выходу. На крыльце он остановился и настороженно замер. Медленно водя головой из стороны в сторону, будто удав, он разглядывал окружающий мир.
- Чего стоишь? Никогда раньше лес не видел? – буркнула Неля, пролезая сбоку от него. Обходя лужицы, мерцающие в темном травяном ковре, она направилась к машине.
- Мы действительно на дачах.
От раненого и, кажется, слегка обезумевшего Фишера пока не было никакого толку. Поежившись от ночной прохлады, Неля переложила нож в левую руку и попыталась открыть багажник. Рычаг поддался, и дверь багажника плавно сдвинулась вверх. Неля облегченно вздохнула. Расчленение отменялось.
- Тут нет ничего, Евгеша. Только насос и аптечка, - сообщила она Фишеру, который до сих пор стоял на крыльце как вкопанный. – Давай просто его утопим. Другого варианта у нас нет.
- У него должна быть какая-то сумка, - недобрым тоном произнес Фишер.
Неля закатила глаза. Проковыляв мимо неё, Фишер обошел "ниву" спереди и дернул на себя дверь водительского сиденья. Его крючконосый силуэт заворочался в салоне, маяча полосатой пижамой и поблескивая линзами очков. Содрогнувшись от внутреннего холода, Неля обхватила себя руками и задумчиво нахмурилась. Фишер вел себя так, будто его манило желание расчленить похитителя, и почему-то Неля не сомневалась, что ради такого случая Фишер проигнорирует даже боль в изуродованных пальцах.
Ветер с воем пробежал по тяжелым волнам сорняков. Нечто прохладное, чуть пахнущее трупным смрадом, прокралось по земле и прикоснулось к щиколотке Нели. Уловив краем глаза шевеление, Неля покосилась на дачный домик и оторопела. За распахнутой дверью, в блеклых потеках искусственного света возвышался человек, одетый в жуткий костюм. Из коровьего черепа с массивной челюстью торчали, как полумесяц, рога, фосфорически светились желтым круглые глаза размером с блюдце, а туловище скрывалось под бесформенными лохмотьями черного брезента. Нелю бросило в холод. Она опустила взгляд, ожидая увидеть ноги нежеланного свидетеля, и мелко задрожала. Ног не было. Из-под брезентовых лохмотьев, не касаясь пола, высовывались десятки червеподобных щупалец – тонких, осклизлых, мясисто-красных. Они слепо змеились в прохладном воздухе, будто нащупывая дорогу. Когда Неля уже готова была завопить, существо медленно, спиной вперед уплыло вглубь дачного домика и слилось с мраком дальней комнаты. Тошнотворное свечение глаз потухло – словно и не было ничего. Шелестела полынь, поскрипывал дом, слабо завывал ветер.
С трудом переставляя негнущиеся ноги, Неля добралась до "нивы", дернула на себя дверь и тяжело повалилась на пассажирское сиденье. Первым, что она заметила, было перекошенное лицо Фишера. Он сидел на месте водителя, на коленях у него лежала спортивная сумка.
- Я тут нашел что-то, - сообщил он срывающимся голосом, - но нам, кажется, лучше туда не возвращаться… Можно потом… Завтра…
- Ты тоже это видел? – спросила Неля, постукивая зубами.
Фишер нервно кивнул. Сунув ему в ладонь ключи от машины, Неля с третьей попытки пристегнулась. Не отрывая взгляда от зеркала заднего вида, где отражался дачный домик, Фишер кинул спортивную сумку на заднее сиденье, тоже пристегнулся и вставил ключ в замок зажигания. Тихо зарычал мотор, вспыхнули фары. Под их ярко-желтым светом, от которого Неле стало не по себе, колыхались волны сорняков, обступившие извилистую колею. Фишер резко повернул руль, и "нива" тронулась с места, подбросив Нелю на ухабе. Вцепившись в поручень над окном, Неля стиснула зубы и усилием воли сдержала крик. "Нива" набрала скорость, оставляя позади ветхую заброшенную дачу. Снаружи грязным калейдоскопом проносились искривленные яблони, бледные зонты борщевика и ветхие домики, где тридцать лет назад кипела жизнь. В темноте салона Неля видела лишь сумрачный профиль Фишера, слабо залитый восковыми отблесками приборной панели. Перед "нивой", обливая ухабистую почву желтым светом, прыгали кляксы фар.
Минут через пятнадцать дорога выровнялась, превратившись из заросшей колеи в проезженную грунтовку, над которой нависали рослые осины лесополосы. Фишер понемногу сбавлял скорость, и за окном всё медленнее полз мертвенно-синий ночной лес, окутанный клочьями зернистого тумана. Тяжело выдохнув, Фишер судорожным движением руки включил на потолке небольшой светильник. Неля утомленно откинулась на спинку сиденья и вытянула перед собой гудящие ноги, заляпанные почвенной грязью. Ухабы отдавались в днище машины резкими толчками. Сжимая в левом кулаке сложенный нож, Неля задумчиво посмотрела на Фишера. Тот напоминал концлагерного мертвеца: на землистом лице темнели чешуйки запекшейся крови, под глазами обозначились темные круги. Фишер вел машину, осторожно уложив на руль раненую кисть.
- Я знаю, куда ехать. Если до рассвета вернемся в лес, возле которого я живу, то никто не заметит, что мы покидали дом, - вымотанным голосом произнес он, глядя на дорогу. – У меня на заборе колючка, но если ты меня подсадишь, я проберусь на задний двор и высажу топором доску в заборе. Потом как-нибудь залатаю.
- По грунтовкам поедем?
- Конечно.
- А машину куда? – засомневалась Неля.
- Тоже в болото. Не лучший вариант, но выбора у нас нет.
Неля перевела взгляд за окно. В рыхлом молочном тумане перешептывались осины, жались друг к другу колючие кустарники, торчали из земли гниющие остовы телеграфных столбов. С мутного звездного неба наблюдал за лесополосой полумесяц – холодный, пористый, бледно-желтый, как старая кость. Вокруг него мелким крошевом искрились звезды.
- И сколько нам еще ехать? – спросила Неля.
- Минут сорок. Мы возле железнодорожного переезда.
Помолчав, она мрачно произнесла:
- Не уверена, что мы сможем туда вернуться.
Неля отчаянно пыталась не думать о том, что видела в тенях дачного домика, отчаянно пыталась сфокусироваться на угоне автомобиля, следах её босых ног на грязных половицах и трупе, который в случае обнаружения явно повесят на неё с Фишером, у которого имелся и опыт, и мотив. Но страх тюремного заключения не мог сравниться с ужасом стылых огней, которые горели в глазницах коровьего черепа – круглые, неподвижные, тошнотворно-желтые.
- Мы должны хотя бы попытаться. Я не хочу оставлять после себя беспорядок. Возможно, днем там уже не будет… этой штуки, - наконец подобрал слова Фишер.
Вдали показались бетонные колоссы – опоры, возвышающиеся по обе стороны от железнодорожного полотна, которые установили в восьмидесятых, чтобы построить эстакаду. Фишер свернул налево, и опоры скрылись за деревьями, а по лобовому стеклу "нивы" с шорохом проползли черные розги веток.
- Меня удивляет, что ты так спокойно реагируешь на криминал, - произнес вдруг Фишер.
- Ты тоже.
- Я за убийство сидел. А ты нет. По крайней мере, мне ты ничего такого не рассказывала.
- Я не сидела. Просто… бывали истории, - кратко ответила Неля, не желая пока вдаваться в подробности.
- Повезло тебе… - тоскливо вздохнул Фишер и замолчал.
Краткий миг откровенности, - первый за всё время их знакомства, - подошел к концу. Неля поднесла к глазам сложенный нож, которым зарезала Щукина, и принялась его рассматривать. Фишер поморщился от боли в правом запястье, которое повредил, пока душил Щукина, и оцепенело уставился перед собой. Забрызганная грязью "нива" медленно ползла сквозь лесополосу, из темноты вырастали черные громады фонарных столбов, которые уже давно не испускали свет, а лес менял окрас – бурое месиво осин постепенно уступало место полосатым стволам берез, кажущихся в темноте голубоватыми. Отвлекшись от ножа, Неля посмотрела в прохладную мглу и заметила свечение. Далеко впереди, там, где грунтовка огибала березовую рощу и сворачивала налево, неподвижно висели в воздухе два йодно-желтых огонька. Похолодев, Неля вгляделась в них и с облегчением выдохнула. Это был всего лишь свет фар.
- Там чья-то машина стоит, - напряженно сообщила она Фишеру и принялась оглядываться. Грунтовку со всех сторон окружали деревья и нагромождения терновника. Сворачивать было некуда.
- Веди себя естественно, - глухо произнес Фишер и выключил светильник под потолком, погрузив салон в полумрак. – Если спокойно проедем мимо, нас не запомнят.
Скрестив руки на груди, Неля собралась с духом. Её сосредоточенный взгляд был прикован к желтым огням. Те медленно набухали и расцветали, обретая зыбкий лучистый ореол. Снопы чужих фар, пересекая дорогу, неподвижно освещали ворох сухих веток и трухлявый пень, а в статичном желтоватом свете слабо подергивались две вытянутые тени – явно человеческие, принадлежащие ребенку и взрослому. Обмякший ребенок висел в воздухе и как будто покачивался, а взрослый стоял перед ним, загадочно шевеля руками.
- Кажется, кто-то суицидника нашел… - сдавленно пробормотал Фишер, разглядывая тени через прищур.
- Что будем делать?
- Проедем мимо. Машина всё равно не наша.
"Нива" приблизилась к повороту,и нежеланный свидетель наконец оказался в поле зрения. У березняка, за которым начиналось тускло-зеленое полотно луга, была криво припаркована лаково-черная "лада". В скрещенном свете фар, ошарашенно уставившись на "ниву", застыла женщина лет сорока – с темными волосами до плеч, одетая в мешковатые брюки, мужскую рубашку и серый мясницкий фартук. В руках женщины, обтянутых медицинскими перчатками, поблескивал линзой фотоаппарат, а на толстой березовой ветви, покачиваясь под натиском ветра, висела в петле избитая девочка – коротко стриженая, одетая под мальчика, в перекосившихся очках с треснутой линзой. Неля стиснула зубы, в ней загорелся мрачный огонь. Она осознала, что однажды уже встречала эту женщину - в мае, когда та покупала в киоске восемь гвоздик. Фишер, судя по его закушенной губе, тоже что-то понял.
Женщина тем временем опомнилась. Странно оскалившись, она рывком повернулась к лугу, за которым высилась черная лесная гряда, и испуганно, с бессильной злобой, завизжала в пустоту:
- Они меня видят? Видят?!
Неле стало не по себе. Фишер нервно сглотнул. Женщина с кем-то разговаривала, однако на лугу никого не было.
- Как они сюда попали?! – вопила женщина, надрывая горло. – Убери их отсюда! Пусть они исчезнут! Пожалуйста!
"Такой свидетель точно не сдас нас ментам", - поняла Неля остатком рассудка, и лишь затем ей открылся истинный смысл происходящего. Фотографировать в День защиты детей повешенную девочку мог лишь один человек – Смородинский маньяк. Мрачный огонь вспыхнул в полную силу, отдавшись в пальцах Нели дрожью предвкушения.
- Ты тоже это видишь?.. – севшим голосом спросил Фишер.
- Сбей её, Евгеша. Сейчас же, - сверкнула Неля почерневшими глазами.
Но Фишер не тронулся с места. Оторопело уставившись в темный горизонт, он безввучно шевелил трясущимися губами. Проследив за его взглядом, Неля увидела, как из далекой лесной мглы выплывает на спящий луг пара ядовито-желтых огней. Нелю охватила неописуемая древняя паника. Она не могла пошевелиться, но ей казалось, что она мысленно кричит, напрягая каждый мускул оцепеневшего тела. Неля оскалила зубы, будто животное, почуявшее опасность. Это инстинктивное чувство было старше нее, старше вида homo sapiens, старше человекоподобных приматов. Это был глубинный ужас доисторического существа, которое еще не встало на две конечности, однако уже понимало основы выживания. Нелю снедало желание выскочить из "нивы" и убежать как можно дальше, словно её укололи иглой в сердцевину мозга.
Сквозь багровую пелену паники Неля услышала свой пронзительный вопль, слившийся с не менее пронзительным, жалобным криком Фишера. Желтые глаза достигли середины луга, вокруг них смолисто-черным саваном подрагивало дымчатое облако.
- Газуй! – завизжала Неля и вслепую ткнула Фишера кулаком под ребра.
Не до конца опомнившись, Фишер вдавил в пол педал газа, и "нива", сорвавшись с места, валко понеслась по грунтовке. Неля отчаянно вцепилась в поручень над окном. В зеркале заднего вида уменьшались, сливаясь с темнотой, ошарашенная женщина с фотоаппаратом, которая всё это время была Смородинским маньяком, повешенная на березе девочка и гнойно-желтые огни нечеловеческих глаз.
Но в этот раз Неля вспомнила и осознала всё, хоть и не сразу: вечером она, укрывшись легким одеялом, заснула у Фишера на диване, однако теперь её окружала лишь темнота, пахнущая многолетней сыростью. За окном, которое было наглухо заколочено досками, вкрадчиво шуршала листва. Голые ноги Нели, торчащие из-под длинной футболки Фишера, неприятно холодил занозистый пол, а где-то впереди лежали на половицах зыбкие штрихи белесого света. Подавив смутное волнение, Неля поняла, что лежит на боку и попыталась встать, но вместо этого лишь слабо уронила голову, стукнувшись виском об пол. Медленно втянув затхлый воздух, Неля закусила губу, чтобы не закричать от нахлынувшего ужаса, который не мог притупить даже кетамин. Её руки были туго связаны за спиной, а вокруг лодыжек обвивались змеистые кольца веревки. Покинуть это странное место, чем бы оно ни было, не представлялось возможным.
"Сарай. У Жени за домом есть еще один сарай, куда он меня никогда не водил…" – мелькнула в голове у Нели паническая догадка.
Ей вспомнились их многочисленные беседы, во время которых Фишер с непринужденным видом рассуждал о том, как Головкин, Дамер и Сливко заманивали свои жертвы в ловушку. Стиснув зубы, Неля гневно уставилась в пустоту. Странности Фишера начали складываться в целостную картину, но было уже слишком поздно.
Глаза Нели тем временем привыкали к темноте, и в ней размытыми фрагментами проступали облупившиеся стены, покрытые чешуей грязно-белой штукатурки. Бледный свет, который лежал на полу, проникал в комнату из соседнего помещения, минуя пустой дверной проем с оббитыми краями. Неля, которая уже представляла, как обескровленный труп Фишера, втиснутый в покрышку от грузовика, жадно пожирают золотисто-алые языки огня, вдруг осознала, что у Фишера подобного помещения не могло быть ни в доме, ни в огороде.
- Не спать!
Неля оцепенела, у нее задрожали пальцы. Этот грубый мужской голос, доносящийся из-за стены, она никогда прежде не слышала.
- Хватит… Мне больно… - обессиленно простонал Фишер.
- В этом и смысл, жид.
Неля порывисто вздохнула. Она понимала, что должна сейчас испытывать страх перед неминуемой смертью, однако вместо этого чувствовала лишь гнев – отстраненный и смазанный, будто принадлежал он совсем другому человеку. Неля отчаянно пыталась вспомнить, упоминал ли Фишер при ней особенно нехорошие истории из прошлого. На ум ничего не приходило, но в том, что у сидевшего Фишера, который был в колонии активистом, такие истории имелись, она не сомневалась. Сталкиваться с фигурантом одной из них, находясь в настолько беспомощном состоянии, было опасно для жизни.
- Ты на меня донес? Ты это сделал, выблядок? – спросил незнакомец, отдаленно напоминая быковатыми интонациями Жору.
"Точно с зоны", - подумала Неля.
Осторожно пошевелившись, она прислушалась. Пол под ней скрипел совсем тихо. В соседней комнате неразборчиво бормотал Фишер. Медленно согнувшись, как эмбрион, Неля плотно прижала колени к груди и попыталась опустить связанные руки настолько низко, насколько это было возможно.
- А тебе, я смотрю, понравилось… - с улыбкой в голосе произнес незнакомец.
Неля напряглась, скрючившись до предела, и связанные руки скользнули по голым бедрам. Слабо скрипнув половицами, Неля с опаской высвободила ноги. Руки, стянутые вместе бельевой веревкой, наконец оказались перед ней. Из соседнего помещения послышался отрывистый стук, будто кого-то били головой об стену. Приглушенно завопил Фишер. Поднеся связанные руки к лицу, Неля нахмурилась, нащупала зубами узел и принялась грызть его, как собака, обгладывающая кость.
Узел оказался тугим, но незнакомцу, судя по нескончаемым воплям Фишера, было сейчас не до Нели. Она медленно, укус за укусом, распутывала узел, а крики Фишера становились всё слабее, пока не перешли в прерывистый плач. Веревка обмякла и змеей соскользнула на пол. Сдерживая шумное дыхание, Неля без особого труда освободила себе ноги. За стеной надсадно, словно его душили, захрипел Фишер. Растирая затекшие конечности, Неля лихорадочно оглядывала комнату, в которой оказалась, надеясь обнаружить хотя бы кусок кирпича, чтобы бросить его незнакомцу в лицо и сбежать.
- Если бы ты отказался писать этот донос, то всего лишь провел бы две недели в шизо! Но ты решил обвинить меня в том, чего я никогда при тебе не делал! – яростно выкрикнул незнакомец, заглушая клекот удушья.
Неля нервно улыбнулась: в том, что Фишер кого-то оговорил, не было ничего удивительного. Клекот прекратился. Неля настороженно прислушалась к давящей тишине. Заскрипели половицы, незнакомец начал торопливо ходить по комнате. Опершись рукой об шероховатую стену, тронутую плесенью, Неля встала на ноги, и доски под ней предательски хрустнули. Неля осознала, что бесшумно прокрасться хоть куда-нибудь ей не удастся, и застыла в темном углу комнаты, вцепившись пальцами в подол футболки. Близость смерти дышала в затылок, туго сдавливала горло. Сердце дергалось в грудной клетке, как обезображенная птица.
- Я действительно считаю, что малые народы России следовало уничтожить еще на этапе колонизации, - заговорил вдруг незнакомец.
Неля вздрогнула от испуга. Сквозь щели в заколоченном окне пробивались тонкие лучи лунного света, наполненные шевелением пыли. Продолжая скрипеть половицами, незнакомец рассказывал то ли полуживому Фишеру, то ли его задушенному трупу о массовых казнях, которые устраивали нацистские каратели, расовых убеждениях Гитлера и подлости самого Фишера, который, как считал незнакомец, убил человека не вынужденно, а преднамеренно. Неля не трогалась с места. Беззвучно дыша, она покусывала пересохшие губы. Лишь плесневелая стена покинутого дачного домика отделяла её от смерти, которая ходила из стороны в сторону и никуда не спешила, потому что была уверена в успехе.
- Он первый меня пырнул. У меня не было другого выхода, - послышался осторожный голос Фишера.
Неля с облегчением вздохнула. Фишер до сих пор был жив, и это значило, что у неё еще оставалось время. Окинув взглядом сумрачную комнату, Неля заметила у противоположной стены ворох жженых тряпок, под которыми виднелась отломанная ножка стула. Ссутулившись, как стервятник, аккуратно пробуя ногой доски, Неля крадучись направилась к цели. У неё не было четкого плана – было лишь намерение дождаться, когда незнакомец придет за ней, ткнуть ему в лицо ножкой стула и, воспользовавшись секундой замешательства, убежать как можно дальше. На этом план Нели обрывался. Что делать дальше, она совершенно не представляла.
- Другого ответа я от тебя не ожидал, - брезгливо произнес незнакомец и, понемногу раздражаясь, перешел на подробности своего тяжелого прошлого.
Искренне желая, чтобы его рассказ оказался долгим, Неля беззвучно сделала еще один шаг. Но история незнакомца о том, как он лежал в психбольнице, прервалась резким грохотом, за ним последовал неистовый хрип. Однако на этот раз душили точно не Фишера: его голос Неля узнала бы в любых обстоятельствах – особенно в таких.
- Голова у тебя от шума болит, да?! И сейчас болит, сука?! – злобно заорал Фишер.
Сорвавшись с места, Неля ринулась к дверному проему и едва не упала в соседнюю комнату, но вовремя ухватилась за косяк. От увиденного что-то сдвинулось у Нели в голове, нарушая привычный ход жизни. В небольшой комнате, где за разбитым окном шелестели заросли борщевика, в бледном свете двух туристических фонарей дрались на полу Фишер в окровавленной пижаме и грузный блондин лет тридцати, одетый в коричневую рубашку и камуфляжные штаны. Лежа на боку, Фишер скалил зубы и душил мужчину со спины, сдавливая ему горло связанными руками. В его перекосившихся очках нервно подрагивали белые искры фонарей. Мужчина хрипел, слепо закатывая глаза, и конвульсивно хватал скрюченными пальцами воздух перед грудью. Его рыхлое лицо наливалось темным багрянцем удушья, начищенные берцы с глухим стуком бились об пол. В призрачном круге света, остро сверкая лезвием, валялся охотничий нож с черной рукоятью.
От накатившей волны адреналина у Нели зазвенело в ушах, где-то вдали фальшиво заиграл на свирели ребенок. Время сместилось, и Неля мельком вспомнила, как наблюдала за Фишером через густую рабицу забора, пока тот, понуро уставившись перед собой, брел по выметенным дорожкам мужского сектора, пока жгучее летнее солнце обдавало жаром пестрые клумбы, цветущие под окнами бараков, концлагерную униформу Фишера и выгоревший мютцен на его черных волосах. Испустив хриплый вопль, Неля метнулась к ножу и, крепко обхватив прохладную рукоять, вонзила лезвие блондину под ребра. Полилась теплая кровь, расходясь мокрым пятном по измятой рубашке, пропитывая скрипучие доски пола, стекая по руке Нели мелкими каплями брызг. Неопрятная копна пергидрольно-желтых волос, дымчатые круги туши под глазами, черные монеты зрачков – Неля была искаженной, свирепой копией себя.
- Спасибо, - тихо произнес Фишер.
Поморщившись от боли, он задрал связанные руки и выпустил из захвата обмякший труп. Тот грузно повалился на пол и уткнулся сливовым лицом в шершавые доски. Кровь спрутом расползалась по коричневой рубашке и впитывалась в половицы.
Моргнув, Неля опомнилась. На неё тяжелым пластом навалилась усталость. Не выпуская из руки нож, не отрывая взгляда от мертвого блондина, чье туловище превратилось в кровоточащий шмат мяса, Неля попятилась, уткнулась спиной в стену и сползла по ней на пол. Подогнув под себя озябшие ноги, она перевела взгляд в пустоту перед собой и издала нервный смешок. Смерть, вмиг лишившаяся своего могущества, откладывалась.
- Помоги мне.
Повернув голову на звук, Неля вновь увидела Фишера. Связанный по рукам и ногам, он обессиленно лежал на боку и действительно походил на узника концлагеря: бледное лицо покрывали красноватые пятна свежих синяков, под распухшим носом темнела запекшаяся кровь, а взгляд был мутным, полубезумным. Левая кисть Фишера, обильно испачканная багровым, болезненно подрагивала, и на ней, поблескивая шляпками, торчали из-под трех ногтей обойные гвозди. Неля перевела осоловелый взгляд на нож, который держала в руках, и заметила на лезвии гравировку – девиз СС, набранный острыми готическими буквами.
- Что это был за мужик? – отстраненно спросила Неля. Она разглядывала окровавленный нож, поднеся его к глазам.
- Нацик, с которым я сидел в одной колонии, - так же отстраненно ответил Фишер.
- На которого ты донос написал?
- Ага.
Поразмыслив, Неля встала, подошла к Фишеру и перерезала веревку, стягивающую его ноги. Фишер настороженно посмотрел на Нелю и молча, буравя её немигающим взглядом, подставил руки. Машинально перерезав и эту веревку, Неля вернулась на прежнее место, прислонилась к стене и вновь погрузилась в раздумья. Она утомленно смотрела на обмякший труп и поигрывала ножом, высекая из его лезвия тусклые всполохи.
Кривясь от боли, Фишер уселся на полу и начал нерешительно, как-то механически растирать затекшие запястья. Наконец, когда его руки обрели чувствительность, Фишер взглянул на свою левую кисть, и его передернуло.
- Что теперь с ним делать? – апатично спросила Неля.
- Утопим в болоте. Если успеем до рассвета, то его никто не найдет, - произнес Фишер.
Сжав зубами основание гвоздя, который торчал из его большого пальца, он резко откинул голову назад, и гвоздь вырвался из-под ногтя. Лицо Фишера болезненно искривилось, сквозь зубы вырвался сдавленный стон. Ноготь потемнел, под ним тяжелой каплей набухла кровь. Спрятав гвоздь в нагрудный карман пижамы, Фишер слизнул с пальца вишнево-красную каплю и замер, сонно прикрыв глаза.
- До болота нужно как-то добраться, - нахмурилась Неля. На периферии зрения шевелились размытые блики света, ползающие по лезвию ножа.
- Он упоминал, что мы на заброшенных дачах. Если это правда, то вряд ли он нас сюда на такси привез, - сказал Фишер. Открыв глаза, он аккуратно обхватил зубами основание второго обойного гвоздя.
Неля с сомнением покосилась на Фишера и сложила нож. Фишер резко дернул головой и застонал от боли, гвоздь в его зубах блеснул окровавленным острием. Утомленно вздохнув, Неля встала и подолом футболки вытерла с руки кровь убитого незнакомца. Какое-то время она топталась на месте, однако быстро собралась с мыслями и, ступая босыми ногами по грязному полу, старательно обходя труп, доски под которым промокли от крови, подошла к единственной двери – деревянной, чуть перекошенной, покрытой темными пятнами плесени. Дверь пронзительно скрипнула, и взгляду Нели открылся безлюдный пейзаж, затянутый рыхлым налетом тумана, тронутый буйством природы и естественным тлением.
На бетонном крыльце, тускло отражая ледянистое свечение луны, поблескивали останки битого кафеля. Справа от крыльца тянулась к зернистой россыпи звезд сосна, за ней вился сгнивший хребет забора из лыжных палок. На небольшом пятачке перед заброшенной дачей была припаркована болотно-зеленая "нива", до середины забрызганная грязью, а прямо за ней, сверкая лужами, начиналась ухабистая колея, которая уходила далеко за горизонт, рассекая омытые ливнем зеленые просторы. В неряшливом море сорняков, борщевика и полыни то тут, то там виднелись колючие заросли малины, скрюченные силуэты одичавших яблонь и покосившиеся дачные домики, оплетенные вьюнком.
Кинув на "ниву" оценивающий взгляд, Неля вернулась в дом. Фишер сидел на прежнем месте и понемногу приходил в себя: здоровой рукой он растирал затекшие лодыжки, а пальцы левой руки с ошарашенным видом посасывал, то ли останавливая кровь, то ли пробуя её на вкус. В темных глазах Фишера играл нездоровый блеск. Тактично не обратив на это внимания, Неля опустилась на корточки рядом с трупом и принялась шарить по карманам камуфляжных штанов. Отбросив на пол дешевую зажигалку и портмоне, набитое мятыми рублями, Неля сосредоточенно посмотрела на Фишера и продемонстрировала ему ключи от машины на широком шнурке.
- Евгеша… Ты сможешь сейчас за руль сесть?
Удерживая на весу раненую кисть, Фишер с мрачным воодушевлением уставился на труп:
- Придется. Но сначала нужно кое-что сделать. Чтобы его никто не опознал.
- Расчленить его хочешь, да? – нервно усмехнулась Неля.
- Нет, это слишком долго. Но нужно отделить хотя бы голову и руки.
- У нас нет инструментов. Давай просто утопим его в болоте.
Вздрогнув, Фишер прошипел сквозь зубы:
- Чтобы нас потом посадили? Ну уж нет, я не собираюсь из-за этого обмудка рукавицы шить! У него в машине должно быть что-то: топор, пила… Если он меня пытать собирался, то явно подготовился.
- Ладно… Пойдем, поищем что-нибудь, - с сомнением согласилась Неля и протянула ему руку, помогая встать.
Выпрямившись, Фишер хрустнул позвоночником и шатко побрел к выходу. На крыльце он остановился и настороженно замер. Медленно водя головой из стороны в сторону, будто удав, он разглядывал окружающий мир.
- Чего стоишь? Никогда раньше лес не видел? – буркнула Неля, пролезая сбоку от него. Обходя лужицы, мерцающие в темном травяном ковре, она направилась к машине.
- Мы действительно на дачах.
От раненого и, кажется, слегка обезумевшего Фишера пока не было никакого толку. Поежившись от ночной прохлады, Неля переложила нож в левую руку и попыталась открыть багажник. Рычаг поддался, и дверь багажника плавно сдвинулась вверх. Неля облегченно вздохнула. Расчленение отменялось.
- Тут нет ничего, Евгеша. Только насос и аптечка, - сообщила она Фишеру, который до сих пор стоял на крыльце как вкопанный. – Давай просто его утопим. Другого варианта у нас нет.
- У него должна быть какая-то сумка, - недобрым тоном произнес Фишер.
Неля закатила глаза. Проковыляв мимо неё, Фишер обошел "ниву" спереди и дернул на себя дверь водительского сиденья. Его крючконосый силуэт заворочался в салоне, маяча полосатой пижамой и поблескивая линзами очков. Содрогнувшись от внутреннего холода, Неля обхватила себя руками и задумчиво нахмурилась. Фишер вел себя так, будто его манило желание расчленить похитителя, и почему-то Неля не сомневалась, что ради такого случая Фишер проигнорирует даже боль в изуродованных пальцах.
Ветер с воем пробежал по тяжелым волнам сорняков. Нечто прохладное, чуть пахнущее трупным смрадом, прокралось по земле и прикоснулось к щиколотке Нели. Уловив краем глаза шевеление, Неля покосилась на дачный домик и оторопела. За распахнутой дверью, в блеклых потеках искусственного света возвышался человек, одетый в жуткий костюм. Из коровьего черепа с массивной челюстью торчали, как полумесяц, рога, фосфорически светились желтым круглые глаза размером с блюдце, а туловище скрывалось под бесформенными лохмотьями черного брезента. Нелю бросило в холод. Она опустила взгляд, ожидая увидеть ноги нежеланного свидетеля, и мелко задрожала. Ног не было. Из-под брезентовых лохмотьев, не касаясь пола, высовывались десятки червеподобных щупалец – тонких, осклизлых, мясисто-красных. Они слепо змеились в прохладном воздухе, будто нащупывая дорогу. Когда Неля уже готова была завопить, существо медленно, спиной вперед уплыло вглубь дачного домика и слилось с мраком дальней комнаты. Тошнотворное свечение глаз потухло – словно и не было ничего. Шелестела полынь, поскрипывал дом, слабо завывал ветер.
С трудом переставляя негнущиеся ноги, Неля добралась до "нивы", дернула на себя дверь и тяжело повалилась на пассажирское сиденье. Первым, что она заметила, было перекошенное лицо Фишера. Он сидел на месте водителя, на коленях у него лежала спортивная сумка.
- Я тут нашел что-то, - сообщил он срывающимся голосом, - но нам, кажется, лучше туда не возвращаться… Можно потом… Завтра…
- Ты тоже это видел? – спросила Неля, постукивая зубами.
Фишер нервно кивнул. Сунув ему в ладонь ключи от машины, Неля с третьей попытки пристегнулась. Не отрывая взгляда от зеркала заднего вида, где отражался дачный домик, Фишер кинул спортивную сумку на заднее сиденье, тоже пристегнулся и вставил ключ в замок зажигания. Тихо зарычал мотор, вспыхнули фары. Под их ярко-желтым светом, от которого Неле стало не по себе, колыхались волны сорняков, обступившие извилистую колею. Фишер резко повернул руль, и "нива" тронулась с места, подбросив Нелю на ухабе. Вцепившись в поручень над окном, Неля стиснула зубы и усилием воли сдержала крик. "Нива" набрала скорость, оставляя позади ветхую заброшенную дачу. Снаружи грязным калейдоскопом проносились искривленные яблони, бледные зонты борщевика и ветхие домики, где тридцать лет назад кипела жизнь. В темноте салона Неля видела лишь сумрачный профиль Фишера, слабо залитый восковыми отблесками приборной панели. Перед "нивой", обливая ухабистую почву желтым светом, прыгали кляксы фар.
Минут через пятнадцать дорога выровнялась, превратившись из заросшей колеи в проезженную грунтовку, над которой нависали рослые осины лесополосы. Фишер понемногу сбавлял скорость, и за окном всё медленнее полз мертвенно-синий ночной лес, окутанный клочьями зернистого тумана. Тяжело выдохнув, Фишер судорожным движением руки включил на потолке небольшой светильник. Неля утомленно откинулась на спинку сиденья и вытянула перед собой гудящие ноги, заляпанные почвенной грязью. Ухабы отдавались в днище машины резкими толчками. Сжимая в левом кулаке сложенный нож, Неля задумчиво посмотрела на Фишера. Тот напоминал концлагерного мертвеца: на землистом лице темнели чешуйки запекшейся крови, под глазами обозначились темные круги. Фишер вел машину, осторожно уложив на руль раненую кисть.
- Я знаю, куда ехать. Если до рассвета вернемся в лес, возле которого я живу, то никто не заметит, что мы покидали дом, - вымотанным голосом произнес он, глядя на дорогу. – У меня на заборе колючка, но если ты меня подсадишь, я проберусь на задний двор и высажу топором доску в заборе. Потом как-нибудь залатаю.
- По грунтовкам поедем?
- Конечно.
- А машину куда? – засомневалась Неля.
- Тоже в болото. Не лучший вариант, но выбора у нас нет.
Неля перевела взгляд за окно. В рыхлом молочном тумане перешептывались осины, жались друг к другу колючие кустарники, торчали из земли гниющие остовы телеграфных столбов. С мутного звездного неба наблюдал за лесополосой полумесяц – холодный, пористый, бледно-желтый, как старая кость. Вокруг него мелким крошевом искрились звезды.
- И сколько нам еще ехать? – спросила Неля.
- Минут сорок. Мы возле железнодорожного переезда.
Помолчав, она мрачно произнесла:
- Не уверена, что мы сможем туда вернуться.
Неля отчаянно пыталась не думать о том, что видела в тенях дачного домика, отчаянно пыталась сфокусироваться на угоне автомобиля, следах её босых ног на грязных половицах и трупе, который в случае обнаружения явно повесят на неё с Фишером, у которого имелся и опыт, и мотив. Но страх тюремного заключения не мог сравниться с ужасом стылых огней, которые горели в глазницах коровьего черепа – круглые, неподвижные, тошнотворно-желтые.
- Мы должны хотя бы попытаться. Я не хочу оставлять после себя беспорядок. Возможно, днем там уже не будет… этой штуки, - наконец подобрал слова Фишер.
Вдали показались бетонные колоссы – опоры, возвышающиеся по обе стороны от железнодорожного полотна, которые установили в восьмидесятых, чтобы построить эстакаду. Фишер свернул налево, и опоры скрылись за деревьями, а по лобовому стеклу "нивы" с шорохом проползли черные розги веток.
- Меня удивляет, что ты так спокойно реагируешь на криминал, - произнес вдруг Фишер.
- Ты тоже.
- Я за убийство сидел. А ты нет. По крайней мере, мне ты ничего такого не рассказывала.
- Я не сидела. Просто… бывали истории, - кратко ответила Неля, не желая пока вдаваться в подробности.
- Повезло тебе… - тоскливо вздохнул Фишер и замолчал.
Краткий миг откровенности, - первый за всё время их знакомства, - подошел к концу. Неля поднесла к глазам сложенный нож, которым зарезала Щукина, и принялась его рассматривать. Фишер поморщился от боли в правом запястье, которое повредил, пока душил Щукина, и оцепенело уставился перед собой. Забрызганная грязью "нива" медленно ползла сквозь лесополосу, из темноты вырастали черные громады фонарных столбов, которые уже давно не испускали свет, а лес менял окрас – бурое месиво осин постепенно уступало место полосатым стволам берез, кажущихся в темноте голубоватыми. Отвлекшись от ножа, Неля посмотрела в прохладную мглу и заметила свечение. Далеко впереди, там, где грунтовка огибала березовую рощу и сворачивала налево, неподвижно висели в воздухе два йодно-желтых огонька. Похолодев, Неля вгляделась в них и с облегчением выдохнула. Это был всего лишь свет фар.
- Там чья-то машина стоит, - напряженно сообщила она Фишеру и принялась оглядываться. Грунтовку со всех сторон окружали деревья и нагромождения терновника. Сворачивать было некуда.
- Веди себя естественно, - глухо произнес Фишер и выключил светильник под потолком, погрузив салон в полумрак. – Если спокойно проедем мимо, нас не запомнят.
Скрестив руки на груди, Неля собралась с духом. Её сосредоточенный взгляд был прикован к желтым огням. Те медленно набухали и расцветали, обретая зыбкий лучистый ореол. Снопы чужих фар, пересекая дорогу, неподвижно освещали ворох сухих веток и трухлявый пень, а в статичном желтоватом свете слабо подергивались две вытянутые тени – явно человеческие, принадлежащие ребенку и взрослому. Обмякший ребенок висел в воздухе и как будто покачивался, а взрослый стоял перед ним, загадочно шевеля руками.
- Кажется, кто-то суицидника нашел… - сдавленно пробормотал Фишер, разглядывая тени через прищур.
- Что будем делать?
- Проедем мимо. Машина всё равно не наша.
"Нива" приблизилась к повороту,и нежеланный свидетель наконец оказался в поле зрения. У березняка, за которым начиналось тускло-зеленое полотно луга, была криво припаркована лаково-черная "лада". В скрещенном свете фар, ошарашенно уставившись на "ниву", застыла женщина лет сорока – с темными волосами до плеч, одетая в мешковатые брюки, мужскую рубашку и серый мясницкий фартук. В руках женщины, обтянутых медицинскими перчатками, поблескивал линзой фотоаппарат, а на толстой березовой ветви, покачиваясь под натиском ветра, висела в петле избитая девочка – коротко стриженая, одетая под мальчика, в перекосившихся очках с треснутой линзой. Неля стиснула зубы, в ней загорелся мрачный огонь. Она осознала, что однажды уже встречала эту женщину - в мае, когда та покупала в киоске восемь гвоздик. Фишер, судя по его закушенной губе, тоже что-то понял.
Женщина тем временем опомнилась. Странно оскалившись, она рывком повернулась к лугу, за которым высилась черная лесная гряда, и испуганно, с бессильной злобой, завизжала в пустоту:
- Они меня видят? Видят?!
Неле стало не по себе. Фишер нервно сглотнул. Женщина с кем-то разговаривала, однако на лугу никого не было.
- Как они сюда попали?! – вопила женщина, надрывая горло. – Убери их отсюда! Пусть они исчезнут! Пожалуйста!
"Такой свидетель точно не сдас нас ментам", - поняла Неля остатком рассудка, и лишь затем ей открылся истинный смысл происходящего. Фотографировать в День защиты детей повешенную девочку мог лишь один человек – Смородинский маньяк. Мрачный огонь вспыхнул в полную силу, отдавшись в пальцах Нели дрожью предвкушения.
- Ты тоже это видишь?.. – севшим голосом спросил Фишер.
- Сбей её, Евгеша. Сейчас же, - сверкнула Неля почерневшими глазами.
Но Фишер не тронулся с места. Оторопело уставившись в темный горизонт, он безввучно шевелил трясущимися губами. Проследив за его взглядом, Неля увидела, как из далекой лесной мглы выплывает на спящий луг пара ядовито-желтых огней. Нелю охватила неописуемая древняя паника. Она не могла пошевелиться, но ей казалось, что она мысленно кричит, напрягая каждый мускул оцепеневшего тела. Неля оскалила зубы, будто животное, почуявшее опасность. Это инстинктивное чувство было старше нее, старше вида homo sapiens, старше человекоподобных приматов. Это был глубинный ужас доисторического существа, которое еще не встало на две конечности, однако уже понимало основы выживания. Нелю снедало желание выскочить из "нивы" и убежать как можно дальше, словно её укололи иглой в сердцевину мозга.
Сквозь багровую пелену паники Неля услышала свой пронзительный вопль, слившийся с не менее пронзительным, жалобным криком Фишера. Желтые глаза достигли середины луга, вокруг них смолисто-черным саваном подрагивало дымчатое облако.
- Газуй! – завизжала Неля и вслепую ткнула Фишера кулаком под ребра.
Не до конца опомнившись, Фишер вдавил в пол педал газа, и "нива", сорвавшись с места, валко понеслась по грунтовке. Неля отчаянно вцепилась в поручень над окном. В зеркале заднего вида уменьшались, сливаясь с темнотой, ошарашенная женщина с фотоаппаратом, которая всё это время была Смородинским маньяком, повешенная на березе девочка и гнойно-желтые огни нечеловеческих глаз.
- Меня видели! Кто-то видел, как я убиваю эту мразь! – панически кричала Алина Емельяновна, схватив Пряникова за лацканы пиджака. - Ты говорила, что никто, кроме меня, не может сюда попасть! Ты знала, что они будут здесь!
Труп удавленной Даши покачивался над примятой травой. Максим Пряников, сложив на груди мертвенно-белые руки, висел в воздухе перед Алиной Емельяновной, которая гневно его встряхивала. Вид у Пряникова был сытый, даже осоловелый: ленивая улыбка обнажала частокол зубов, а желтые глаза, полуприкрытые веками, сверкали ярче, чем обычно – это не могли скрыть даже спирали черного дыма, медленно выползающие из-под очков.
- Я всего лишь решил показать тебе, что произойдет, если ты еще раз меня разочаруешь, - спокойно произнес Пряников, переведя на Алину Емельяновну колодезный взгляд. - Но теперь тебе вряд ли захочется делать это снова, так что можешь не волноваться.
- И что теперь? Они так и буду ездить по моему городу? А потом пойдут в милицию? – спросила она, злобно прищурившись.
В салоне внедорожника, который бесследно растворился в сизом сумраке лесополосы, было слишком темно. Ослепленная светом фар, Алина Емельяновна разглядела лишь пару бледных пятен – лица двух людей, которые теперь знали об её тайном существовании.
Пряников улыбнулся, оголив верхнюю десну:
- Не пойдут. Очень скоро они будут мертвы. Мне тоже нужно что-то кушать, знаешь ли.
"Дура. Следовало догадаться, что эта тварь кого-то жрет…" – содрогнулась Алина Емельяновна, но одновременно с этим испытала странное облегчение. Вздохнув, она окончательно успокоилась, прекратила мять пиджак Пряникова и, сложив руки на груди, погрузилась в раздумья.
- Не бойся, тебя я есть не собираюсь. Ты отлично справляешься, - произнес Пряников с загробной теплотой. - Сегодня я очень тобой доволен. Правда.
Посерьезнев, Алина Емельяновна подняла на него светлые, как лунный камень, глаза:
- Можешь объяснить, почему ты мне помогаешь?
- Если я скажу, что делаю это от скуки, ты мне поверишь?
- Звучит правдоподобно, - сдержанно сказала она. Мать Душегубов недоговаривала. Была какая-то цель, о которой та не желала распространяться.
"Чего именно ты хочешь? Кто те три кандидата, которых ты упоминала в мае? Зачем ты заставила меня придушить девчонку именно здесь?" – мысленно спросила Алина Емельяновна, однако задавать эти вопросы не решилась, боясь приблизиться к опасной черте.
Пряников, почуяв её настрой, отвечать на эти вопросы не стал.
- Приятного тебе вечера, Алина. Меня ждет ужин, - ласково произнес он. – Помни, что я вижу тебя всегда, где бы ты ни была.
Подернувшись волной помех, Пряников растворился в мерклом воздухе. Вслед за ним, витиевато расплывшись, исчезли и черные спирали дыма. Постояв немного без движения, Алина Емельяновна с облегчением выдохнула и подошла к березе, на которой висела задушенная Даша. Вынув из кармана брюк складной нож, Алина Емельяновна перерезала грубую веревку, свободный конец которой крепился к стволу, и труп Даши рухнул в примятую борьбой траву, словно мешок с сухими листьями, оставшийся после школьного субботника.
Окинув труп задумчивым взглядом, Алина Емельяновна подошла к машине и достала из-под водительского сиденья пакет, где хранился комплект пионерской формы, сшитый на прошлой неделе. Переодев мертвую Дашу, Алина Емельяновна обеими руками ухватилась за свободный конец веревки и повисла на нем. Девичий труп взмыл в воздух. Тяжело дыша от натуги, Алина Емельяновна обвязала свободный конец веревки вокруг березового ствола. Труп в пионерской форме, облитый желтоватым светом фар, закачался на ветру, как маятник. Погрузилась в рыхлую землю тренога с включенной видеокамерой, защелкал фотоаппарат. Из ног трупа, от которых Алина Емельяновна ножовкой отпилила мыски лакированных ботинок, закапала на траву вязкая кровь, смешиваясь с холодной ночной росой.
Исчерпав все возможные ракурсы, Алина Емельяновна вновь перерезала веревку, уложила окоченевший труп на землю и тремя ударами, обрызгав кровью фартук, отрубила Даше голову. Затем, вернувшись к фотоаппарату, она запечатлела изуродованный труп, лежащий в сочной траве: с кровоточащей культей вместо шеи, синеющими кончиками пальцев и обескровленными ногами. Вокруг трупа тут и там желтели закрытые бутоны лютиков.
Отступив к машине, Алина Емельяновна оперлась спиной на холодную дверцу, положила фотоаппарат на капот и вытерла вспотевший лоб рукой. По влажной коже размазалась детская кровь с медицинской перчатки. Легко, по-весеннему вздохнув, Алина Емельяновна запрокинула голову, и её мечтательный взгляд увяз в темно-синем звездном небе, обрамленном узорчатым кружевом деревьев. Алина Емельяновна глядела в холодную космическую глубину, но видела лишь череду мумий, которые висели в её подвальном шкафу, лишь крупные хрустальные бусины со старой люстры, вставленные в опустевшие глазницы. Рыжая девочка с длинными вьющимися волосами, убитая на Смородинском пляже – чистый рукав белой рубашки мешковато свисал там, где раньше находилась правая рука. Тощая наркоманка с голубыми волосами, которой не хватало правой ноги. Кудрявая брюнетка с изрезанными руками, которую Алина Емельяновна встретила на берегу заброшенного котлована – с обугленным ботинком на единственной ноге. Обезглавленная девочка, которую она задушила в переулке между школой и сауной, чьи отрубленные конечности теперь крепились к торсу металлическими крюками. Пионерскую форму четвертой жертвы пятнали бурые пятна засохшей крови.
Вынырнув из стылых грез, Алина Емельяновна посмотрела на мертвую Дашу, которая уже к утру должна была стать мумией, лишенной головы и мысков ботинок. Труп, залитый светом фар, покоился в прохладной траве, а голова валялась чуть поодаль, у сплетения березовых корней: на коже расцветали голубоватые пятна, закатившиеся глаза демонстрировали миру сухие полумесяцы белков, а на носу косо сидели треснувшие очки.
- Так-то, девочки… - с довольной улыбкой произнесла Алина Емельяновна, её глаза подернулись маслянистой пеленой. – Это вам не по пустырям гулять.
Труп удавленной Даши покачивался над примятой травой. Максим Пряников, сложив на груди мертвенно-белые руки, висел в воздухе перед Алиной Емельяновной, которая гневно его встряхивала. Вид у Пряникова был сытый, даже осоловелый: ленивая улыбка обнажала частокол зубов, а желтые глаза, полуприкрытые веками, сверкали ярче, чем обычно – это не могли скрыть даже спирали черного дыма, медленно выползающие из-под очков.
- Я всего лишь решил показать тебе, что произойдет, если ты еще раз меня разочаруешь, - спокойно произнес Пряников, переведя на Алину Емельяновну колодезный взгляд. - Но теперь тебе вряд ли захочется делать это снова, так что можешь не волноваться.
- И что теперь? Они так и буду ездить по моему городу? А потом пойдут в милицию? – спросила она, злобно прищурившись.
В салоне внедорожника, который бесследно растворился в сизом сумраке лесополосы, было слишком темно. Ослепленная светом фар, Алина Емельяновна разглядела лишь пару бледных пятен – лица двух людей, которые теперь знали об её тайном существовании.
Пряников улыбнулся, оголив верхнюю десну:
- Не пойдут. Очень скоро они будут мертвы. Мне тоже нужно что-то кушать, знаешь ли.
"Дура. Следовало догадаться, что эта тварь кого-то жрет…" – содрогнулась Алина Емельяновна, но одновременно с этим испытала странное облегчение. Вздохнув, она окончательно успокоилась, прекратила мять пиджак Пряникова и, сложив руки на груди, погрузилась в раздумья.
- Не бойся, тебя я есть не собираюсь. Ты отлично справляешься, - произнес Пряников с загробной теплотой. - Сегодня я очень тобой доволен. Правда.
Посерьезнев, Алина Емельяновна подняла на него светлые, как лунный камень, глаза:
- Можешь объяснить, почему ты мне помогаешь?
- Если я скажу, что делаю это от скуки, ты мне поверишь?
- Звучит правдоподобно, - сдержанно сказала она. Мать Душегубов недоговаривала. Была какая-то цель, о которой та не желала распространяться.
"Чего именно ты хочешь? Кто те три кандидата, которых ты упоминала в мае? Зачем ты заставила меня придушить девчонку именно здесь?" – мысленно спросила Алина Емельяновна, однако задавать эти вопросы не решилась, боясь приблизиться к опасной черте.
Пряников, почуяв её настрой, отвечать на эти вопросы не стал.
- Приятного тебе вечера, Алина. Меня ждет ужин, - ласково произнес он. – Помни, что я вижу тебя всегда, где бы ты ни была.
Подернувшись волной помех, Пряников растворился в мерклом воздухе. Вслед за ним, витиевато расплывшись, исчезли и черные спирали дыма. Постояв немного без движения, Алина Емельяновна с облегчением выдохнула и подошла к березе, на которой висела задушенная Даша. Вынув из кармана брюк складной нож, Алина Емельяновна перерезала грубую веревку, свободный конец которой крепился к стволу, и труп Даши рухнул в примятую борьбой траву, словно мешок с сухими листьями, оставшийся после школьного субботника.
Окинув труп задумчивым взглядом, Алина Емельяновна подошла к машине и достала из-под водительского сиденья пакет, где хранился комплект пионерской формы, сшитый на прошлой неделе. Переодев мертвую Дашу, Алина Емельяновна обеими руками ухватилась за свободный конец веревки и повисла на нем. Девичий труп взмыл в воздух. Тяжело дыша от натуги, Алина Емельяновна обвязала свободный конец веревки вокруг березового ствола. Труп в пионерской форме, облитый желтоватым светом фар, закачался на ветру, как маятник. Погрузилась в рыхлую землю тренога с включенной видеокамерой, защелкал фотоаппарат. Из ног трупа, от которых Алина Емельяновна ножовкой отпилила мыски лакированных ботинок, закапала на траву вязкая кровь, смешиваясь с холодной ночной росой.
Исчерпав все возможные ракурсы, Алина Емельяновна вновь перерезала веревку, уложила окоченевший труп на землю и тремя ударами, обрызгав кровью фартук, отрубила Даше голову. Затем, вернувшись к фотоаппарату, она запечатлела изуродованный труп, лежащий в сочной траве: с кровоточащей культей вместо шеи, синеющими кончиками пальцев и обескровленными ногами. Вокруг трупа тут и там желтели закрытые бутоны лютиков.
Отступив к машине, Алина Емельяновна оперлась спиной на холодную дверцу, положила фотоаппарат на капот и вытерла вспотевший лоб рукой. По влажной коже размазалась детская кровь с медицинской перчатки. Легко, по-весеннему вздохнув, Алина Емельяновна запрокинула голову, и её мечтательный взгляд увяз в темно-синем звездном небе, обрамленном узорчатым кружевом деревьев. Алина Емельяновна глядела в холодную космическую глубину, но видела лишь череду мумий, которые висели в её подвальном шкафу, лишь крупные хрустальные бусины со старой люстры, вставленные в опустевшие глазницы. Рыжая девочка с длинными вьющимися волосами, убитая на Смородинском пляже – чистый рукав белой рубашки мешковато свисал там, где раньше находилась правая рука. Тощая наркоманка с голубыми волосами, которой не хватало правой ноги. Кудрявая брюнетка с изрезанными руками, которую Алина Емельяновна встретила на берегу заброшенного котлована – с обугленным ботинком на единственной ноге. Обезглавленная девочка, которую она задушила в переулке между школой и сауной, чьи отрубленные конечности теперь крепились к торсу металлическими крюками. Пионерскую форму четвертой жертвы пятнали бурые пятна засохшей крови.
Вынырнув из стылых грез, Алина Емельяновна посмотрела на мертвую Дашу, которая уже к утру должна была стать мумией, лишенной головы и мысков ботинок. Труп, залитый светом фар, покоился в прохладной траве, а голова валялась чуть поодаль, у сплетения березовых корней: на коже расцветали голубоватые пятна, закатившиеся глаза демонстрировали миру сухие полумесяцы белков, а на носу косо сидели треснувшие очки.
- Так-то, девочки… - с довольной улыбкой произнесла Алина Емельяновна, её глаза подернулись маслянистой пеленой. – Это вам не по пустырям гулять.
Густой лес медленно редел, сменяясь местами, которые были хорошо знакомы Фишеру по детским походам с Лорой Генриховной, одиноким подростковым блужданиям и бердвотчингу. Неля сосредоточенно грызла ногти. Медленно ведя машину, Фишер пытался разобраться в собственных мыслях и эмоциях, которые слиплись в вязкий тошнотный сгусток, однако неизбежно утыкался в тупик и лишь чувствовал, как по его щекам стекают слезы. За окнами "нивы" неспешно проплывала синюшная чаща: темные складки местности, поросшие соснами, грязно-зеленые шатры шиповника, острые колья сухих ветвей, слабо различимые в зернистой темноте…
Фишер в очередной раз вгляделся в пустоту, однако вовремя опомнился и аккуратно съехал с грунтовки. "Нива" замерла на месте, уткнувшись носом в поросль ландышей. Заметив вдали крохотные зеленые искры, блуждающие в призрачной мгле, Фишер понял, что наконец добрался до болот, где в апреле утопил труп бешеного пса. Дом был совсем близко. Удрученно проведя здоровой ладонью по лицу, Фишер открыл окно, откинул сиденье и, улегшись на него, утомленно закрыл глаза. В салон машины ввалилась прохладная ночная свежесть. Мерно гудел ветер, перебирая сосновые лапы. Фишер лежал без движения. На груди у него бледным пауком лежала раненая кисть, исчерченная засохшими потеками крови. Тупая ноющая боль струилась сквозь тело, сдавливая затылок, раненые пальцы и правое запястье, а в предвечной темноте медленно ползали, перетекая друг в друга, серые узоры. Однако настоящий мир звучал сегодня иначе, чем обычно. Фишер не мог понять, чего именно не хватает. Открыв глаза, он внимательно прислушался, и уже через минуту изъян стал очевиден.
- Странно. Совсем не кричат птицы… - озадаченно пробормотал он.
- Это всё, что тебя сейчас интересует? – буркнула Неля. Она сидела в пассажирском кресле, натянув подол футболки на замерзшие ноги. Черно-белые волны графика вытянулись и исказились, потеряв изначальную форму.
- Я не хочу думать о том, что мы видели. Если я начну это делать, у меня крыша съедет, - виновато объяснил Фишер.
Склонив голову набок, Неля посмотрела на него темными провалами глазниц:
- Ты очень удивишься, Евгеша, но я знаю эту женщину. Когда я подменяла подругу в киоске, она купила у меня букет гвоздик. Восемь гвоздик. Понимаешь?
- Я тоже её знаю. Очень хорошо знаю, - со смешком произнес Фишер.
Неля удивленно повела головой.
- Это моя учительница музыки, Алина Емельяновна. Когда я ходил в школу, ей было лет двадцать и она лупила детей.
- И тебя тоже?
- Конечно. Ставила меня перед классом, оскорбляла и ломала указки об доску. При мне их штук десять сменилось, - тихо засмеялся он. - Ты не поверишь, но когда мне было пятнадцать, я даже был в неё немножко влюблен. Она тогда унизила гопника, который меня в луже топил.
Выговорившись, Фишер задумался. Теперь он понимал, почему Алина Емельяновна, обнаружив его избитым в кустах рябины, не стала сообщать директору о драке. Теперь он понимал, кто стер кровь с его лица и почему он очнулся тогда в такой странной позе, будто его уложили в гроб.
- Да уж… - задумчиво протянула Неля. – Так вот почему ты такой.
- Какой?
- Мазохист, - кратко ответила она. – И раз уж мы заговорили о тебе, то объясни нормально: что это за мужик был? Который тебя пытал?
Фишер поморщился:
- Нацик, с которым я сидел в одной колонии. Я стучал на него, за это он назвал меня жидом, и я его чуть не задушил.
- Не знала, что тебя так волнует национальный вопрос.
Фишер пристально посмотрел на Нелю:
- А он меня не волнует. Мне этот валенок совсем по другой причине не понравился. Он зашел в неудачное время и оскорбил меня, а потом повернулся ко мне спиной. Я увидел его шею, и мне вдруг очень захотелось его придушить. Будто что-то щелкнуло…
Земля ушла из-под ног, и Фишера опрокинуло в прохладную темноту. Перед глазами кружились, будто распускающиеся цветы, пестрые осколки калейдоскопа. Атональные переливы флейты увязали в тягучем воздухе. Сквозь растянувшееся время и зернистые помехи старых кассет Фишер видел, как Черное Удушье, его любимая порноактриса, крепко держит его за волосы, оттягивая голову назад, как бешеный пес валится на ноздреватый бетон, заполняя кровью холодную лужу с пузырями ливня, как оседает в сочно-зеленую траву рыжий парень, хрипя от нехватки воздуха и звонко роняя пакет с бутылками. Фишер удерживал парня в локтевом захвате, не давая ему упасть окончательно и наслаждаясь последними судорогами уходящей жизни, бешеный пес валялся под проливным дождем, агонически подергивая лапами, Черное Удушье запихивала Фишеру в рот ледяные пальцы с гранатово-красными ногтями, вымазанные теплой человеческой кровью. Смеялись алые губы, на бледных скулах темнели чернильные звезды, жирно подведенные глаза горели желтым, словно янтарь - из них вырывались черные спирали дыма. Цветы калейдоскопа кружились, доводя Фишера до тяжести в желудке, до предчувствия тошноты.
- Щелкнуло в тебе?
- А? – недоуменно моргнул Фишер.
Наваждение исчезло, как следы на мокром песке. В темноте, которая окружала Фишера, слабо просматривался салон "нивы", угнанной у мертвого Щукина. За окнами неподвижно висели рыхлые слои сизого воздуха, тянулись к звездам исполинские сосны. Лунный свет серебрянкой падал на сосновые лапы, чешуйчатые стволы и черную почву, усыпанную хвоей.
- Ты решил задушить его, потому что в тебе что-то щелкнуло? Так ведь? – не унималась Неля. В её голосе слышалось неприкрытое любопытство.
- Прости. Меня до сих пор не отпустило. Он накачал меня кетамином, - пробормотал Фишер.
Намереваясь продолжить разговор, он подался вперед, ощупью вернул спинку кресла в прежнее положение и посмотрел на Нелю, однако тут же слепо распахнул глаза. Зрачки разбухли, как чернильные кляксы. Осознание было резким и сокрушительным. Теперь Фишер знал, что вне его времени существует другая Ленинская область - безлюдная и сумрачная, с неестественной тишиной, в которой не кричат животные и не поют птицы, с поблекшим зернистым воздухом, который принадлежал искусственному миру видеокасет его детства. Хозяйка Болот понимала, что не каждый способен это осмыслить и справедливо оценить её дар. Она понимала, что Фишер способен и на первое, и на второе.
Цепляясь за тающий рассудок, Фишер хлопнул здоровой ладонью по карману пижамы и нащупал под тонкой тканью нечто прохладное. Неля, до предела стиснув зубы, отрешенно глядела перед собой, однако Фишер этого не замечал. Он вынул из кармана то, чего там раньше не было, и у него перехватило дыхание. На его ладони покоился старый детский калейдоскоп – бледно-красный, покрытый мелкими царапинами, размером с палец. Тупо уставившись на калейдоскоп, Фишер приоткрыл рот, словно удивленный фокусом ребенок.
- Откуда у тебя эта хрень?
- Что? – рассеянно переспросил Фишер. Его остекленевший взгляд был прикован к калейдоскопу.
- Откуда у тебя эта хрень?! – прошипела Неля и сунула ему под нос свою ладонь.
В ней лежал похожий калейдоскоп – старый, поцарапанный, тускло-оранжевый, как цветки календулы. Медленно повернув голову, Фишер уставился на Нелю. Её побелевшее лицо искажала плаксиво-злобная гримаса, а глаза, окаймленные разводами туши, бисерно блестели. Фишер понял, что Хозяйка Болот сочла достойным не только его. Его губы дрогнули в нервозной улыбке, которая тут же увяла.
- Давай обсудим это потом, - глухо произнес он и дрожащей рукой спрятал калейдоскоп в карман. – Нам нужно вернуться домой. Теперь можно не прятаться.
- Что с тобой, Женя? – тихо спросила Неля.
Положив руки на руль, Фишер сдал назад. "Нива" вернулась на ухабистую грунтовку и, скользнув фарами по каскаду шиповника, неспешно поползла в сторону Павлозаводска. Вырастал из горизонта темный хребет заболоченного леса, где бродили меж зернистых теней малахитовые огоньки.
- Мы можем вернуться домой незамеченными. Мы вернемся ко мне, и там будет около полуночи. Если я, конечно, не сошел с ума, - произнес Фишер сбивающимся голосом, не отрывая от дороги воспаленного взгляда. – Это все-таки возможно, я читал о таком! Есть теории, которые предполагают существование механизмов!..
- Да что ты, блядь, несешь?! – сорвалась Неля на плаксивый крик, однако тут же притихла и замерла с калейдоскопом в руке, будто её стукнули по затылку.
Фишер молчал. Он лишь смотрел на пыльную дорогу, испещренную ухабами, по которой мятым веером прыгали желтоватые снопы фар. Неля долго не решалась заговорить. Наконец она пошевелилась, сжала в кулаке калейдоскоп и, вытащив из-под длинной футболки бледные ноги, откинулась на спинку сиденья.
- Кажется, я тоже поняла… - дрожащим голосом сказала она. – Давай быстрее. Мне здесь не нравится.
Фишер в очередной раз вгляделся в пустоту, однако вовремя опомнился и аккуратно съехал с грунтовки. "Нива" замерла на месте, уткнувшись носом в поросль ландышей. Заметив вдали крохотные зеленые искры, блуждающие в призрачной мгле, Фишер понял, что наконец добрался до болот, где в апреле утопил труп бешеного пса. Дом был совсем близко. Удрученно проведя здоровой ладонью по лицу, Фишер открыл окно, откинул сиденье и, улегшись на него, утомленно закрыл глаза. В салон машины ввалилась прохладная ночная свежесть. Мерно гудел ветер, перебирая сосновые лапы. Фишер лежал без движения. На груди у него бледным пауком лежала раненая кисть, исчерченная засохшими потеками крови. Тупая ноющая боль струилась сквозь тело, сдавливая затылок, раненые пальцы и правое запястье, а в предвечной темноте медленно ползали, перетекая друг в друга, серые узоры. Однако настоящий мир звучал сегодня иначе, чем обычно. Фишер не мог понять, чего именно не хватает. Открыв глаза, он внимательно прислушался, и уже через минуту изъян стал очевиден.
- Странно. Совсем не кричат птицы… - озадаченно пробормотал он.
- Это всё, что тебя сейчас интересует? – буркнула Неля. Она сидела в пассажирском кресле, натянув подол футболки на замерзшие ноги. Черно-белые волны графика вытянулись и исказились, потеряв изначальную форму.
- Я не хочу думать о том, что мы видели. Если я начну это делать, у меня крыша съедет, - виновато объяснил Фишер.
Склонив голову набок, Неля посмотрела на него темными провалами глазниц:
- Ты очень удивишься, Евгеша, но я знаю эту женщину. Когда я подменяла подругу в киоске, она купила у меня букет гвоздик. Восемь гвоздик. Понимаешь?
- Я тоже её знаю. Очень хорошо знаю, - со смешком произнес Фишер.
Неля удивленно повела головой.
- Это моя учительница музыки, Алина Емельяновна. Когда я ходил в школу, ей было лет двадцать и она лупила детей.
- И тебя тоже?
- Конечно. Ставила меня перед классом, оскорбляла и ломала указки об доску. При мне их штук десять сменилось, - тихо засмеялся он. - Ты не поверишь, но когда мне было пятнадцать, я даже был в неё немножко влюблен. Она тогда унизила гопника, который меня в луже топил.
Выговорившись, Фишер задумался. Теперь он понимал, почему Алина Емельяновна, обнаружив его избитым в кустах рябины, не стала сообщать директору о драке. Теперь он понимал, кто стер кровь с его лица и почему он очнулся тогда в такой странной позе, будто его уложили в гроб.
- Да уж… - задумчиво протянула Неля. – Так вот почему ты такой.
- Какой?
- Мазохист, - кратко ответила она. – И раз уж мы заговорили о тебе, то объясни нормально: что это за мужик был? Который тебя пытал?
Фишер поморщился:
- Нацик, с которым я сидел в одной колонии. Я стучал на него, за это он назвал меня жидом, и я его чуть не задушил.
- Не знала, что тебя так волнует национальный вопрос.
Фишер пристально посмотрел на Нелю:
- А он меня не волнует. Мне этот валенок совсем по другой причине не понравился. Он зашел в неудачное время и оскорбил меня, а потом повернулся ко мне спиной. Я увидел его шею, и мне вдруг очень захотелось его придушить. Будто что-то щелкнуло…
Земля ушла из-под ног, и Фишера опрокинуло в прохладную темноту. Перед глазами кружились, будто распускающиеся цветы, пестрые осколки калейдоскопа. Атональные переливы флейты увязали в тягучем воздухе. Сквозь растянувшееся время и зернистые помехи старых кассет Фишер видел, как Черное Удушье, его любимая порноактриса, крепко держит его за волосы, оттягивая голову назад, как бешеный пес валится на ноздреватый бетон, заполняя кровью холодную лужу с пузырями ливня, как оседает в сочно-зеленую траву рыжий парень, хрипя от нехватки воздуха и звонко роняя пакет с бутылками. Фишер удерживал парня в локтевом захвате, не давая ему упасть окончательно и наслаждаясь последними судорогами уходящей жизни, бешеный пес валялся под проливным дождем, агонически подергивая лапами, Черное Удушье запихивала Фишеру в рот ледяные пальцы с гранатово-красными ногтями, вымазанные теплой человеческой кровью. Смеялись алые губы, на бледных скулах темнели чернильные звезды, жирно подведенные глаза горели желтым, словно янтарь - из них вырывались черные спирали дыма. Цветы калейдоскопа кружились, доводя Фишера до тяжести в желудке, до предчувствия тошноты.
- Щелкнуло в тебе?
- А? – недоуменно моргнул Фишер.
Наваждение исчезло, как следы на мокром песке. В темноте, которая окружала Фишера, слабо просматривался салон "нивы", угнанной у мертвого Щукина. За окнами неподвижно висели рыхлые слои сизого воздуха, тянулись к звездам исполинские сосны. Лунный свет серебрянкой падал на сосновые лапы, чешуйчатые стволы и черную почву, усыпанную хвоей.
- Ты решил задушить его, потому что в тебе что-то щелкнуло? Так ведь? – не унималась Неля. В её голосе слышалось неприкрытое любопытство.
- Прости. Меня до сих пор не отпустило. Он накачал меня кетамином, - пробормотал Фишер.
Намереваясь продолжить разговор, он подался вперед, ощупью вернул спинку кресла в прежнее положение и посмотрел на Нелю, однако тут же слепо распахнул глаза. Зрачки разбухли, как чернильные кляксы. Осознание было резким и сокрушительным. Теперь Фишер знал, что вне его времени существует другая Ленинская область - безлюдная и сумрачная, с неестественной тишиной, в которой не кричат животные и не поют птицы, с поблекшим зернистым воздухом, который принадлежал искусственному миру видеокасет его детства. Хозяйка Болот понимала, что не каждый способен это осмыслить и справедливо оценить её дар. Она понимала, что Фишер способен и на первое, и на второе.
Цепляясь за тающий рассудок, Фишер хлопнул здоровой ладонью по карману пижамы и нащупал под тонкой тканью нечто прохладное. Неля, до предела стиснув зубы, отрешенно глядела перед собой, однако Фишер этого не замечал. Он вынул из кармана то, чего там раньше не было, и у него перехватило дыхание. На его ладони покоился старый детский калейдоскоп – бледно-красный, покрытый мелкими царапинами, размером с палец. Тупо уставившись на калейдоскоп, Фишер приоткрыл рот, словно удивленный фокусом ребенок.
- Откуда у тебя эта хрень?
- Что? – рассеянно переспросил Фишер. Его остекленевший взгляд был прикован к калейдоскопу.
- Откуда у тебя эта хрень?! – прошипела Неля и сунула ему под нос свою ладонь.
В ней лежал похожий калейдоскоп – старый, поцарапанный, тускло-оранжевый, как цветки календулы. Медленно повернув голову, Фишер уставился на Нелю. Её побелевшее лицо искажала плаксиво-злобная гримаса, а глаза, окаймленные разводами туши, бисерно блестели. Фишер понял, что Хозяйка Болот сочла достойным не только его. Его губы дрогнули в нервозной улыбке, которая тут же увяла.
- Давай обсудим это потом, - глухо произнес он и дрожащей рукой спрятал калейдоскоп в карман. – Нам нужно вернуться домой. Теперь можно не прятаться.
- Что с тобой, Женя? – тихо спросила Неля.
Положив руки на руль, Фишер сдал назад. "Нива" вернулась на ухабистую грунтовку и, скользнув фарами по каскаду шиповника, неспешно поползла в сторону Павлозаводска. Вырастал из горизонта темный хребет заболоченного леса, где бродили меж зернистых теней малахитовые огоньки.
- Мы можем вернуться домой незамеченными. Мы вернемся ко мне, и там будет около полуночи. Если я, конечно, не сошел с ума, - произнес Фишер сбивающимся голосом, не отрывая от дороги воспаленного взгляда. – Это все-таки возможно, я читал о таком! Есть теории, которые предполагают существование механизмов!..
- Да что ты, блядь, несешь?! – сорвалась Неля на плаксивый крик, однако тут же притихла и замерла с калейдоскопом в руке, будто её стукнули по затылку.
Фишер молчал. Он лишь смотрел на пыльную дорогу, испещренную ухабами, по которой мятым веером прыгали желтоватые снопы фар. Неля долго не решалась заговорить. Наконец она пошевелилась, сжала в кулаке калейдоскоп и, вытащив из-под длинной футболки бледные ноги, откинулась на спинку сиденья.
- Кажется, я тоже поняла… - дрожащим голосом сказала она. – Давай быстрее. Мне здесь не нравится.
Мрачный и хмурый, Юдин ходил из стороны в сторону, сложив руки за спиной. Под подошвами его ботинок шуршал бурый песок дикого пляжа, хрустели осколки бутылок и мятые пластиковые стаканчики. В бархатной черноте неба висела алебастровая луна. Её холодный свет лился, как кисель, на противоположный берег, занятый лесополосой, отражался дрожащими бликами в мазутно-черной речной глади, очерчивал контуры ржавой трубы, которая выныривала из песка и окуналась жерлом в сонные прибрежные волны. Через дорогу от пляжа одиноко горели окна выцветших панельных домов. За крашеными заборами, горбясь шиферными и металлическими крышами, спали частные дома, сгрудившиеся на берегу Смородины в жилой квартал.
"Всё началось здесь", - подумал Юдин.
Размеренно шагая, оставляя после себя ямки, которые тут же заполнялись осыпающимся песком, Юдин пытался влезть в шкуру Ленинского душителя, который вчера, в День защиты детей совершил свое пятое убийство. Как и прежде, никто ничего не заметил – лишь утром следующего дня обнаружили в Матросовском микрорайоне отрубленную голову. Голова валялась в узком переулке между сауной, репутация которой была сомнительной, и общеобразовательной школой, обнесенной невысоким беленым забором с ромбовидными отверстиями.
Коротко стриженая девочка с черными волосами, которая при жизни носила очки и пока оставалась безымянной, погибла от удавления веревкой – на это указывала первая странгуляционная борозда. Вторая борозда говорила о том, что после смерти труп девочки подвешивали в петле. Синюшное лицо покрывали мелкие точки кровоизлияний, хрящи гортани были переломаны. Биологического материала преступника в ротовой полости снова не оказалось. Единственной новой уликой были лишь волоски кроличьей шерсти, прилипшие к запекшейся крови на срезе шеи.
В тот же день к Юдину в кабинет пыталась попасть журналистка из Москвы, будто она уже давно ждала удачного момента в городской гостинице. Елену Идельман она внешне не напоминала, однако вызвала у Юдина не меньшее раздражение. Разговаривать с ней он отказался, сославшись на тайну следствия. О Ленинском душителе и без того уже писали в газетах соседних областей, а внимание московских коллег, которые обычно приезжали на всё готовое, делали финальный ход и приписывали успех себе, было последним, что Юдин хотел на себе испытать.
К тому же, давил полковник Крыгин, озабоченный личным благополучием: он хотел, чтобы Юдин арестовал хоть кого-нибудь и закрыл наконец это дело. Юдин вежливо возразил ему, что если дело закроют, приписав убийства первому попавшемуся уголовнику, потом всё равно придется открывать еще одно дело, и пообещал приложить все свои силы, чтобы найти настоящего убийцу. А поторопиться действительно стоило. Жители Павлозаводска начали отзываться о работе полиции совсем уж нелестно, они больше не пускали своих детей гулять после наступления темноты. Теперь по безлюдным ночным улицам бродили лишь те дети, которые были зачаты случайно и родителей не интересовали.
Совокупность факторов, - найденная голова, журналистка из Москвы и напряженный тон полковника Крыгина, - привели Юдина туда, где всё началось – на Смородинский пляж. Расхаживая по шуршащему песку, тускло отражая звездами погон лунный свет, Юдин смотрел перед собой и пытался представить повседневную жизнь Ленинского душителя, однако видел совсем другое: как избитый Фишер с окровавленным лицом валяется в жухлой траве лесополосы, как черенок лопаты передавливает ему горло, как Фишер медленно умирает, булькающе задыхаясь, а изо рта у него лезут кровавые пузыри.
"Чушь. У Фишера нет кроликов. Только собака и кот", - одернул себя Юдин.
Отогнав навязчивое видение, он сосредоточился и наконец почувствовал себя низкорослым, интеллигентно выглядящим юношей, который окончил школу и поступил то ли в мединститут, то ли в академию МВД. Дальнейшая его судьба была отвратительной: юноша совершил изнасилование или убийство, - скорее всего, спонтанно, - и угодил в исправительную колонию. Теперь этот юноша, превратившийся во взрослого мужчину, жил в Павлозаводске и вылавливал на ночных улицах жертв, пользуясь автомобилем – либо своим, либо служебным.
- А на досуге вычищает кроличьи клетки… - пробормотал Юдин себе под нос, устремив взгляд в темный горизонт, где жались друг к другу темные силуэты частных домов.
Догадка вспыхнула, как зажженный фитиль. Расплывшись в теплой улыбке, Юдин достал из кармана кителя смартфон и, поблескивая глазами, отыскал в записной книжке номер Гатауллина. Тот, несмотря на поздний час, ответил сразу.
- Да, Роман Викторович? – спросил он. В его голосе не было ни капли сонливости.
С трудом сдерживая охотничий азарт, Юдин из вежливости поинтересовался:
- Ринат, ты сейчас где?
- Дома. Проверяю медиков.
- Отложи пока медиков. Мне нужно знать, кто из жителей частного сектора держит кроликов, - приказал Юдин, расхаживая по бурому пляжу. – Составь два списка: в первый включи всех, у кого есть кролики, во второй – всех сидевших мужчин, у которых есть кролики. Особенно тщательно проверь частный сектор возле Смородины и на востоке.
- Женщин в первый список добавлять? – апатично спросил Гатауллин.
- Конечно. Наш Душитель может проживать не один.
- Понял. Я свяжусь с участковыми, - согласился Гатауллин и положил трубку.
Победно усмехнувшись, Юдин убрал смартфон обратно в карман и обвел безлюдный пейзаж гордым взглядом. На темной речной глади плясали кипенно-белые блики луны, тянулась к звездному небу лесополоса. В синеватом мраке летней ночи горели желтым, будто волчьи глаза, окна панельных домов.
"Всё началось здесь", - подумал Юдин.
Размеренно шагая, оставляя после себя ямки, которые тут же заполнялись осыпающимся песком, Юдин пытался влезть в шкуру Ленинского душителя, который вчера, в День защиты детей совершил свое пятое убийство. Как и прежде, никто ничего не заметил – лишь утром следующего дня обнаружили в Матросовском микрорайоне отрубленную голову. Голова валялась в узком переулке между сауной, репутация которой была сомнительной, и общеобразовательной школой, обнесенной невысоким беленым забором с ромбовидными отверстиями.
Коротко стриженая девочка с черными волосами, которая при жизни носила очки и пока оставалась безымянной, погибла от удавления веревкой – на это указывала первая странгуляционная борозда. Вторая борозда говорила о том, что после смерти труп девочки подвешивали в петле. Синюшное лицо покрывали мелкие точки кровоизлияний, хрящи гортани были переломаны. Биологического материала преступника в ротовой полости снова не оказалось. Единственной новой уликой были лишь волоски кроличьей шерсти, прилипшие к запекшейся крови на срезе шеи.
В тот же день к Юдину в кабинет пыталась попасть журналистка из Москвы, будто она уже давно ждала удачного момента в городской гостинице. Елену Идельман она внешне не напоминала, однако вызвала у Юдина не меньшее раздражение. Разговаривать с ней он отказался, сославшись на тайну следствия. О Ленинском душителе и без того уже писали в газетах соседних областей, а внимание московских коллег, которые обычно приезжали на всё готовое, делали финальный ход и приписывали успех себе, было последним, что Юдин хотел на себе испытать.
К тому же, давил полковник Крыгин, озабоченный личным благополучием: он хотел, чтобы Юдин арестовал хоть кого-нибудь и закрыл наконец это дело. Юдин вежливо возразил ему, что если дело закроют, приписав убийства первому попавшемуся уголовнику, потом всё равно придется открывать еще одно дело, и пообещал приложить все свои силы, чтобы найти настоящего убийцу. А поторопиться действительно стоило. Жители Павлозаводска начали отзываться о работе полиции совсем уж нелестно, они больше не пускали своих детей гулять после наступления темноты. Теперь по безлюдным ночным улицам бродили лишь те дети, которые были зачаты случайно и родителей не интересовали.
Совокупность факторов, - найденная голова, журналистка из Москвы и напряженный тон полковника Крыгина, - привели Юдина туда, где всё началось – на Смородинский пляж. Расхаживая по шуршащему песку, тускло отражая звездами погон лунный свет, Юдин смотрел перед собой и пытался представить повседневную жизнь Ленинского душителя, однако видел совсем другое: как избитый Фишер с окровавленным лицом валяется в жухлой траве лесополосы, как черенок лопаты передавливает ему горло, как Фишер медленно умирает, булькающе задыхаясь, а изо рта у него лезут кровавые пузыри.
"Чушь. У Фишера нет кроликов. Только собака и кот", - одернул себя Юдин.
Отогнав навязчивое видение, он сосредоточился и наконец почувствовал себя низкорослым, интеллигентно выглядящим юношей, который окончил школу и поступил то ли в мединститут, то ли в академию МВД. Дальнейшая его судьба была отвратительной: юноша совершил изнасилование или убийство, - скорее всего, спонтанно, - и угодил в исправительную колонию. Теперь этот юноша, превратившийся во взрослого мужчину, жил в Павлозаводске и вылавливал на ночных улицах жертв, пользуясь автомобилем – либо своим, либо служебным.
- А на досуге вычищает кроличьи клетки… - пробормотал Юдин себе под нос, устремив взгляд в темный горизонт, где жались друг к другу темные силуэты частных домов.
Догадка вспыхнула, как зажженный фитиль. Расплывшись в теплой улыбке, Юдин достал из кармана кителя смартфон и, поблескивая глазами, отыскал в записной книжке номер Гатауллина. Тот, несмотря на поздний час, ответил сразу.
- Да, Роман Викторович? – спросил он. В его голосе не было ни капли сонливости.
С трудом сдерживая охотничий азарт, Юдин из вежливости поинтересовался:
- Ринат, ты сейчас где?
- Дома. Проверяю медиков.
- Отложи пока медиков. Мне нужно знать, кто из жителей частного сектора держит кроликов, - приказал Юдин, расхаживая по бурому пляжу. – Составь два списка: в первый включи всех, у кого есть кролики, во второй – всех сидевших мужчин, у которых есть кролики. Особенно тщательно проверь частный сектор возле Смородины и на востоке.
- Женщин в первый список добавлять? – апатично спросил Гатауллин.
- Конечно. Наш Душитель может проживать не один.
- Понял. Я свяжусь с участковыми, - согласился Гатауллин и положил трубку.
Победно усмехнувшись, Юдин убрал смартфон обратно в карман и обвел безлюдный пейзаж гордым взглядом. На темной речной глади плясали кипенно-белые блики луны, тянулась к звездному небу лесополоса. В синеватом мраке летней ночи горели желтым, будто волчьи глаза, окна панельных домов.
Глава 10
Подвал
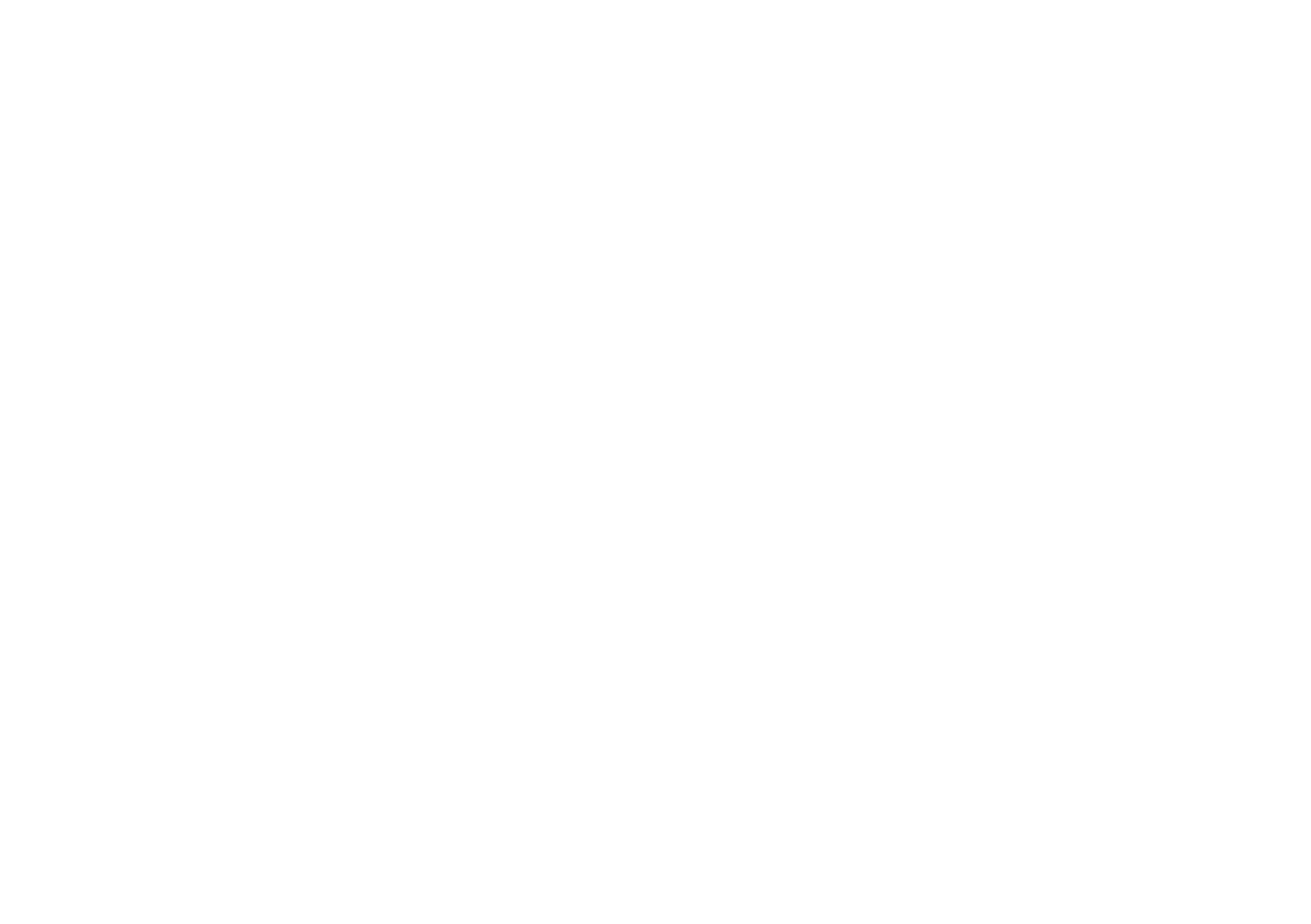
1969 год, 30 января
- Это действительно настолько срочно? Может, лучше завтра вас отвезти? – встревоженно спросил Гельмут, не отрывая взгляда от дороги.
На руле угловатыми штрихами лежали его мясистые пальцы. По обледенелому асфальту скользили болезненно-желтые веера фар, в которых мушиным роем метался снег. Служебный "мерседес" Рудольфа мчался сквозь ночную мглу по единственной дороге, ведущей в Гитлерштадт.
- И почему же завтра? – нахмурился Рудольф. Он с некоторым недоверием посмотрел в зеркало заднего вида, где отражалось румяное лицо Гельмута, чуть искаженное зеленоватыми отсветами приборной панели. В этом неестественном освещении Гельмут напоминал одутловатый труп.
- Вы же сами видите. Буран, гололед…
- Здесь всю зиму такая погода. Предлагаешь мне до лета ждать?
Рудольфу не хотелось возвращаться в концлагерь, где в библиотеке уже наверняка остывал мертвый Рубинштейн, задушенный разъяренным Страшко. Полчаса назад Рудольф чуть ли не повалился на заднее сиденье, поправил сбившуюся фуражку с мертвой головой и твердо решил, что доведет дело до конца сегодня же – какой бы суровой ни была местная погода. Он полагал, что впереди его ждут лишь неловкий разговор с городскими властями и безрадостная неделя в паульмундской гостинице "Альпы" – на тот случай, если обличение Страшко потребует его присутствия. Рудольфа не смущала даже разбушевавшаяся вьюга, которая простуженно выла где-то снаружи, колыхая зеленую муть еловых теней и серебрящиеся волны сугробов.
- Можешь ехать медленно, если хочешь. Но до Гитлерштадта меня довези. Это очень срочно, - смягчился Рудольф.
- У герра коменданта обнаружились скелеты в шкафу? – спросил Гельмут. Рудольф не сразу догадался, что это была угодливая шутка.
- Скелеты? – нервно усмехнулся он. – Да, можно и так сказать…
Сложив руки на груди, словно защищаясь от невидимой угрозы, он мрачно уставился перед собой. Во внутреннем кармане его кителя были надежно спрятаны вещественные доказательства, которые Рудольф планировал передать местному управлению СС: конверт с фотографией избитого гитлерюнге и записка Рубинштейна. И хотя текст записки был крайне обтекаемым, вкупе с фотографией она могла стать весомым аргументом.
"Если это вообще почерк Рубинштейна…" – промелькнула у Рудольфа параноидальная мысль.
Восстановив в памяти тот день, когда он впервые посетил лагерную библиотеку, Рудольф перебрал все детали, которые смог выудить из мимолетных наблюдений, и перед его мысленным взором возникли читательские карточки, заполненные аккуратным косым почерком. Записку, которую Рудольф обнаружил у себя в комнате, явно написал Рубинштейн.
Теперь, имея на руках неопровержимые улики, Рудольф мог доказать отцу, которого видел в последний раз три недели назад, в сумрачном кабинете его берлинской виллы, что он все-таки стал настоящим мужчиной, стал настоящим офицером. Раскрыв преступления Страшко, можно было спасти еще живых мальчиков, которые даже не подозревали, насколько гадкая их ожидает судьба. А судьба Рубинштейна Рудольфа не волновала. В конце концов, Рубинштейн был мишлингом, уголовным преступником и хладнокровным убийцей. Он заслуживал смерти.
Вдали затрепетал тускло-белый огонек. Чем дальше пробирался по обледенелой дороге "мерседес", тем отчетливее Рудольф видел уже не размытый потек электрического света, а высокий фонарный столб, под которым возвышалась в снегу гипсовая стела. На посеревшем от времени фундаменте слабо выделялись синие готические буквы – Паульмунд, а чуть выше располагался герб города – медведь, держащий в лапах заводскую шестеренку. Зеленые зубцы за его спиной изображали схематичный лес. Рудольф поморщился. В том, что новая власть посчитала символами Паульмунда, ему виделась лишь неловкая насмешка над гербом Берлина.
Хрипло взвыла за окном буря, и в лобовое стекло врезался бесформенный ком метели. В его белесой глубине злобно сверкнули ледянисто-желтые глаза. Рудольф непроизвольно вжался в сиденье. Он вспомнил, что однажды уже видел эти глаза – в несвязном бредовом кошмаре, которым завершился первый день, проведенный в стылом поезде до Паульмунда.
Мир наполнился скрежетом, время замедлилось, обострив формы и цвета. Гельмут до упора выкрутил руль. "Мерседес" слетел с дороги, устремился в высокий сугроб, в мутно-зеленую тень еловых ветвей. Рудольфа отбросило вправо. Он ударился виском об холодное оконное стекло, на периферии зрения опрокинулась дорога с гипсовой стелой. Рудольф видел чеканные кириллические буквы, образующие название города, видел лаконичную композицию из чайки, заводской шестеренки и острых речных волн. Слабо вскрикнув от глубинного ужаса, Рудольф обмяк и рухнул на пол, впечатавшись лицом в резиновый коврик.
Промерзший воздух удушливо сочился сыростью, перед глазами бешено, как в калейдоскопе, металось негреющее пламя флюоресцентной лампы, дрожали желтоватые пятна на беленом потолке. Превозмогая головокружение, Рудольф неуклюже встал на ноги и тупым взглядом обвел просторное, практически пустое помещение, в котором он никак не мог находиться. Свинцово-серый кафель под его сапогами тускло отражал искусственный свет, стены покрывала болотно-зеленая масляная краска. Головокружение понемногу сходило на нет. Рудольф нерешительно осмотрелся, однако сразу же замер, будто застигнутый врасплох заяц. Он заметил темный проход, притаившийся в самом дальнем углу, по правую стену. Его бетонные ступени уходили наверх, в угольно-черный мрак.
Рудольфа прошибла мелкая дрожь. Втягивая изможденными ноздрями вязкий воздух, он с трудом сделал вдох. Мир казался тусклым, как это обычно бывало после кокаинового марафона. Рудольф моргнул, надеясь избавиться от этой серовато-синей пелены, однако ничего не произошло - лишь пробежала по воздуху зернистая рябь. Похолодев от липкого страха, Рудольф медленно обернулся и оцепенел. Его бледно-голубые глаза широко распахнулись.
По левую стену, выкрашенную точно такой же зеленой краской, виднелась металлическая дверь с жестяной табличкой. Острые готические буквы на ней складывались в слово "электрощитовая". В ближайшем к ней углу тянулась сквозь пол и потолок тонкая, чуть ржавая труба, а рядом с ней покоился на полу выцветший матрас в красную полоску, испещренный грязно-бурыми пятнами. Поверх матраса неряшливо валялось выгоревшее лоскутное одеяло. У подножья трубы, свернувшись металлической змеей, лежала блестящая, явно новая цепь.
Нервно сглотнув, Рудольф принялся расстегивать шинель. Пальцы дрожали и не слушались, одна из пуговиц оторвалась и с жалобным звоном поскакала по кафелю. Рудольф лихорадочно расстегнул китель и выхватил из внутреннего кармана фотографию избитого гитлерюнге. Чуть постукивая зубами, он выставил снимок перед собой. Грязно-зеленый цвет стен, которые теперь обступали Рудольфа, слился с таким же цветом стен на снимке. Всё встало на свои места.
- Вот мы и встретились. Я уже давно хочу с тобой поговорить, - раздался у Рудольфа за спиной мужской голос – холодный, властный, приправленный знакомой картавостью.
Резко повернувшись, Рудольф впился ошеломленным взглядом в того, кто с ним заговорил. Он остолбенел, будто его сковало льдом. Возле бетонной лестницы, уходящей в густую темноту, стоял человек в пальто и шляпе, которого Рудольф определенно знал. Точнее, нечто, притворяющееся этим человеком. Рост Октава никогда не достигал двух метров. У Октава никогда не светились желтым глаза, из них не тянулись к потолку спирали черного дыма. Октав не был мертвецом с творожисто-белой кожей, синюшными губами и излишне длинными пальцами, напоминающими паучьи лапы.
Мертвец изогнул губы в дружелюбной улыбке, уставился на Рудольфа фосфорически-желтыми огоньками глаз и, чуть припадая на левую ногу, медленно поковылял в его сторону. Рудольфа обдало смрадом гниющей крови, разлагающейся плоти и холодного железа.
- Не подходи! – завопил Рудольф во всё горло.
Сжимая в руке фотографию, он шарахнулся назад и ударился спиной об холодную дверь электрощитовой. Дверь слабо загудела. Теперь Рудольфа и мертвеца разделяло лишь несколько метров. Изображая беспечность, мертвец неспешно приближался к Рудольфу. Каблуки ботинок гулко стучали по кафелю, билось об стены угасающее эхо. Расстояние сокращалось. Наконец, когда до Рудольфа оставалось всего два шага, мертвец остановился. Вежливая улыбка на его бескровных губах стала чуть шире, обнажив заостренные зубы.
- Только попробуй… - пробормотал Рудольф срывающимся голосом.
Глядя на мертвеца снизу вверх, он испуганно вжался в дверь. Он вспомнил, каким отрешенным, но все-таки живым был Октав три недели назад, когда приходил к нему на Унтер-ден-Линден. Жуткая неестественность мертвеца, его звериные глаза, чадащие дымом, и чрезмерно высокий рост казались теперь совсем уж запредельными.
Однако существо, кажется, не было агрессивным. Продолжая улыбаться, оно картаво произнесло:
- Меня зовут Кутур-Ага, но раз уж ты уважаешь только европейские языки, да и то не все, я сделаю для тебя исключение. Можешь называть меня Отцом Душегубов.
Рудольф лишь растерянно моргнул. Изменившись в лице, Отец Душегубов мрачно нахмурился, и Рудольф ощутил на себе его немигающий, плотоядный взгляд. Комната покачнулась, ослабевшие пальцы Рудольфа разжались. Фотография с избитым гитлерюнге упала, как осенний лист, на пепельно-серый кафель.
Силясь сохранить в целости шаткий рассудок, Рудольф отчаянно схватился за голову. В ушах утробно гудел кровоток, перед глазами подрагивало душное летнее марево. Тяжким грузом на Рудольфа навалились образы другого Паульмунда, где на бетонных фасадах правительственных зданий, украшенных советскими барельефами, развевался власовский триколор, где горел, храня память о ветеранах-красноармейцах, Вечный Огонь, где возвышался над запущенным сквером облупившийся памятник Ленину с пробитой головой, а вдоль пыльных дорог теснились небольшие продуктовые магазины и аптеки с кириллическими вывесками. Не выдержав напора видений, Рудольф сполз по двери на пол, зажмурился и издал сдавленный крик. Образы русского Паульмунда, ушедшего на шестьдесят лет вперед, вспыхивали в предвечной темноте, будто раскаленные угли. Щуплая Магалл, одетая в мешковатую рубашку, излишне узкие брюки и берцы, ехала на велосипеде по пыльной обочине дороги, вдоль которой теснились приземистые, чуть ли не деревенские дома с выгоревшим шифером крыш и душистыми тенями палисадников. Угрюмый Октав в черном дождевике неспешно брел сквозь ельник, испещренный золотистыми отсветами солнца. На шеё у него висел фотоаппарат, правую кисть обвивал эластичный бинт, а лицо пятнали фиолетовые синяки. Женщина лет сорока, отдаленно напоминающая Страшко, катила по безлюдному моргу каталку с холодным юношеским трупом, чье горло пересекал темный порез. На её багровых губах блуждала загадочная улыбка. Наконец Рудольф увидел человека, в котором опознал крайне искаженного себя. Этот человек носил то ли армейскую, то ли полицейскую униформу темно-синего цвета, он парковал серый "БМВ" перед деревянными воротами частного дома. Из заросшего цветами палисадника, который примыкал к дому и ложился на его крышу зеленью берез, на искаженного Рудольфа смотрела девочка лет девяти, одетая в голубой сарафан. Солнце било девочке в глаза, и она заслонялась от него козырьком ладони.
- У тебя и впрямь слабая психика. Очень жаль… - прорвался сквозь слои времени разочарованный голос Отца Душегубов. Рудольфа выбросило обратно в холод грязно-зеленого помещения, набитого трупным запахом неведомых скотобен.
- Но мне от тебя многого и не нужно, - мягко добавил Отец Душегубов.
Собравшись с духом, Рудольф кое-как встал на ноги, цепляясь за дверь электрощитовой. У него дрожали колени, но он даже не пытался это скрыть. Его сердце бешено колотилось, но он даже не пытался перевести дыхание. Рудольф чувствовал, как ему под кожу гадостными мокрицами заползает страх. В последний раз он испытывал нечто подобное лет десять назад, когда принял по неопытности слишком много первитина и следующие трое суток не мог заснуть, шарахаясь от каждой тени и выискивая на руках несуществующие гнойники.
- Где я? Что это за место?.. – с опаской выдавил Рудольф, пытаясь сдержать панику.
Его не покидало ощущение, будто искаженный двойник Октава покопался у него в голове бледными паучьими пальцами, переворошив смутные воспоминания о чувствах, которые Рудольф, испытав однажды, испытывать больше не хотел.
- Подвал охотничьего домика. Раньше здесь был бункер, построенный прежним владельцем на случай ядерной войны.
- А ты кто такой? – без особой надежды продолжил расспросы Рудольф. Иллюзия контроля удерживала его от унизительной истерики.
Отец Душегубов усмехнулся:
- Тебе не обязательно знать, кто я такой и что я делаю на своей земле. Потому что я был здесь всегда. Это моя земля, а не ваша. И что бы вы ни делали, она всегда будет моей.
- Господи… - пробормотал Рудольф. Он чувствовал себя беспомощным, как избитый ребенок.
Отец Душегубов вынул из кармана пальто черепаховый портсигар и щелкнул зажигалкой. К потолку устремилась сизая струйка дыма.
- Ты считаешь мир предельно понятным, но это не так. Мир, в котором ты живешь, намного сложнее, чем кажется, - произнес он. – У него есть множество отражений, разделенных тонкой тканью пространства и времени. Иногда, конечно, зеркало попадается кривое, и отражение искажется: время замедляется или бежит вперед, меняется характер людей, их национальность…
Рудольф остекленело смотрел в одну точку, силясь осознать происходящее, но каждая мысль обрывалась на полуслове и соскальзывала в звенящую пустоту. Отец Душегубов курил и задумчиво улыбался уголками губ, в черном дыму его глаз мерцали грязно-желтые огоньки. Рудольф нащупал позади себя дверную ручу и подергал в обе стороны. Дверь не поддавалась.
- Электрощитовая заперта на ключ. Но тебе туда пока нельзя, - спокойно сообщил Отец Душегубов.
"Это галлюцинация. Валяюсь сейчас в машине, которая в дерево вписалась…" – посетила Рудольфа отчаянная мысль.
- Зря ты меня боишься. У меня ведь на тебя планы. Если ты избавишься от людей, которые мне наскучили, ты получишь то, что очень тебе нужно.
- Откуда ты вообще можешь знать, что именно мне нужно? – сдавленно выдавил Рудольф.
- Я перенес тебя сюда, принял облик человека, которого ты знаешь, и показал тебе другой Паульмунд. Как думаешь, могу ли я знать, чего тебе хочется больше всего?
- Похоже на то… - покорно согласился Рудольф.
Отец Душегубов промолчал и задумался, будто не зная, как продолжить разговор. Нахмурившись, он принялся ходить из стороны в сторону, подволакивая за собой левую ногу, со стуком ступая по кафелю. Зажженная сигарета в его изуродованных пальцах не становилась короче. Черные спирали дыма тянулись за ним черным илистым шлейфом, медленно растворяясь в промерзшем воздухе. Рудольфа вновь захлестнула волна посмертного зловония, к горлу подкатила давящая тошнота. Его не покидало ощущение, будто с ним разговаривает ожившая антисемитская карикатура, которая почему-то превратилась в персонажа дегенеративного фильма ужасов, снятого по американским лекалам.
- Мне очень жаль, что наш друг-полукровка не подошел под мои требования, - заговорил наконец Отец Душегубов. - Впрочем, это поправимо. Я всегда могу заняться Гершелем в другом месте, где у него больше перспектив.
- Гершелем? – недоуменно переспросил Рудольф.
Остановившись, Отец Душегубов окинул его презрительным взглядом:
- Я говорю о человеке, которому пришлось носить чужое имя. Ты знал его под именем Октав Леопольд Гаже, но на самом деле его звали иначе. Его звали Гершель Либерман.
Рудольф насторожился. Всё, что он только что услышал, звучало крайне подозрительно. Непрошеные догадки роились в его голове, как мясные мухи над тухлым куском говядины.
- А кто обычно подходит под твои требования? – отважился спросить Рудольф, выбрав наиболее важную на данный момент мысль.
Успокоившись, Отец Душегубов вновь принялся ходить из стороны в сторону. Красноватая искра сигареты была настолько яркой, что резала глаза и казалась чужеродной в холодном синюшном воздухе. Отец Душегубов изо всех сил сохранял беспристрастный вид, но его губы подрагивали, будто он не мог сдержать улыбку. Все-таки выпустив её наружу, он снова остановился и хитро взглянул на Рудольфа:
- А ты с ними уже знаком. Анатолий, Эрвин… Видишь ли, у Эрвина истощилась фантазия, и мне пришлось познакомить его с Анатолием. Это было очень удобно, они ведь коллеги. Честно скажу, раньше моим подопечным было гораздо проще. Никаких отпечатков пальцев, никаких генетических экспертиз…
- Что?.. – глухо переспросил Рудольф. В его побледневшем, перекошенном лице читался неподдельный ужас.
- У вас пока нет таких технологий. Появятся лет через двадцать.
- Я не об этом. Ты упомянул Эрвина… - с трудом произнес Рудольф. – Ты имеешь в виду Эрвина Менгеле? Коменданта, с которым я ужинал?
- Ужин с тобой не делает человека законопослушным гражданином.
Рудольф судорожно вздохнул. Чужак неопределенного, возможно, космического происхождения, воняющий смрадом могил и загустевшей кровью, вел себя неожиданно дружелюбно, хоть и срывался иногда на презрение, но чем больше он рассказывал, тем меньше Рудольфу хотелось ему доверять. Каждое слово Отца Душегубов могло оказаться ложью.
- Ты хочешь, чтобы я убил Менгеле? – нервно уточнил Рудольф.
Отец Душегубов довольно кивнул.
- Я не могу. Он порядочный немец, он служит в СС… - пробормотал Рудольф. – Я не хочу убивать Менгеле…
- Когда я расскажу тебе, чем именно он любит заниматься в свободное время, и предоставлю тебе часть доказательств, ты захочешь это сделать. Мне даже придется упрашивать тебя, чтобы ты подождал до назначенной даты.
- У него профдеформация, это правда, - с опаской возразил Рудольф, - но это не значит, что он….
- Не спорь, - холодно перебил его Отец Душегубов. - Через шесть дней ты вернешься в этот подвал и застрелишь их обоих. И Анатолия, и Эрвина. Я не требую от тебя изысков, это не в твоем характере, но избавиться от них тебе придется – хочешь ты этого или нет.
Набравшись смелости, Рудольф произнес:
- Я готов убить этого дегенерата Страшко, но Менгеле…
- ...гораздо хуже, чем Анатолий.
- Это невозможно. Менгеле женат, и у него есть дети.
- Анатолий тоже женат, и у него, представь себе, тоже есть дети, - угрожающим тоном парировал Отец Душегубов. – Но это не мешает ему вешать мальчиков и онанировать на их трупы.
Услышав это, Рудольф растерял все аргументы, которые у него были. Он потрясенно смотрел на чужака, притворяющегося Октавом. До него запоздало дошло, что пропавшие мальчики действительно были делом рук Страшко, что библиотекари-мишлинги являлись для него лишь временной отдушиной. Все подозрения Рудольфа оказались правдой.
- Эрвин любит насиловать, но не любит убивать, - небрежно объяснил Отец Душегубов и затянулся сигаретой. – Он всегда делал это неохотно, лишь для того, чтобы не оставлять свидетелей. Однако потом у него появился я. И я познакомил его с Анатолием.
- Менгеле… насилует мальчиков? – севшим голосом переспросил Рудольф.
- Да. Подростков арийской внешности. А потом Анатолий выполняет за него грязную работу и вешает мальчика, вот на этом крюке, - указал Отец Душегубов искривленным пальцем куда-то наверх. – Подбирает объедки, так сказать.
Помертвевший взгляд Рудольфа проследовал в указанную точку. Там, ввинченный в потолок, поблескивал небольшой крюк. Рудольфа охватило нездоровое волнение, мелко застучали зубы. В носоглотке возник и сразу же исчез фантомный запах кокаина. Крюк нестерпимо серебрился под флюоресцентным светом, как холодный полумесяц в звездной мгле. Рудольфа мутило, но он не мог перестать смотреть, будто перед ним был концентрат всего того ужаса, который Паульмунд испытывал уже несколько лет подряд.
- Пока мальчик агонизирует в петле, Анатолий снимает его на камеру, а затем онанирует на труп, - так же небрежно продолжил Отец Душегубов. – Его недуг настолько серьезен, что у него даже с мертвецами ничего не выходит. Сам не понимаю, как ему удалось зачать двух детей.
- Ты хочешь сказать, что это Менгеле инициатор? Не Страшко?.. – уточнил Рудольф, уже не надеясь услышать ответ, который бы его утешил.
- Именно. Анатолий жесток, но труслив. Если бы не я, он бы и дальше мучил лагерных мишлингов. Зато Эрвин… - в желтых глазах Отца Душегубов мелькнуло извращенное наслаждение. – Он убивал и до встречи со мной. Помнишь Яна Дробны, которого расстреляли четыре года назад?
Рудольф оторопело закивал. Он прекрасно всё помнил. Даже время не могло сгладить имена и лица изнасилованных гитлерюнге, которых почти полгода находили с перерезанным горлом в глухих переулках Берлина. Это было самое мерзкое преступление, которое только можно было представить – убийство подающего надежды гражданина, низведение мальчика до уровня беспомощной женщины, грубая оплеуха общественной нравственности.
- Дробны отчаянно настаивал на собственной невиновности. И хотя после его смерти убийства прекратились, он действительно был не при чем, - говорил Отец Душегубов, пожирая ошарашенного Рудольфа пристальным взглядом. – Ведь в том же году Эрвина перевели из Заксенхаузена в "Сибирь-2". Если ты убьешь его, отец будет уважать тебя до конца жизни. Своей или твоей.
Никогда прежде Рудольф не испытывал такого удушающего отчаяния. У него дрожали пальцы, тряслись пересохшие губы, панически путались мысли. Правда оказалась настолько сокрушительной, что теперь Рудольфу было всё равно, откуда Отец Душегубов знает о его невысказанных желаниях и тревогах его отца. Однако в то же время Рудольфу не хотелось верить, что чужак, влезший в шкуру Октава, может говорить правду, ему не хотелось верить, что чистокровный немец был способен на мучительное растление и хладнокровное убийство.
Насладившись произведенным эффектом, Отец Душегубов бросил сигарету на пол и шаркнул ботинком, втирая её в стылый кафель. Его размеренное хождение от одной стены к другой возобновилось. Самодовольная улыбка, гордо вскинутый подбородок и сложенные за спиной руки неприятно дополняли высокую, перекошенную хромотой фигуру. Каблуки гулко стучали по кафелю, и этот стук отдавался в висках Рудольфа вспышками головной боли.
- Эрвин таким родился, - лениво произнес Отец Душегубов. - Еще в детстве его будоражили фильмы о детях-героях, которые противостояли евреям и коммунистам, а в финале погибали, жертвуя собой. Особенно ему нравился "Гитлерюнге Квекс".
Переведя сбившееся дыхание, Рудольф кое-как успокоился и утомленно привалился к холодной двери электрощитовой. Подняв на Отца Душегубов потемневшие от гнева глаза, он заговорил:
- Предположим, это правда… Как я сообщу отцу, что это я их убил? Если я признаюсь в убийстве Менгеле, меня точно посадят. Он ведь фронтовик. К тому же, я до сих пор не увидел ни одного доказательства...
- А ты не говори об убийстве, - хитро улыбнулся Отец Душегубов. – Скажи, что заподозрил их в гомосексуальной связи, узнал, что они часто бывают в охотничьем домике, и решил обыскать его, пока там никого нет. Но нашел в подвале кое-что похуже… После этого их исчезновение будет казаться побегом. Их объявят в розыск, но так и не найдут.
- А что, доказательства здесь? В подвале? – насторожился Рудольф. Его глаза забегали из стороны в сторону.
Отец Душегубов остановился и, продолжая улыбаться, предвкушающе посмотрел на Рудольфа:
- Конечно. Прямо у тебя за спиной. Фотографии, кинопленки, дневник Анатолия… Ключ он всегда носит при себе. Если застрелишь его, сможешь забрать из электрощитовой всё, что найдешь.
Отшатнувшись от двери как ошпаренный, Рудольф впился в нее жадным взглядом. То, что он теперь действительно желал заполучить, было так близко и в то же время так далеко. Рудольф сомневался, что Отец Душегубов будет спокойно наблюдать, как он пытается взломать дверь.
- Может, ты отдашь мне доказательства сейчас? Хотя бы немного? – рискнул спросить Рудольф. Его глаза сосредоточенно блестели.
- Награду нужно заслужить, - со смешком произнес Отец Душегубов. – Сначала развлеки меня, а потом делай что хочешь.
Нахмурившись, Рудольф попытался осмыслить странное положение, в котором он оказался. Требование Отца Душегубов было выполнимым, но влекло за собой пагубные последствия.
- И как мне убить их, не попавшись никому на глаза? – скептически спросил Рудольф. – Зарезать их дома, пока они спят, чтобы меня потом их родственники опознали?
- Нет, что ты! Ты же не Рубинштейн, - гадко усмехнулся Отец Душегубов. – Ты убьешь их здесь, в этом подвале. В этом слое времени. Ты покинешь свой номер, избавишься от них и уже через секунду вернешься обратно. Никто даже не заметит, что ты отсутствовал. Время здесь течет гораздо медленнее.
- И как мне сюда попасть? – озадачился Рудольф. Чем сильнее Отец Душегубов вдавался в подробности, тем меньше он понимал.
- А они тебя сюда сами приведут. Добровольно. Потому что будут хорошо к тебе относиться и считать, что ты такой же, как они.
- Я не такой. Мне нравятся женщины, - брезгливо поморщился Рудольф.
- Это неважно. Я уже сообщил им, что познакомлю их с садистом, которому нравятся и женщины, и мужчины, - резко, с долей угрозы возразил Отец Душегубов. – А если точнее, то немецкие крестьянки с патриотических календарей и молодые мишлинги, спящие и беспомощные, которых ты, впрочем, не убиваешь. Все-таки я не собираюсь делать из тебя совсем уж законченного изверга.
От давящей тоски, смешанной с ужасом, у Рудольфа похолодело в солнечном сплетении. Каким-то образом Отец Душегубов знал всё о его первых отроческих впечатлениях, спровоцированных настенным календарем "Новый народ", который висел у него в комнате. Мысли Рудольфа перескочили на других женщин такого же типажа, с которыми он сношался в Лебенсборне, и неожиданно для себя он вспомнил, что по Рейху, как грибные споры, рассеяны его многочисленные дети с хорошей генетикой, у которых тоже наверняка были фотоальбомы с первым грудным вскармливанием, первыми замерами черепа, первыми военно-спортивными играми… Эти дети были зачаты в Берлине, в самом сердце Германии, которое, как теперь казалось, окончательно затерялось где-то в прошлом. Взгляд Рудольфа затуманился.
- Я даже придумал за тебя историю, которую высоко оценит Анатолий. Она очень вас сблизит! – воскликнул Отец Душегубов. В его голосе слышалось недоброе веселье.
- Что еще за история? – неохотно поинтересовался Рудольф. Почему-то ему стало особенно не по себе.
Отец Душегубов лишь улыбнулся, обнажив островатые зубы. Его нечеловеческие глаза хищно сверкнули желтым.
У Рудольфа закололо в висках. Он встряхнул головой и увидел перед собой лобовое стекло, по которому нервно сбегали капли ночного дождя, сметаемые паучьими лапами дворников. В зеркале заднего вида медленно растворялась безлюдная Рейхсадлерплатц, где острыми кроваво-красными буквами горела вывеска кинотеатра, ползали в окнах джаз-кафе пестрые огни и возвышался над бетонной площадью обнаженный бронзовый дискобол. Рудольф, несколько подавленный чрезмерно толстой и далеко не первой дорожкой кокаина, уже больше часа бесцельно ездил по Берлину, отстраненно наслаждаясь бушующим цветением неоновых реклам и мигающих светофоров. Перед серым "фольксвагеном", который Рудольф приобрел специально для поездок по Нойкельну, сумрачной лентой расстилалась узкая улица, по обе стороны которой нависали геббельсовские панельные многоэтажки с зигзагами общих балконов. Дождь блестел в снопах фонарного света, глухо бил по жести дорожных знаков и пузырился в лужах, где отражалась пустая улица. Далеко впереди голосовал на обочине темный силуэт.
Рудольф сглотнул, разгоняя по носоглотке холодное онемение. Свет фар скользил по асфальту, вырывая из зыбкого полумрака беленые бордюры, железные остовы фонарей и мокнущие в лужах газеты, пересыпанные окурками. Постукивая пальцами по рулю, Рудольф с притупленным интересом вглядывался в темный силуэт, который, навалившись боком на фонарный столб, с трудом удерживал на весу вытянутую руку. Первым делом Рудольфу бросилась в глаза его общая негармоничность: тощие ноги, мешковатое пальто и поблескивающие под шляпой линзы очков. Затем Рудольф понял, кого именно он видит перед собой– на обочине стоял промокший до нитки вурм, одетый в черное. Поддавшись нарастающему любопытству, Рудольф замедлил ход, подъехал к вурму и остановил машину. С вежливой улыбкой он опустил стекло, усеянное каплями дождя. Улыбка Рудольфа дрогнула.
Вурм оказался мишлингом лет двадцати пяти, сонным и болезненно тощим. Всё в нем кричало о неблагополучии. Пальто было застегнуто неправильно, со сдвигом на одну пуговицу, из-за чего сидело на мишлинге перекошенно, искажая его и без того непропорциональный силуэт. Крючковатый семитский нос напоминал вороний клюв, на землистом лице розовели мелкие язвы, а в тускло поблескивающих карих глазах неподвижно чернели крохотные зрачки.
- Не подбросите до Зоо? – отрешенно спросил мишлинг, нещадно картавя. Застыв в ожидании ответа, он уставился перед собой и механически почесал впалую щеку.
- Станции Зоо? – занервничал Рудольф.
- Ну да, - так же отрешенно ответил мишлинг.
- Ты уверен, что тебе нужно именно туда? – с опаской поинтересовался Рудольф. Он надеялся, что мишлинга можно будет без лишних сомнений бросить под дождем и забыть эту встречу, как зыбкий гриппозный сон.
- Да, уверен.
- Ладно. Я подвезу тебя, мне как раз в ту сторону, - согласился Рудольф. Он чувствовал, как кончики пальцев покалывает холодом. – Только я высажу тебя на Унтер-ден-Линден, дальше мне не нужно.
- Ладно, - неопределенно повел плечами мишлинг.
Посомневавшись, Рудольф разблокировал дверь. Мишлинг нетвердой походкой обошел "фольксваген" спереди, мелькнув в свете фар сутуловатым призраком, и Рудольф заметил, что тот сильно хромает на левую ногу. Ввалившсь в машину, мишлинг рухнул в пассажирское кресло. Рудольфа обрызгало каплями дождя, но он лишь нахмурился и ничего не сказал. Пристегнувшись, мишлинг откинулся на спинку кресла и устремил сонный взгляд в сумрак за лобовым стеклом. На стекле безжизненно мерцала влага, ходили из стороны в сторону дворники. Неодобрительно покосившись на мишлинга, Рудольф тронулся с места.
- Как тебя зовут? – спросил он, изобразив улыбку.
- Эмильен, - пробормотал мишлинг, - я из Франции…
- Приятно познакомиться, - слукавил Рудольф, и его прежде вежливая улыбка налилась искренним теплом.
Городской ландшафт понемногу менялся: исчезали рассыпанные по тротуару окурки, наполнялись электрическим светом темные провалы арок, а уродливые дома, будто собранные из бетонных кубиков, уступали место степенной кайзеровской архитектуре. Мишлинг молчал, апатично разглядывая заоконную пестрону неоновых вывесок, и время от времени почесывал лицо, скребя по коже нестрижеными ногтями. Когда "фольксваген" останавливался перед пешеходным переходом, чтобы пропустить спешащих горожан, Рудольф косился на мишлинга и напряженно его разглядывал. Под фетровой шляпой слегка вились густые, неряшливо причесанные волосы. Шелушились обветренные губы, на шее рдел небольшой гнойник. Полупустая гусеница трамвая отразила темными стеклами пестрое разноцветье ночного Берлина. На костлявом колене мишлинга, которое обтягивала лоснящаяся брючина, покоилась бледная кисть с искривленными пальцами, а узкие брюки мешковато висели на ногах, оголяя худые лодыжки. Скрылось за поворотом канареечно-желтое такси. На исцарапанных лакированных ботинках с острыми носами подсыхала свежая грязь. Несмотря на грустно опущенные уголки губ, лицо мишлинга не выражало ничего, кроме желания уснуть. В том, что он был героинщиком, Рудольф даже не сомневался.
"Высажу его на Беренштрассе, вот и всё. Так будет лучше…", - успокоил он себя.
Шелестели косые струи дождя, истошно сверкали неоновые огни баров. Ночь ложилась на город, как тяжелая, расшитая бисером шаль. "Фольксваген" проехал мимо рекламной тумбы, обдав водой из лужи бродячую кошку. Впереди замаячили белым жирные полосы пешеходного перехода, замигал красным светофор. Остановившись, Рудольф вновь покосился на мишлинга и понял, что произошло самое жуткое, что только могло произойти. Мишлинг уснул.
"Боже мой…" – промелькнуло в голове у Рудольфа. Его охватила невыносимая тоска.
Мишлинг спал в пассажирском кресле, привалившись щекой к прохладному окну. Его обмякшее тело казалось хрупким, как птичий скелет. Напряженно втянув воздух сквозь сжатые зубы, Рудольф осторожно протянул к мишлингу руку и сдвинул шляпу ему на лицо, скрывая его приметные черты от взглядов случайных прохожих. Мишлинг вздрогнул, но не проснулся. Его химический сон был слишком крепким.
Выхода не было. Тяжело вздохнув, Рудольф не стал останавливаться на Беренштрассе, где мог бы высадить мишлинга, чтобы тот до утра проспал на скамье. Серый "фольксваген" устремился к жилому комплексу "Лорелея", где Рудольф уже который год проживал в просторной трехкомнатной квартире. "Лорелея" бетонным цилиндром подпирала темное небо, подернутое паутиной облаков, вишневые вкрапления стеклоблоков тускло мерцали во мраке, как тлеющие угли. Кое-где в ракушках балконов горели желтоватым окна. Заняв свое место на подземной парковке, Рудольф вышел из машины и выволок из неё мишлинга. Обхватив его за талию и закинув его руку себе на плечо, Рудольф повел к лифту полуспящее, кажущееся пьяным тело, лицо которого сложно было разглядеть под опущенной шляпой. Мишлинг сонно посапывал, уронив голову на грудь, однако механически волочил ноги, немного облегчая и без того тяжкую ношу Рудольфа. Сердце Рудольфа бешено колотилось. Он то ли опасался, то ли надеялся, что мишлинг проснется раньше времени, так и не оказавшись у него в квартире.
Мерно гудел поднимающийся лифт, играла откуда-то из потолка расслабляющая музыка. По пути наверх в лифт никто не зашел, и Рудольф даже не знал, радоваться ему или огорчаться. Наконец звякнул колокольчик, и лифт остановился на двадцатом этаже. Мраморный пол и серые стены заливал белесый свет. Квартира Рудольфа располагалась в самом дальнем углу от приоткрытой металлической двери, за которой таилась в зеленоватом полумраке угловатая спираль лестничной клетки.
Рудольф опасливо прислонил мишлинга к стене и, придерживая его одной рукой, кое-как вставил ключ в замочную скважину. Ввалившись вместе с мишлингом в темный простор своей квартиры, он так же неуклюже заперся изнутри. Весь бледный от натуги и кокаина, Рудольф наконец перестал притворяться. Ухватив мишлинга под мышки, он поволок его спящее тело в спальню. Мокрые ботинки оставляли на светлом паркете грязный извилистый след. Безжизненно болтались тощие руки, валялась на полу мятая шляпа, упавшая с поникшей головы. За панорамным окном сиял медью исполинский купол Дом Народа, увенчанный имперским орлом.
Добравшись наконец до спальни, Рудольф не без труда уложил мишлинга в центр широкой двуспальной кровати. Тот пробормотал что-то сквозь сон и неуклюже перевернулся на бок, оставляя на молочно-белом атласном покрывале влажные пятна. Отдышавшись, Рудольф собрался с духом и включил свет. Загорелись белым ракушки люстры, по задернутым шторам из серой парчи растекся холодный блеск. С прикроватого столика за Рудольфом наблюдала бронзовая статуэтка обнаженной спортсменки, держащая в руке факел лампочки. У неё в ногах валялись беруши, яблочный огрызок и вскрытая упаковка мятных леденцов.
- Это действительно настолько срочно? Может, лучше завтра вас отвезти? – встревоженно спросил Гельмут, не отрывая взгляда от дороги.
На руле угловатыми штрихами лежали его мясистые пальцы. По обледенелому асфальту скользили болезненно-желтые веера фар, в которых мушиным роем метался снег. Служебный "мерседес" Рудольфа мчался сквозь ночную мглу по единственной дороге, ведущей в Гитлерштадт.
- И почему же завтра? – нахмурился Рудольф. Он с некоторым недоверием посмотрел в зеркало заднего вида, где отражалось румяное лицо Гельмута, чуть искаженное зеленоватыми отсветами приборной панели. В этом неестественном освещении Гельмут напоминал одутловатый труп.
- Вы же сами видите. Буран, гололед…
- Здесь всю зиму такая погода. Предлагаешь мне до лета ждать?
Рудольфу не хотелось возвращаться в концлагерь, где в библиотеке уже наверняка остывал мертвый Рубинштейн, задушенный разъяренным Страшко. Полчаса назад Рудольф чуть ли не повалился на заднее сиденье, поправил сбившуюся фуражку с мертвой головой и твердо решил, что доведет дело до конца сегодня же – какой бы суровой ни была местная погода. Он полагал, что впереди его ждут лишь неловкий разговор с городскими властями и безрадостная неделя в паульмундской гостинице "Альпы" – на тот случай, если обличение Страшко потребует его присутствия. Рудольфа не смущала даже разбушевавшаяся вьюга, которая простуженно выла где-то снаружи, колыхая зеленую муть еловых теней и серебрящиеся волны сугробов.
- Можешь ехать медленно, если хочешь. Но до Гитлерштадта меня довези. Это очень срочно, - смягчился Рудольф.
- У герра коменданта обнаружились скелеты в шкафу? – спросил Гельмут. Рудольф не сразу догадался, что это была угодливая шутка.
- Скелеты? – нервно усмехнулся он. – Да, можно и так сказать…
Сложив руки на груди, словно защищаясь от невидимой угрозы, он мрачно уставился перед собой. Во внутреннем кармане его кителя были надежно спрятаны вещественные доказательства, которые Рудольф планировал передать местному управлению СС: конверт с фотографией избитого гитлерюнге и записка Рубинштейна. И хотя текст записки был крайне обтекаемым, вкупе с фотографией она могла стать весомым аргументом.
"Если это вообще почерк Рубинштейна…" – промелькнула у Рудольфа параноидальная мысль.
Восстановив в памяти тот день, когда он впервые посетил лагерную библиотеку, Рудольф перебрал все детали, которые смог выудить из мимолетных наблюдений, и перед его мысленным взором возникли читательские карточки, заполненные аккуратным косым почерком. Записку, которую Рудольф обнаружил у себя в комнате, явно написал Рубинштейн.
Теперь, имея на руках неопровержимые улики, Рудольф мог доказать отцу, которого видел в последний раз три недели назад, в сумрачном кабинете его берлинской виллы, что он все-таки стал настоящим мужчиной, стал настоящим офицером. Раскрыв преступления Страшко, можно было спасти еще живых мальчиков, которые даже не подозревали, насколько гадкая их ожидает судьба. А судьба Рубинштейна Рудольфа не волновала. В конце концов, Рубинштейн был мишлингом, уголовным преступником и хладнокровным убийцей. Он заслуживал смерти.
Вдали затрепетал тускло-белый огонек. Чем дальше пробирался по обледенелой дороге "мерседес", тем отчетливее Рудольф видел уже не размытый потек электрического света, а высокий фонарный столб, под которым возвышалась в снегу гипсовая стела. На посеревшем от времени фундаменте слабо выделялись синие готические буквы – Паульмунд, а чуть выше располагался герб города – медведь, держащий в лапах заводскую шестеренку. Зеленые зубцы за его спиной изображали схематичный лес. Рудольф поморщился. В том, что новая власть посчитала символами Паульмунда, ему виделась лишь неловкая насмешка над гербом Берлина.
Хрипло взвыла за окном буря, и в лобовое стекло врезался бесформенный ком метели. В его белесой глубине злобно сверкнули ледянисто-желтые глаза. Рудольф непроизвольно вжался в сиденье. Он вспомнил, что однажды уже видел эти глаза – в несвязном бредовом кошмаре, которым завершился первый день, проведенный в стылом поезде до Паульмунда.
Мир наполнился скрежетом, время замедлилось, обострив формы и цвета. Гельмут до упора выкрутил руль. "Мерседес" слетел с дороги, устремился в высокий сугроб, в мутно-зеленую тень еловых ветвей. Рудольфа отбросило вправо. Он ударился виском об холодное оконное стекло, на периферии зрения опрокинулась дорога с гипсовой стелой. Рудольф видел чеканные кириллические буквы, образующие название города, видел лаконичную композицию из чайки, заводской шестеренки и острых речных волн. Слабо вскрикнув от глубинного ужаса, Рудольф обмяк и рухнул на пол, впечатавшись лицом в резиновый коврик.
Промерзший воздух удушливо сочился сыростью, перед глазами бешено, как в калейдоскопе, металось негреющее пламя флюоресцентной лампы, дрожали желтоватые пятна на беленом потолке. Превозмогая головокружение, Рудольф неуклюже встал на ноги и тупым взглядом обвел просторное, практически пустое помещение, в котором он никак не мог находиться. Свинцово-серый кафель под его сапогами тускло отражал искусственный свет, стены покрывала болотно-зеленая масляная краска. Головокружение понемногу сходило на нет. Рудольф нерешительно осмотрелся, однако сразу же замер, будто застигнутый врасплох заяц. Он заметил темный проход, притаившийся в самом дальнем углу, по правую стену. Его бетонные ступени уходили наверх, в угольно-черный мрак.
Рудольфа прошибла мелкая дрожь. Втягивая изможденными ноздрями вязкий воздух, он с трудом сделал вдох. Мир казался тусклым, как это обычно бывало после кокаинового марафона. Рудольф моргнул, надеясь избавиться от этой серовато-синей пелены, однако ничего не произошло - лишь пробежала по воздуху зернистая рябь. Похолодев от липкого страха, Рудольф медленно обернулся и оцепенел. Его бледно-голубые глаза широко распахнулись.
По левую стену, выкрашенную точно такой же зеленой краской, виднелась металлическая дверь с жестяной табличкой. Острые готические буквы на ней складывались в слово "электрощитовая". В ближайшем к ней углу тянулась сквозь пол и потолок тонкая, чуть ржавая труба, а рядом с ней покоился на полу выцветший матрас в красную полоску, испещренный грязно-бурыми пятнами. Поверх матраса неряшливо валялось выгоревшее лоскутное одеяло. У подножья трубы, свернувшись металлической змеей, лежала блестящая, явно новая цепь.
Нервно сглотнув, Рудольф принялся расстегивать шинель. Пальцы дрожали и не слушались, одна из пуговиц оторвалась и с жалобным звоном поскакала по кафелю. Рудольф лихорадочно расстегнул китель и выхватил из внутреннего кармана фотографию избитого гитлерюнге. Чуть постукивая зубами, он выставил снимок перед собой. Грязно-зеленый цвет стен, которые теперь обступали Рудольфа, слился с таким же цветом стен на снимке. Всё встало на свои места.
- Вот мы и встретились. Я уже давно хочу с тобой поговорить, - раздался у Рудольфа за спиной мужской голос – холодный, властный, приправленный знакомой картавостью.
Резко повернувшись, Рудольф впился ошеломленным взглядом в того, кто с ним заговорил. Он остолбенел, будто его сковало льдом. Возле бетонной лестницы, уходящей в густую темноту, стоял человек в пальто и шляпе, которого Рудольф определенно знал. Точнее, нечто, притворяющееся этим человеком. Рост Октава никогда не достигал двух метров. У Октава никогда не светились желтым глаза, из них не тянулись к потолку спирали черного дыма. Октав не был мертвецом с творожисто-белой кожей, синюшными губами и излишне длинными пальцами, напоминающими паучьи лапы.
Мертвец изогнул губы в дружелюбной улыбке, уставился на Рудольфа фосфорически-желтыми огоньками глаз и, чуть припадая на левую ногу, медленно поковылял в его сторону. Рудольфа обдало смрадом гниющей крови, разлагающейся плоти и холодного железа.
- Не подходи! – завопил Рудольф во всё горло.
Сжимая в руке фотографию, он шарахнулся назад и ударился спиной об холодную дверь электрощитовой. Дверь слабо загудела. Теперь Рудольфа и мертвеца разделяло лишь несколько метров. Изображая беспечность, мертвец неспешно приближался к Рудольфу. Каблуки ботинок гулко стучали по кафелю, билось об стены угасающее эхо. Расстояние сокращалось. Наконец, когда до Рудольфа оставалось всего два шага, мертвец остановился. Вежливая улыбка на его бескровных губах стала чуть шире, обнажив заостренные зубы.
- Только попробуй… - пробормотал Рудольф срывающимся голосом.
Глядя на мертвеца снизу вверх, он испуганно вжался в дверь. Он вспомнил, каким отрешенным, но все-таки живым был Октав три недели назад, когда приходил к нему на Унтер-ден-Линден. Жуткая неестественность мертвеца, его звериные глаза, чадащие дымом, и чрезмерно высокий рост казались теперь совсем уж запредельными.
Однако существо, кажется, не было агрессивным. Продолжая улыбаться, оно картаво произнесло:
- Меня зовут Кутур-Ага, но раз уж ты уважаешь только европейские языки, да и то не все, я сделаю для тебя исключение. Можешь называть меня Отцом Душегубов.
Рудольф лишь растерянно моргнул. Изменившись в лице, Отец Душегубов мрачно нахмурился, и Рудольф ощутил на себе его немигающий, плотоядный взгляд. Комната покачнулась, ослабевшие пальцы Рудольфа разжались. Фотография с избитым гитлерюнге упала, как осенний лист, на пепельно-серый кафель.
Силясь сохранить в целости шаткий рассудок, Рудольф отчаянно схватился за голову. В ушах утробно гудел кровоток, перед глазами подрагивало душное летнее марево. Тяжким грузом на Рудольфа навалились образы другого Паульмунда, где на бетонных фасадах правительственных зданий, украшенных советскими барельефами, развевался власовский триколор, где горел, храня память о ветеранах-красноармейцах, Вечный Огонь, где возвышался над запущенным сквером облупившийся памятник Ленину с пробитой головой, а вдоль пыльных дорог теснились небольшие продуктовые магазины и аптеки с кириллическими вывесками. Не выдержав напора видений, Рудольф сполз по двери на пол, зажмурился и издал сдавленный крик. Образы русского Паульмунда, ушедшего на шестьдесят лет вперед, вспыхивали в предвечной темноте, будто раскаленные угли. Щуплая Магалл, одетая в мешковатую рубашку, излишне узкие брюки и берцы, ехала на велосипеде по пыльной обочине дороги, вдоль которой теснились приземистые, чуть ли не деревенские дома с выгоревшим шифером крыш и душистыми тенями палисадников. Угрюмый Октав в черном дождевике неспешно брел сквозь ельник, испещренный золотистыми отсветами солнца. На шеё у него висел фотоаппарат, правую кисть обвивал эластичный бинт, а лицо пятнали фиолетовые синяки. Женщина лет сорока, отдаленно напоминающая Страшко, катила по безлюдному моргу каталку с холодным юношеским трупом, чье горло пересекал темный порез. На её багровых губах блуждала загадочная улыбка. Наконец Рудольф увидел человека, в котором опознал крайне искаженного себя. Этот человек носил то ли армейскую, то ли полицейскую униформу темно-синего цвета, он парковал серый "БМВ" перед деревянными воротами частного дома. Из заросшего цветами палисадника, который примыкал к дому и ложился на его крышу зеленью берез, на искаженного Рудольфа смотрела девочка лет девяти, одетая в голубой сарафан. Солнце било девочке в глаза, и она заслонялась от него козырьком ладони.
- У тебя и впрямь слабая психика. Очень жаль… - прорвался сквозь слои времени разочарованный голос Отца Душегубов. Рудольфа выбросило обратно в холод грязно-зеленого помещения, набитого трупным запахом неведомых скотобен.
- Но мне от тебя многого и не нужно, - мягко добавил Отец Душегубов.
Собравшись с духом, Рудольф кое-как встал на ноги, цепляясь за дверь электрощитовой. У него дрожали колени, но он даже не пытался это скрыть. Его сердце бешено колотилось, но он даже не пытался перевести дыхание. Рудольф чувствовал, как ему под кожу гадостными мокрицами заползает страх. В последний раз он испытывал нечто подобное лет десять назад, когда принял по неопытности слишком много первитина и следующие трое суток не мог заснуть, шарахаясь от каждой тени и выискивая на руках несуществующие гнойники.
- Где я? Что это за место?.. – с опаской выдавил Рудольф, пытаясь сдержать панику.
Его не покидало ощущение, будто искаженный двойник Октава покопался у него в голове бледными паучьими пальцами, переворошив смутные воспоминания о чувствах, которые Рудольф, испытав однажды, испытывать больше не хотел.
- Подвал охотничьего домика. Раньше здесь был бункер, построенный прежним владельцем на случай ядерной войны.
- А ты кто такой? – без особой надежды продолжил расспросы Рудольф. Иллюзия контроля удерживала его от унизительной истерики.
Отец Душегубов усмехнулся:
- Тебе не обязательно знать, кто я такой и что я делаю на своей земле. Потому что я был здесь всегда. Это моя земля, а не ваша. И что бы вы ни делали, она всегда будет моей.
- Господи… - пробормотал Рудольф. Он чувствовал себя беспомощным, как избитый ребенок.
Отец Душегубов вынул из кармана пальто черепаховый портсигар и щелкнул зажигалкой. К потолку устремилась сизая струйка дыма.
- Ты считаешь мир предельно понятным, но это не так. Мир, в котором ты живешь, намного сложнее, чем кажется, - произнес он. – У него есть множество отражений, разделенных тонкой тканью пространства и времени. Иногда, конечно, зеркало попадается кривое, и отражение искажется: время замедляется или бежит вперед, меняется характер людей, их национальность…
Рудольф остекленело смотрел в одну точку, силясь осознать происходящее, но каждая мысль обрывалась на полуслове и соскальзывала в звенящую пустоту. Отец Душегубов курил и задумчиво улыбался уголками губ, в черном дыму его глаз мерцали грязно-желтые огоньки. Рудольф нащупал позади себя дверную ручу и подергал в обе стороны. Дверь не поддавалась.
- Электрощитовая заперта на ключ. Но тебе туда пока нельзя, - спокойно сообщил Отец Душегубов.
"Это галлюцинация. Валяюсь сейчас в машине, которая в дерево вписалась…" – посетила Рудольфа отчаянная мысль.
- Зря ты меня боишься. У меня ведь на тебя планы. Если ты избавишься от людей, которые мне наскучили, ты получишь то, что очень тебе нужно.
- Откуда ты вообще можешь знать, что именно мне нужно? – сдавленно выдавил Рудольф.
- Я перенес тебя сюда, принял облик человека, которого ты знаешь, и показал тебе другой Паульмунд. Как думаешь, могу ли я знать, чего тебе хочется больше всего?
- Похоже на то… - покорно согласился Рудольф.
Отец Душегубов промолчал и задумался, будто не зная, как продолжить разговор. Нахмурившись, он принялся ходить из стороны в сторону, подволакивая за собой левую ногу, со стуком ступая по кафелю. Зажженная сигарета в его изуродованных пальцах не становилась короче. Черные спирали дыма тянулись за ним черным илистым шлейфом, медленно растворяясь в промерзшем воздухе. Рудольфа вновь захлестнула волна посмертного зловония, к горлу подкатила давящая тошнота. Его не покидало ощущение, будто с ним разговаривает ожившая антисемитская карикатура, которая почему-то превратилась в персонажа дегенеративного фильма ужасов, снятого по американским лекалам.
- Мне очень жаль, что наш друг-полукровка не подошел под мои требования, - заговорил наконец Отец Душегубов. - Впрочем, это поправимо. Я всегда могу заняться Гершелем в другом месте, где у него больше перспектив.
- Гершелем? – недоуменно переспросил Рудольф.
Остановившись, Отец Душегубов окинул его презрительным взглядом:
- Я говорю о человеке, которому пришлось носить чужое имя. Ты знал его под именем Октав Леопольд Гаже, но на самом деле его звали иначе. Его звали Гершель Либерман.
Рудольф насторожился. Всё, что он только что услышал, звучало крайне подозрительно. Непрошеные догадки роились в его голове, как мясные мухи над тухлым куском говядины.
- А кто обычно подходит под твои требования? – отважился спросить Рудольф, выбрав наиболее важную на данный момент мысль.
Успокоившись, Отец Душегубов вновь принялся ходить из стороны в сторону. Красноватая искра сигареты была настолько яркой, что резала глаза и казалась чужеродной в холодном синюшном воздухе. Отец Душегубов изо всех сил сохранял беспристрастный вид, но его губы подрагивали, будто он не мог сдержать улыбку. Все-таки выпустив её наружу, он снова остановился и хитро взглянул на Рудольфа:
- А ты с ними уже знаком. Анатолий, Эрвин… Видишь ли, у Эрвина истощилась фантазия, и мне пришлось познакомить его с Анатолием. Это было очень удобно, они ведь коллеги. Честно скажу, раньше моим подопечным было гораздо проще. Никаких отпечатков пальцев, никаких генетических экспертиз…
- Что?.. – глухо переспросил Рудольф. В его побледневшем, перекошенном лице читался неподдельный ужас.
- У вас пока нет таких технологий. Появятся лет через двадцать.
- Я не об этом. Ты упомянул Эрвина… - с трудом произнес Рудольф. – Ты имеешь в виду Эрвина Менгеле? Коменданта, с которым я ужинал?
- Ужин с тобой не делает человека законопослушным гражданином.
Рудольф судорожно вздохнул. Чужак неопределенного, возможно, космического происхождения, воняющий смрадом могил и загустевшей кровью, вел себя неожиданно дружелюбно, хоть и срывался иногда на презрение, но чем больше он рассказывал, тем меньше Рудольфу хотелось ему доверять. Каждое слово Отца Душегубов могло оказаться ложью.
- Ты хочешь, чтобы я убил Менгеле? – нервно уточнил Рудольф.
Отец Душегубов довольно кивнул.
- Я не могу. Он порядочный немец, он служит в СС… - пробормотал Рудольф. – Я не хочу убивать Менгеле…
- Когда я расскажу тебе, чем именно он любит заниматься в свободное время, и предоставлю тебе часть доказательств, ты захочешь это сделать. Мне даже придется упрашивать тебя, чтобы ты подождал до назначенной даты.
- У него профдеформация, это правда, - с опаской возразил Рудольф, - но это не значит, что он….
- Не спорь, - холодно перебил его Отец Душегубов. - Через шесть дней ты вернешься в этот подвал и застрелишь их обоих. И Анатолия, и Эрвина. Я не требую от тебя изысков, это не в твоем характере, но избавиться от них тебе придется – хочешь ты этого или нет.
Набравшись смелости, Рудольф произнес:
- Я готов убить этого дегенерата Страшко, но Менгеле…
- ...гораздо хуже, чем Анатолий.
- Это невозможно. Менгеле женат, и у него есть дети.
- Анатолий тоже женат, и у него, представь себе, тоже есть дети, - угрожающим тоном парировал Отец Душегубов. – Но это не мешает ему вешать мальчиков и онанировать на их трупы.
Услышав это, Рудольф растерял все аргументы, которые у него были. Он потрясенно смотрел на чужака, притворяющегося Октавом. До него запоздало дошло, что пропавшие мальчики действительно были делом рук Страшко, что библиотекари-мишлинги являлись для него лишь временной отдушиной. Все подозрения Рудольфа оказались правдой.
- Эрвин любит насиловать, но не любит убивать, - небрежно объяснил Отец Душегубов и затянулся сигаретой. – Он всегда делал это неохотно, лишь для того, чтобы не оставлять свидетелей. Однако потом у него появился я. И я познакомил его с Анатолием.
- Менгеле… насилует мальчиков? – севшим голосом переспросил Рудольф.
- Да. Подростков арийской внешности. А потом Анатолий выполняет за него грязную работу и вешает мальчика, вот на этом крюке, - указал Отец Душегубов искривленным пальцем куда-то наверх. – Подбирает объедки, так сказать.
Помертвевший взгляд Рудольфа проследовал в указанную точку. Там, ввинченный в потолок, поблескивал небольшой крюк. Рудольфа охватило нездоровое волнение, мелко застучали зубы. В носоглотке возник и сразу же исчез фантомный запах кокаина. Крюк нестерпимо серебрился под флюоресцентным светом, как холодный полумесяц в звездной мгле. Рудольфа мутило, но он не мог перестать смотреть, будто перед ним был концентрат всего того ужаса, который Паульмунд испытывал уже несколько лет подряд.
- Пока мальчик агонизирует в петле, Анатолий снимает его на камеру, а затем онанирует на труп, - так же небрежно продолжил Отец Душегубов. – Его недуг настолько серьезен, что у него даже с мертвецами ничего не выходит. Сам не понимаю, как ему удалось зачать двух детей.
- Ты хочешь сказать, что это Менгеле инициатор? Не Страшко?.. – уточнил Рудольф, уже не надеясь услышать ответ, который бы его утешил.
- Именно. Анатолий жесток, но труслив. Если бы не я, он бы и дальше мучил лагерных мишлингов. Зато Эрвин… - в желтых глазах Отца Душегубов мелькнуло извращенное наслаждение. – Он убивал и до встречи со мной. Помнишь Яна Дробны, которого расстреляли четыре года назад?
Рудольф оторопело закивал. Он прекрасно всё помнил. Даже время не могло сгладить имена и лица изнасилованных гитлерюнге, которых почти полгода находили с перерезанным горлом в глухих переулках Берлина. Это было самое мерзкое преступление, которое только можно было представить – убийство подающего надежды гражданина, низведение мальчика до уровня беспомощной женщины, грубая оплеуха общественной нравственности.
- Дробны отчаянно настаивал на собственной невиновности. И хотя после его смерти убийства прекратились, он действительно был не при чем, - говорил Отец Душегубов, пожирая ошарашенного Рудольфа пристальным взглядом. – Ведь в том же году Эрвина перевели из Заксенхаузена в "Сибирь-2". Если ты убьешь его, отец будет уважать тебя до конца жизни. Своей или твоей.
Никогда прежде Рудольф не испытывал такого удушающего отчаяния. У него дрожали пальцы, тряслись пересохшие губы, панически путались мысли. Правда оказалась настолько сокрушительной, что теперь Рудольфу было всё равно, откуда Отец Душегубов знает о его невысказанных желаниях и тревогах его отца. Однако в то же время Рудольфу не хотелось верить, что чужак, влезший в шкуру Октава, может говорить правду, ему не хотелось верить, что чистокровный немец был способен на мучительное растление и хладнокровное убийство.
Насладившись произведенным эффектом, Отец Душегубов бросил сигарету на пол и шаркнул ботинком, втирая её в стылый кафель. Его размеренное хождение от одной стены к другой возобновилось. Самодовольная улыбка, гордо вскинутый подбородок и сложенные за спиной руки неприятно дополняли высокую, перекошенную хромотой фигуру. Каблуки гулко стучали по кафелю, и этот стук отдавался в висках Рудольфа вспышками головной боли.
- Эрвин таким родился, - лениво произнес Отец Душегубов. - Еще в детстве его будоражили фильмы о детях-героях, которые противостояли евреям и коммунистам, а в финале погибали, жертвуя собой. Особенно ему нравился "Гитлерюнге Квекс".
Переведя сбившееся дыхание, Рудольф кое-как успокоился и утомленно привалился к холодной двери электрощитовой. Подняв на Отца Душегубов потемневшие от гнева глаза, он заговорил:
- Предположим, это правда… Как я сообщу отцу, что это я их убил? Если я признаюсь в убийстве Менгеле, меня точно посадят. Он ведь фронтовик. К тому же, я до сих пор не увидел ни одного доказательства...
- А ты не говори об убийстве, - хитро улыбнулся Отец Душегубов. – Скажи, что заподозрил их в гомосексуальной связи, узнал, что они часто бывают в охотничьем домике, и решил обыскать его, пока там никого нет. Но нашел в подвале кое-что похуже… После этого их исчезновение будет казаться побегом. Их объявят в розыск, но так и не найдут.
- А что, доказательства здесь? В подвале? – насторожился Рудольф. Его глаза забегали из стороны в сторону.
Отец Душегубов остановился и, продолжая улыбаться, предвкушающе посмотрел на Рудольфа:
- Конечно. Прямо у тебя за спиной. Фотографии, кинопленки, дневник Анатолия… Ключ он всегда носит при себе. Если застрелишь его, сможешь забрать из электрощитовой всё, что найдешь.
Отшатнувшись от двери как ошпаренный, Рудольф впился в нее жадным взглядом. То, что он теперь действительно желал заполучить, было так близко и в то же время так далеко. Рудольф сомневался, что Отец Душегубов будет спокойно наблюдать, как он пытается взломать дверь.
- Может, ты отдашь мне доказательства сейчас? Хотя бы немного? – рискнул спросить Рудольф. Его глаза сосредоточенно блестели.
- Награду нужно заслужить, - со смешком произнес Отец Душегубов. – Сначала развлеки меня, а потом делай что хочешь.
Нахмурившись, Рудольф попытался осмыслить странное положение, в котором он оказался. Требование Отца Душегубов было выполнимым, но влекло за собой пагубные последствия.
- И как мне убить их, не попавшись никому на глаза? – скептически спросил Рудольф. – Зарезать их дома, пока они спят, чтобы меня потом их родственники опознали?
- Нет, что ты! Ты же не Рубинштейн, - гадко усмехнулся Отец Душегубов. – Ты убьешь их здесь, в этом подвале. В этом слое времени. Ты покинешь свой номер, избавишься от них и уже через секунду вернешься обратно. Никто даже не заметит, что ты отсутствовал. Время здесь течет гораздо медленнее.
- И как мне сюда попасть? – озадачился Рудольф. Чем сильнее Отец Душегубов вдавался в подробности, тем меньше он понимал.
- А они тебя сюда сами приведут. Добровольно. Потому что будут хорошо к тебе относиться и считать, что ты такой же, как они.
- Я не такой. Мне нравятся женщины, - брезгливо поморщился Рудольф.
- Это неважно. Я уже сообщил им, что познакомлю их с садистом, которому нравятся и женщины, и мужчины, - резко, с долей угрозы возразил Отец Душегубов. – А если точнее, то немецкие крестьянки с патриотических календарей и молодые мишлинги, спящие и беспомощные, которых ты, впрочем, не убиваешь. Все-таки я не собираюсь делать из тебя совсем уж законченного изверга.
От давящей тоски, смешанной с ужасом, у Рудольфа похолодело в солнечном сплетении. Каким-то образом Отец Душегубов знал всё о его первых отроческих впечатлениях, спровоцированных настенным календарем "Новый народ", который висел у него в комнате. Мысли Рудольфа перескочили на других женщин такого же типажа, с которыми он сношался в Лебенсборне, и неожиданно для себя он вспомнил, что по Рейху, как грибные споры, рассеяны его многочисленные дети с хорошей генетикой, у которых тоже наверняка были фотоальбомы с первым грудным вскармливанием, первыми замерами черепа, первыми военно-спортивными играми… Эти дети были зачаты в Берлине, в самом сердце Германии, которое, как теперь казалось, окончательно затерялось где-то в прошлом. Взгляд Рудольфа затуманился.
- Я даже придумал за тебя историю, которую высоко оценит Анатолий. Она очень вас сблизит! – воскликнул Отец Душегубов. В его голосе слышалось недоброе веселье.
- Что еще за история? – неохотно поинтересовался Рудольф. Почему-то ему стало особенно не по себе.
Отец Душегубов лишь улыбнулся, обнажив островатые зубы. Его нечеловеческие глаза хищно сверкнули желтым.
У Рудольфа закололо в висках. Он встряхнул головой и увидел перед собой лобовое стекло, по которому нервно сбегали капли ночного дождя, сметаемые паучьими лапами дворников. В зеркале заднего вида медленно растворялась безлюдная Рейхсадлерплатц, где острыми кроваво-красными буквами горела вывеска кинотеатра, ползали в окнах джаз-кафе пестрые огни и возвышался над бетонной площадью обнаженный бронзовый дискобол. Рудольф, несколько подавленный чрезмерно толстой и далеко не первой дорожкой кокаина, уже больше часа бесцельно ездил по Берлину, отстраненно наслаждаясь бушующим цветением неоновых реклам и мигающих светофоров. Перед серым "фольксвагеном", который Рудольф приобрел специально для поездок по Нойкельну, сумрачной лентой расстилалась узкая улица, по обе стороны которой нависали геббельсовские панельные многоэтажки с зигзагами общих балконов. Дождь блестел в снопах фонарного света, глухо бил по жести дорожных знаков и пузырился в лужах, где отражалась пустая улица. Далеко впереди голосовал на обочине темный силуэт.
Рудольф сглотнул, разгоняя по носоглотке холодное онемение. Свет фар скользил по асфальту, вырывая из зыбкого полумрака беленые бордюры, железные остовы фонарей и мокнущие в лужах газеты, пересыпанные окурками. Постукивая пальцами по рулю, Рудольф с притупленным интересом вглядывался в темный силуэт, который, навалившись боком на фонарный столб, с трудом удерживал на весу вытянутую руку. Первым делом Рудольфу бросилась в глаза его общая негармоничность: тощие ноги, мешковатое пальто и поблескивающие под шляпой линзы очков. Затем Рудольф понял, кого именно он видит перед собой– на обочине стоял промокший до нитки вурм, одетый в черное. Поддавшись нарастающему любопытству, Рудольф замедлил ход, подъехал к вурму и остановил машину. С вежливой улыбкой он опустил стекло, усеянное каплями дождя. Улыбка Рудольфа дрогнула.
Вурм оказался мишлингом лет двадцати пяти, сонным и болезненно тощим. Всё в нем кричало о неблагополучии. Пальто было застегнуто неправильно, со сдвигом на одну пуговицу, из-за чего сидело на мишлинге перекошенно, искажая его и без того непропорциональный силуэт. Крючковатый семитский нос напоминал вороний клюв, на землистом лице розовели мелкие язвы, а в тускло поблескивающих карих глазах неподвижно чернели крохотные зрачки.
- Не подбросите до Зоо? – отрешенно спросил мишлинг, нещадно картавя. Застыв в ожидании ответа, он уставился перед собой и механически почесал впалую щеку.
- Станции Зоо? – занервничал Рудольф.
- Ну да, - так же отрешенно ответил мишлинг.
- Ты уверен, что тебе нужно именно туда? – с опаской поинтересовался Рудольф. Он надеялся, что мишлинга можно будет без лишних сомнений бросить под дождем и забыть эту встречу, как зыбкий гриппозный сон.
- Да, уверен.
- Ладно. Я подвезу тебя, мне как раз в ту сторону, - согласился Рудольф. Он чувствовал, как кончики пальцев покалывает холодом. – Только я высажу тебя на Унтер-ден-Линден, дальше мне не нужно.
- Ладно, - неопределенно повел плечами мишлинг.
Посомневавшись, Рудольф разблокировал дверь. Мишлинг нетвердой походкой обошел "фольксваген" спереди, мелькнув в свете фар сутуловатым призраком, и Рудольф заметил, что тот сильно хромает на левую ногу. Ввалившсь в машину, мишлинг рухнул в пассажирское кресло. Рудольфа обрызгало каплями дождя, но он лишь нахмурился и ничего не сказал. Пристегнувшись, мишлинг откинулся на спинку кресла и устремил сонный взгляд в сумрак за лобовым стеклом. На стекле безжизненно мерцала влага, ходили из стороны в сторону дворники. Неодобрительно покосившись на мишлинга, Рудольф тронулся с места.
- Как тебя зовут? – спросил он, изобразив улыбку.
- Эмильен, - пробормотал мишлинг, - я из Франции…
- Приятно познакомиться, - слукавил Рудольф, и его прежде вежливая улыбка налилась искренним теплом.
Городской ландшафт понемногу менялся: исчезали рассыпанные по тротуару окурки, наполнялись электрическим светом темные провалы арок, а уродливые дома, будто собранные из бетонных кубиков, уступали место степенной кайзеровской архитектуре. Мишлинг молчал, апатично разглядывая заоконную пестрону неоновых вывесок, и время от времени почесывал лицо, скребя по коже нестрижеными ногтями. Когда "фольксваген" останавливался перед пешеходным переходом, чтобы пропустить спешащих горожан, Рудольф косился на мишлинга и напряженно его разглядывал. Под фетровой шляпой слегка вились густые, неряшливо причесанные волосы. Шелушились обветренные губы, на шее рдел небольшой гнойник. Полупустая гусеница трамвая отразила темными стеклами пестрое разноцветье ночного Берлина. На костлявом колене мишлинга, которое обтягивала лоснящаяся брючина, покоилась бледная кисть с искривленными пальцами, а узкие брюки мешковато висели на ногах, оголяя худые лодыжки. Скрылось за поворотом канареечно-желтое такси. На исцарапанных лакированных ботинках с острыми носами подсыхала свежая грязь. Несмотря на грустно опущенные уголки губ, лицо мишлинга не выражало ничего, кроме желания уснуть. В том, что он был героинщиком, Рудольф даже не сомневался.
"Высажу его на Беренштрассе, вот и всё. Так будет лучше…", - успокоил он себя.
Шелестели косые струи дождя, истошно сверкали неоновые огни баров. Ночь ложилась на город, как тяжелая, расшитая бисером шаль. "Фольксваген" проехал мимо рекламной тумбы, обдав водой из лужи бродячую кошку. Впереди замаячили белым жирные полосы пешеходного перехода, замигал красным светофор. Остановившись, Рудольф вновь покосился на мишлинга и понял, что произошло самое жуткое, что только могло произойти. Мишлинг уснул.
"Боже мой…" – промелькнуло в голове у Рудольфа. Его охватила невыносимая тоска.
Мишлинг спал в пассажирском кресле, привалившись щекой к прохладному окну. Его обмякшее тело казалось хрупким, как птичий скелет. Напряженно втянув воздух сквозь сжатые зубы, Рудольф осторожно протянул к мишлингу руку и сдвинул шляпу ему на лицо, скрывая его приметные черты от взглядов случайных прохожих. Мишлинг вздрогнул, но не проснулся. Его химический сон был слишком крепким.
Выхода не было. Тяжело вздохнув, Рудольф не стал останавливаться на Беренштрассе, где мог бы высадить мишлинга, чтобы тот до утра проспал на скамье. Серый "фольксваген" устремился к жилому комплексу "Лорелея", где Рудольф уже который год проживал в просторной трехкомнатной квартире. "Лорелея" бетонным цилиндром подпирала темное небо, подернутое паутиной облаков, вишневые вкрапления стеклоблоков тускло мерцали во мраке, как тлеющие угли. Кое-где в ракушках балконов горели желтоватым окна. Заняв свое место на подземной парковке, Рудольф вышел из машины и выволок из неё мишлинга. Обхватив его за талию и закинув его руку себе на плечо, Рудольф повел к лифту полуспящее, кажущееся пьяным тело, лицо которого сложно было разглядеть под опущенной шляпой. Мишлинг сонно посапывал, уронив голову на грудь, однако механически волочил ноги, немного облегчая и без того тяжкую ношу Рудольфа. Сердце Рудольфа бешено колотилось. Он то ли опасался, то ли надеялся, что мишлинг проснется раньше времени, так и не оказавшись у него в квартире.
Мерно гудел поднимающийся лифт, играла откуда-то из потолка расслабляющая музыка. По пути наверх в лифт никто не зашел, и Рудольф даже не знал, радоваться ему или огорчаться. Наконец звякнул колокольчик, и лифт остановился на двадцатом этаже. Мраморный пол и серые стены заливал белесый свет. Квартира Рудольфа располагалась в самом дальнем углу от приоткрытой металлической двери, за которой таилась в зеленоватом полумраке угловатая спираль лестничной клетки.
Рудольф опасливо прислонил мишлинга к стене и, придерживая его одной рукой, кое-как вставил ключ в замочную скважину. Ввалившись вместе с мишлингом в темный простор своей квартиры, он так же неуклюже заперся изнутри. Весь бледный от натуги и кокаина, Рудольф наконец перестал притворяться. Ухватив мишлинга под мышки, он поволок его спящее тело в спальню. Мокрые ботинки оставляли на светлом паркете грязный извилистый след. Безжизненно болтались тощие руки, валялась на полу мятая шляпа, упавшая с поникшей головы. За панорамным окном сиял медью исполинский купол Дом Народа, увенчанный имперским орлом.
Добравшись наконец до спальни, Рудольф не без труда уложил мишлинга в центр широкой двуспальной кровати. Тот пробормотал что-то сквозь сон и неуклюже перевернулся на бок, оставляя на молочно-белом атласном покрывале влажные пятна. Отдышавшись, Рудольф собрался с духом и включил свет. Загорелись белым ракушки люстры, по задернутым шторам из серой парчи растекся холодный блеск. С прикроватого столика за Рудольфом наблюдала бронзовая статуэтка обнаженной спортсменки, держащая в руке факел лампочки. У неё в ногах валялись беруши, яблочный огрызок и вскрытая упаковка мятных леденцов.
Рудольф перевел взгляд на спящего мишлинга, и у него мелко застучали зубы. В открывшемся ему профиле еврейские черты смешивались с арийскими: землистая кожа имела светлый оттенок, а не смуглый, резкость немецкого подбородка смягчали чуть припухлые, обветренные губы, а над глубоко посаженными глазами густо чернели семитские брови. Медленно, словно опасаясь чего-то, Рудольф стянул с себя пальто и бросил его на пол. Мишлинг спал, лежа на боку, уткнувшись виском в покрывало. Казалось, ничто не могло его разбудить.
От волнения у Рудольфа задрожали пальцы. Он аккуратно вынул мишлинга из поношенного пальто с вытертыми локтями и уложил его на спину, с раскинутыми в стороны руками. Из грязных манжет белой рубашки торчали костлявые кисти, под мешковатым пиджаком смутно угадывались очертания истощенного туловища. Ноги в узких брюках и лакированных ботинках свисали с кровати, немного не доставая до пола. Окруженный светлыми стенами и партийной роскошью, спящий мишлинг выглядел совсем уж жалко, нездорово и беспомощно. Он напоминал остывающий труп.
Опомнившись, Рудольф замер. Он с сомнением покосился на задернутые шторы, на распахнутую дверь, ведущую из спальни в сумрачный зал. Отпечаток дверного проема падал на паркет штрихом бледного света и растворялся в чернильной мгле. Встряхнув головой, Рудольф вновь уставился на мишлинга, который так удачно подвернулся ему сегодня ночью – на жертву, которая уж точно никому не могла пожаловаться. Именно такая жертва неизменно оказывалась в умозрительных сценариях Рудольфа, которые начали донимать его три года назад, медленно превращаясь из смутного осознания собственного нездоровья в отчетливый план действий. Оказавшись перед судом, Рудольф сказал бы, что смерть жертвы в его сценарий не входила, что он всего лишь желал страданий тем, кто их заслуживал. Однако в глубине души Рудольф признавал, что хоть убийство и не являлось венцом его желаний, но при необходимости он мог бы без особых моральных усилий избавиться от жертвы – как он делал в юности на службе, когда стрелял в людей, которые пробирались на территорию ракетного полигона в Пенемюнде.
Желание накатило на Рудольфа тяжелой, удушливой волной. Он склонился над спящим мишлингом, опрокинув на него угловатую тень. Подрагивающие пальцы Рудольфа коснулись землистой шеи с острым выступом кадыка. Мишлинг не пошевелился. Хищнически прищурившись, Рудольф с мрачным видом слабо сжал мишлингу горло. Мишлинг не шевельнулся и теперь. Заподозрив неладное, Рудольф ослабил хватку и прижал пальцы к его сонной артерии. Сердце мишлинга неспешно билось, перегоняя кровь. Рудольф с облегчением вздохнул. Мишлинг был жив – он всего лишь крепко спал. Нервно усмехнувшись самому себе, он медленно протянул к мишлингу руки и расстегнул на его брюках ремень. Тихо звякнула пряжка.
Рудольф дернулся, силясь вытряхнуть себя из чужой головы. Он ударился плечом об дверь электрощитовой, но совсем не ощутил боли. Вновь горела под потолоком голая лампочка, вновь дышали зимним холодом болотно-зеленые стены. Рудольф с шумом втянул стылый воздух. Заныло ушибленное плечо, во рту появился кисловатый тошнотный привкус. Рудольф издал неуверенный смешок. Всё, что он только что видел, происходило не с ним. С чужим вымыслом, с его искаженным доппельгангером – но только не с ним.
- Абсурд… - пробормотал он, искривив рот.
- Совершенно верно, - согласился Отец Душегубов, не отрывая от него голодного взгляда. - Это всего лишь фантазия, которая поможет тебе подружиться с Анатолием. Поверь мне, он будет очень рад, что не его одного привлекают мишлинги. Эрвин его за это осуждает, представляешь?
Собравшись с мыслями, Рудольф напряженно поинтересовался:
- И когда ты собираешься нас познакомить?
- Послезавтра. Эрвин пригласит тебя на ужин. Не облажайся, - покровительственно усмехнулся Отец Душегубов. – Если провалишь дело, сам будешь виноват.
Рудольф с неохотой посмотрел на него, чуть запрокинув голову, и его пробрала дрожь. Три образа слились вместе: остраненный и слегка надменный наркоторговец из Берлина, истощенный героином наркоман из дурной фантазии, напоминающей ночной кошмар, и лишенное человечности существо с желтыми глазами, которое натянуло на себя знакомую Рудольфу личину. Рудольф не до конца понимал, с кем именно он сейчас разговаривает, кем именно он сейчас является. Будто он не до конца вытряхнул аморального кокаиниста из своей головы.
- Каковы гарантии, что я вернусь домой живым и с доказательствами вины Страшко? – спросил Рудольф, с трудом напустив на себя смелый вид.
- Никаких. Тебе просто придется мне поверить.
Рудольф задумчиво нахмурился. Его одолевали сомнения, но конечная цель, – донельзя жалкий Страшко, сидящий на скамье подсудимых, - манила его, будто солнечно-желтый янтарь на кенигсберском пляже, омываемый прохладными балтийскими волнами.
- Но знай, что если они попытаются тебя убить, я все-таки тебе помогу, - по-дружески улыбнулся Отец Душегубов. – Они мне ужасно надоели. Хочу поскорее заняться кем-нибудь другим.
Рудольфу невольно вспомнились все истории о нераскрытых убийствах, которые он только слышал. Он с подозрением взглянул на Отца Душегубов:
- И часто ты такое проворачиваешь?
- Раз в десять лет. Когда меня одолевает голод, я нахожу нескольких психопатов, которые мечтают об убийствах, - Отец Душегубов склонил голову набок и по-паучьи уставился на Рудольфа. Из его желтых глаз тянулись к потолку черные спирали дыма. - Присматриваюсь к ним, стравливаю друг с другом и дожидаюсь момента, когда в живых останется наиболее умный. Именно он и получает от меня в подарок полную неуловимость. Именно таким и стал когда-то давно Эрвин. Но он исчерпал себя. Я с удовольствием его съем.
Рудольф промолчал. В его голове ледяным вихрем пронеслись мрачные подозрения, но толку от этих подозрений не было совершенно. Избавиться от потустороннего собеседника, не сотрудничая с ним, было невозможно.
Вскинув подбородок, Отец Душегубов высокомерно произнес:
- Эрвину не повезет точно так же, как и его предшественникам. Перед тем, как умереть по-настоящему, он многократно переживет мучительную смерть – по количеству жертв, убитых им ранее. А я, напитавшись его страхом, вернусь домой. Самое сытное блюдо – это страх убийцы, которого заставляют пережить то, что испытали убитые им люди.
От зловещей улыбки, которая медленно проступала на бледных, чуть синюшных губах чужака, Рудольфа передернуло.
- Они точно не знают, что я должен их убить? – хмуро уточнил он. Ему не хотелось знать об Отце Душегубов то, что могло оконательно пошатнуть его рассудок, и без того израненный кокаином.
- Они считают, что загадочный гость поможет им убить молодого мишлинга, и взамен на это представление они получат еще несколько лет вседозволенности. Они ни о чем не подозревают. Поверь мне, - усмехнулся Отец Душегубов, оголив желтоватые, излишне острые для человека зубы.
"Мишлинг? В подвале у Менгеле?.. – озадачился Рудольф, покосившись на полосатый матрас, возле которого валялась явно новая цепь. – Чушь собачья. Тех мальчиков убил не он. И этих тоже, ведь трупы… Где они вообще?"
- Мне нужно хотя бы косвенное подтверждение, что Менгеле – серийный убийца, - решительно произнес Рудольф. – Извини, конечно, но я пока что в это не верю.
- Ладно, - согласился Отец Душегубов. – Когда ты поужинаешь с этими кретинами, я покажу тебе кое-что, чтобы ты успокоился. Идет?
- Идет. И еще один вопрос…
Отец Душегубов недовольно взглянул на Рудольфа из-под очков.
- В городе находят конечности мальчиков, - продолжил Рудольф. – Но где их трупы? Где-то здесь? В электрощитовой?
Отец Душегубов издал тихий, неприятный смешок. От предчувствия беды у Рудольфа перехватило дыхание. Он не мог объяснить причину этого беспокойства, однако оно набирало силу, одолевая его и пробегая по спине противным холодком.
- Скоро узнаешь, - с улыбкой пообещал Отец Душегубов и протянул для рукопожатия бледную, как поганка, руку. – Ну так что? Ты согласен?
Рудольф недоверчиво посмотрел на него снизу вверх. Он надеялся хотя бы предположить, какие эмоции испытывает сейчас Отец Душегубов, однако выражение бескровного лица оставалось непроницаемо-дружелюбным, а желтоватые огоньки глаз лишь слабо мерцали под черной вуалью дыма, словно болотные огни. Судорожно вздохнув, Рудольф с некоторым сомнением пожал протянутую руку – в четверть силы, чтобы случайно не сдавить искривленные пальцы. Рука Отца Душегубов оказалась ледяной, будто замороженная свиная туша. Рудольфа передернуло.
- Фотографию я пока заберу. Верну потом, когда избавишься от них, - ухмыльнулся Отец Душегубов.
Не успел Рудольф понять, что произошло, как тот спрятал в карман пальто мятый конверт с изображением снегиря. Сумрачный подвал исказило помехами, и за окном служебного "мерседеса" медленно проплыла бетонная стелла с гербом Паульмунда. Гельмут спокойно вел машину, постукивая пальцами по обтянутому кожей рулю, выла снаружи метель, гоняя по сугробам седые клочья поземки. Бетонная стелла растворилась в зеркале заднего вида, уступив место нескончаемому каскаду еловых ветвей, прогибающихся под тяжестью слипшегося снега. Бледно-желтый свет фар неспешно скользил по ровной асфальтовой дороге, окаймленной сугробами, вырывая из них серебристые всполохи крохотных искр. Поёжившись, Рудольф несмело шевельнулся. Под ним мягко скрипнуло автомобильное сиденье. На пустом месте сбоку от него лежали поверх зимней фуражки его кожаные перчатки.
- Решил не будить вас, герр барон. Вид у вас был очень уставший, - извиняющимся тоном произнес Гельмут.
- Всё было нормально? Ничего не произошло? – спросил Рудольф, стараясь звучать уверенно.
- Совершенно ничего.
"Значит, это был сон…" - с вялой надеждой подумал Рудольф, ощущая в правой кисти холод, пробравшийся глубоко в плоть. Осторожно запустив пальцы во внутренний карман шинели, Рудольф осознал, что конверта там больше нет. У него заныло сердце. Похлопав ладонью по карману, Рудольф что-то нащупал и достал оттуда записку Рубинштейна – теперь уже совершенно бесполезную.
"Если попытаешься обмануть меня, то никогда не вернешься домой", - гласил изменившийся текст, написанный теперь совсем другим почерком – угловатым, как бурелом. На этот раз чернила были не синими, а грязно-бурыми.
- Ты был прав, Гельмут... Я сам отнесу им документы, это не так уж и срочно, - севшим голосом произнес Рудольф. – Лучше отвези меня в гостиницу.
- Вы уверены? – удивился тот. – Вы очень торопились и говорили…
- А теперь мне нужно в гостиницу. Неужели так сложно просто делать то, что я говорю? – раздраженно перебил его Рудольф. – Впрочем, останови возле аптеки, если будем проезжать мимо.
Рудольф пробыл в Паульмунде чуть больше недели, однако уже успел понять, что законы в этом неприветливом городе соблюдаются далеко не всегда. И хотя чистый медицинский кокаин здесь было не достать, Рудольф вполне мог купить в аптеке первитин, предъявив фармацевту служебное удостоверение эсэсовца из Берлина. Впервые с действием первитина Рудольф познакомился, когда служил на ракетном полигоне, так что он знал, чего ожидать – бурной бессоницы, полной хаотичного веселья, и чрезмерно высокого либидо.
- Понял, герр барон. Сначала в аптеку, потом в гостиницу, - понимающе улыбнулся Гельмут.
"Там, наверное, и проститутки должны быть", - отстраненно подумал Рудольф.
Он был реалистом и понимал, что вряд ли найдет в такой глуши немку: наилучшим вариантом для Паульмунда были женщины балтийского типа, а наиболее вероятным – всего лишь светловолосые славянки с легкой монголоидностью в лице. Но Рудольф надеялся, что первитин временно размоет границы расовых отличий. Устало откинувшись на спинку сиденья, он сложил руки на груди и закрыл глаза. Сердце сдавило тоской, перед веками всплыли кадры цветного мультфильма о снеговике, который радостно умирал под лучами солнца.
Следом, будто по цепочке, вспомнилось то, о чем Рудольф, как ему казалось, уже давно навсегда забыл: неуловимый вкус кукурузных хлопьев, которые он ел всухомятку, запивая молоком, пока смотрел телевизор, солнечный двор гимназии с гипсово-белым фонтаном из трех минималистичных чаш, детские игры в жмурки, когда ровесники старались как можно тише убежать от Рудольфа, пока он с завязанными глазами шагал сквозь сгустившуюся, красноватую тьму…
Однажды мультфильм в назначенное время не показали. В тот день ничего, кроме "Кольца Нибелунгов", по телевизору не показывали. Рудольф переключал каналы, однако видел везде один и тот же мрачный хор валькирий. Вечером позвонил отец, который ранним утром в спешке покинул Кенигсберг, чтобы как можно скорее оказаться в столице. Он сообщил жене, что великий фюрер скончался, а его самого назначили гауляйтером Берлина, так что теперь им всем придется временно уехать из Кенигсберга. Со временем фамильный замок стал для семейства Штакельбергов местом отдыха, а многочисленные отпрыски прочно обосновались в Берлине и множестве столичных госструктур.
У Рудольфа защипало в глазах. Сморгнув навернувшиеся слезы, он устремил стеклянный взгляд за окно "мерседеса", где грязно-синей кинолентой проносился ельник, облепленный комковатым снегом. Рудольфа не покидало ощущение, будто лето его жизни безвозвратно закончилось.
От волнения у Рудольфа задрожали пальцы. Он аккуратно вынул мишлинга из поношенного пальто с вытертыми локтями и уложил его на спину, с раскинутыми в стороны руками. Из грязных манжет белой рубашки торчали костлявые кисти, под мешковатым пиджаком смутно угадывались очертания истощенного туловища. Ноги в узких брюках и лакированных ботинках свисали с кровати, немного не доставая до пола. Окруженный светлыми стенами и партийной роскошью, спящий мишлинг выглядел совсем уж жалко, нездорово и беспомощно. Он напоминал остывающий труп.
Опомнившись, Рудольф замер. Он с сомнением покосился на задернутые шторы, на распахнутую дверь, ведущую из спальни в сумрачный зал. Отпечаток дверного проема падал на паркет штрихом бледного света и растворялся в чернильной мгле. Встряхнув головой, Рудольф вновь уставился на мишлинга, который так удачно подвернулся ему сегодня ночью – на жертву, которая уж точно никому не могла пожаловаться. Именно такая жертва неизменно оказывалась в умозрительных сценариях Рудольфа, которые начали донимать его три года назад, медленно превращаясь из смутного осознания собственного нездоровья в отчетливый план действий. Оказавшись перед судом, Рудольф сказал бы, что смерть жертвы в его сценарий не входила, что он всего лишь желал страданий тем, кто их заслуживал. Однако в глубине души Рудольф признавал, что хоть убийство и не являлось венцом его желаний, но при необходимости он мог бы без особых моральных усилий избавиться от жертвы – как он делал в юности на службе, когда стрелял в людей, которые пробирались на территорию ракетного полигона в Пенемюнде.
Желание накатило на Рудольфа тяжелой, удушливой волной. Он склонился над спящим мишлингом, опрокинув на него угловатую тень. Подрагивающие пальцы Рудольфа коснулись землистой шеи с острым выступом кадыка. Мишлинг не пошевелился. Хищнически прищурившись, Рудольф с мрачным видом слабо сжал мишлингу горло. Мишлинг не шевельнулся и теперь. Заподозрив неладное, Рудольф ослабил хватку и прижал пальцы к его сонной артерии. Сердце мишлинга неспешно билось, перегоняя кровь. Рудольф с облегчением вздохнул. Мишлинг был жив – он всего лишь крепко спал. Нервно усмехнувшись самому себе, он медленно протянул к мишлингу руки и расстегнул на его брюках ремень. Тихо звякнула пряжка.
Рудольф дернулся, силясь вытряхнуть себя из чужой головы. Он ударился плечом об дверь электрощитовой, но совсем не ощутил боли. Вновь горела под потолоком голая лампочка, вновь дышали зимним холодом болотно-зеленые стены. Рудольф с шумом втянул стылый воздух. Заныло ушибленное плечо, во рту появился кисловатый тошнотный привкус. Рудольф издал неуверенный смешок. Всё, что он только что видел, происходило не с ним. С чужим вымыслом, с его искаженным доппельгангером – но только не с ним.
- Абсурд… - пробормотал он, искривив рот.
- Совершенно верно, - согласился Отец Душегубов, не отрывая от него голодного взгляда. - Это всего лишь фантазия, которая поможет тебе подружиться с Анатолием. Поверь мне, он будет очень рад, что не его одного привлекают мишлинги. Эрвин его за это осуждает, представляешь?
Собравшись с мыслями, Рудольф напряженно поинтересовался:
- И когда ты собираешься нас познакомить?
- Послезавтра. Эрвин пригласит тебя на ужин. Не облажайся, - покровительственно усмехнулся Отец Душегубов. – Если провалишь дело, сам будешь виноват.
Рудольф с неохотой посмотрел на него, чуть запрокинув голову, и его пробрала дрожь. Три образа слились вместе: остраненный и слегка надменный наркоторговец из Берлина, истощенный героином наркоман из дурной фантазии, напоминающей ночной кошмар, и лишенное человечности существо с желтыми глазами, которое натянуло на себя знакомую Рудольфу личину. Рудольф не до конца понимал, с кем именно он сейчас разговаривает, кем именно он сейчас является. Будто он не до конца вытряхнул аморального кокаиниста из своей головы.
- Каковы гарантии, что я вернусь домой живым и с доказательствами вины Страшко? – спросил Рудольф, с трудом напустив на себя смелый вид.
- Никаких. Тебе просто придется мне поверить.
Рудольф задумчиво нахмурился. Его одолевали сомнения, но конечная цель, – донельзя жалкий Страшко, сидящий на скамье подсудимых, - манила его, будто солнечно-желтый янтарь на кенигсберском пляже, омываемый прохладными балтийскими волнами.
- Но знай, что если они попытаются тебя убить, я все-таки тебе помогу, - по-дружески улыбнулся Отец Душегубов. – Они мне ужасно надоели. Хочу поскорее заняться кем-нибудь другим.
Рудольфу невольно вспомнились все истории о нераскрытых убийствах, которые он только слышал. Он с подозрением взглянул на Отца Душегубов:
- И часто ты такое проворачиваешь?
- Раз в десять лет. Когда меня одолевает голод, я нахожу нескольких психопатов, которые мечтают об убийствах, - Отец Душегубов склонил голову набок и по-паучьи уставился на Рудольфа. Из его желтых глаз тянулись к потолку черные спирали дыма. - Присматриваюсь к ним, стравливаю друг с другом и дожидаюсь момента, когда в живых останется наиболее умный. Именно он и получает от меня в подарок полную неуловимость. Именно таким и стал когда-то давно Эрвин. Но он исчерпал себя. Я с удовольствием его съем.
Рудольф промолчал. В его голове ледяным вихрем пронеслись мрачные подозрения, но толку от этих подозрений не было совершенно. Избавиться от потустороннего собеседника, не сотрудничая с ним, было невозможно.
Вскинув подбородок, Отец Душегубов высокомерно произнес:
- Эрвину не повезет точно так же, как и его предшественникам. Перед тем, как умереть по-настоящему, он многократно переживет мучительную смерть – по количеству жертв, убитых им ранее. А я, напитавшись его страхом, вернусь домой. Самое сытное блюдо – это страх убийцы, которого заставляют пережить то, что испытали убитые им люди.
От зловещей улыбки, которая медленно проступала на бледных, чуть синюшных губах чужака, Рудольфа передернуло.
- Они точно не знают, что я должен их убить? – хмуро уточнил он. Ему не хотелось знать об Отце Душегубов то, что могло оконательно пошатнуть его рассудок, и без того израненный кокаином.
- Они считают, что загадочный гость поможет им убить молодого мишлинга, и взамен на это представление они получат еще несколько лет вседозволенности. Они ни о чем не подозревают. Поверь мне, - усмехнулся Отец Душегубов, оголив желтоватые, излишне острые для человека зубы.
"Мишлинг? В подвале у Менгеле?.. – озадачился Рудольф, покосившись на полосатый матрас, возле которого валялась явно новая цепь. – Чушь собачья. Тех мальчиков убил не он. И этих тоже, ведь трупы… Где они вообще?"
- Мне нужно хотя бы косвенное подтверждение, что Менгеле – серийный убийца, - решительно произнес Рудольф. – Извини, конечно, но я пока что в это не верю.
- Ладно, - согласился Отец Душегубов. – Когда ты поужинаешь с этими кретинами, я покажу тебе кое-что, чтобы ты успокоился. Идет?
- Идет. И еще один вопрос…
Отец Душегубов недовольно взглянул на Рудольфа из-под очков.
- В городе находят конечности мальчиков, - продолжил Рудольф. – Но где их трупы? Где-то здесь? В электрощитовой?
Отец Душегубов издал тихий, неприятный смешок. От предчувствия беды у Рудольфа перехватило дыхание. Он не мог объяснить причину этого беспокойства, однако оно набирало силу, одолевая его и пробегая по спине противным холодком.
- Скоро узнаешь, - с улыбкой пообещал Отец Душегубов и протянул для рукопожатия бледную, как поганка, руку. – Ну так что? Ты согласен?
Рудольф недоверчиво посмотрел на него снизу вверх. Он надеялся хотя бы предположить, какие эмоции испытывает сейчас Отец Душегубов, однако выражение бескровного лица оставалось непроницаемо-дружелюбным, а желтоватые огоньки глаз лишь слабо мерцали под черной вуалью дыма, словно болотные огни. Судорожно вздохнув, Рудольф с некоторым сомнением пожал протянутую руку – в четверть силы, чтобы случайно не сдавить искривленные пальцы. Рука Отца Душегубов оказалась ледяной, будто замороженная свиная туша. Рудольфа передернуло.
- Фотографию я пока заберу. Верну потом, когда избавишься от них, - ухмыльнулся Отец Душегубов.
Не успел Рудольф понять, что произошло, как тот спрятал в карман пальто мятый конверт с изображением снегиря. Сумрачный подвал исказило помехами, и за окном служебного "мерседеса" медленно проплыла бетонная стелла с гербом Паульмунда. Гельмут спокойно вел машину, постукивая пальцами по обтянутому кожей рулю, выла снаружи метель, гоняя по сугробам седые клочья поземки. Бетонная стелла растворилась в зеркале заднего вида, уступив место нескончаемому каскаду еловых ветвей, прогибающихся под тяжестью слипшегося снега. Бледно-желтый свет фар неспешно скользил по ровной асфальтовой дороге, окаймленной сугробами, вырывая из них серебристые всполохи крохотных искр. Поёжившись, Рудольф несмело шевельнулся. Под ним мягко скрипнуло автомобильное сиденье. На пустом месте сбоку от него лежали поверх зимней фуражки его кожаные перчатки.
- Решил не будить вас, герр барон. Вид у вас был очень уставший, - извиняющимся тоном произнес Гельмут.
- Всё было нормально? Ничего не произошло? – спросил Рудольф, стараясь звучать уверенно.
- Совершенно ничего.
"Значит, это был сон…" - с вялой надеждой подумал Рудольф, ощущая в правой кисти холод, пробравшийся глубоко в плоть. Осторожно запустив пальцы во внутренний карман шинели, Рудольф осознал, что конверта там больше нет. У него заныло сердце. Похлопав ладонью по карману, Рудольф что-то нащупал и достал оттуда записку Рубинштейна – теперь уже совершенно бесполезную.
"Если попытаешься обмануть меня, то никогда не вернешься домой", - гласил изменившийся текст, написанный теперь совсем другим почерком – угловатым, как бурелом. На этот раз чернила были не синими, а грязно-бурыми.
- Ты был прав, Гельмут... Я сам отнесу им документы, это не так уж и срочно, - севшим голосом произнес Рудольф. – Лучше отвези меня в гостиницу.
- Вы уверены? – удивился тот. – Вы очень торопились и говорили…
- А теперь мне нужно в гостиницу. Неужели так сложно просто делать то, что я говорю? – раздраженно перебил его Рудольф. – Впрочем, останови возле аптеки, если будем проезжать мимо.
Рудольф пробыл в Паульмунде чуть больше недели, однако уже успел понять, что законы в этом неприветливом городе соблюдаются далеко не всегда. И хотя чистый медицинский кокаин здесь было не достать, Рудольф вполне мог купить в аптеке первитин, предъявив фармацевту служебное удостоверение эсэсовца из Берлина. Впервые с действием первитина Рудольф познакомился, когда служил на ракетном полигоне, так что он знал, чего ожидать – бурной бессоницы, полной хаотичного веселья, и чрезмерно высокого либидо.
- Понял, герр барон. Сначала в аптеку, потом в гостиницу, - понимающе улыбнулся Гельмут.
"Там, наверное, и проститутки должны быть", - отстраненно подумал Рудольф.
Он был реалистом и понимал, что вряд ли найдет в такой глуши немку: наилучшим вариантом для Паульмунда были женщины балтийского типа, а наиболее вероятным – всего лишь светловолосые славянки с легкой монголоидностью в лице. Но Рудольф надеялся, что первитин временно размоет границы расовых отличий. Устало откинувшись на спинку сиденья, он сложил руки на груди и закрыл глаза. Сердце сдавило тоской, перед веками всплыли кадры цветного мультфильма о снеговике, который радостно умирал под лучами солнца.
Следом, будто по цепочке, вспомнилось то, о чем Рудольф, как ему казалось, уже давно навсегда забыл: неуловимый вкус кукурузных хлопьев, которые он ел всухомятку, запивая молоком, пока смотрел телевизор, солнечный двор гимназии с гипсово-белым фонтаном из трех минималистичных чаш, детские игры в жмурки, когда ровесники старались как можно тише убежать от Рудольфа, пока он с завязанными глазами шагал сквозь сгустившуюся, красноватую тьму…
Однажды мультфильм в назначенное время не показали. В тот день ничего, кроме "Кольца Нибелунгов", по телевизору не показывали. Рудольф переключал каналы, однако видел везде один и тот же мрачный хор валькирий. Вечером позвонил отец, который ранним утром в спешке покинул Кенигсберг, чтобы как можно скорее оказаться в столице. Он сообщил жене, что великий фюрер скончался, а его самого назначили гауляйтером Берлина, так что теперь им всем придется временно уехать из Кенигсберга. Со временем фамильный замок стал для семейства Штакельбергов местом отдыха, а многочисленные отпрыски прочно обосновались в Берлине и множестве столичных госструктур.
У Рудольфа защипало в глазах. Сморгнув навернувшиеся слезы, он устремил стеклянный взгляд за окно "мерседеса", где грязно-синей кинолентой проносился ельник, облепленный комковатым снегом. Рудольфа не покидало ощущение, будто лето его жизни безвозвратно закончилось.
Глава 11
Трясина
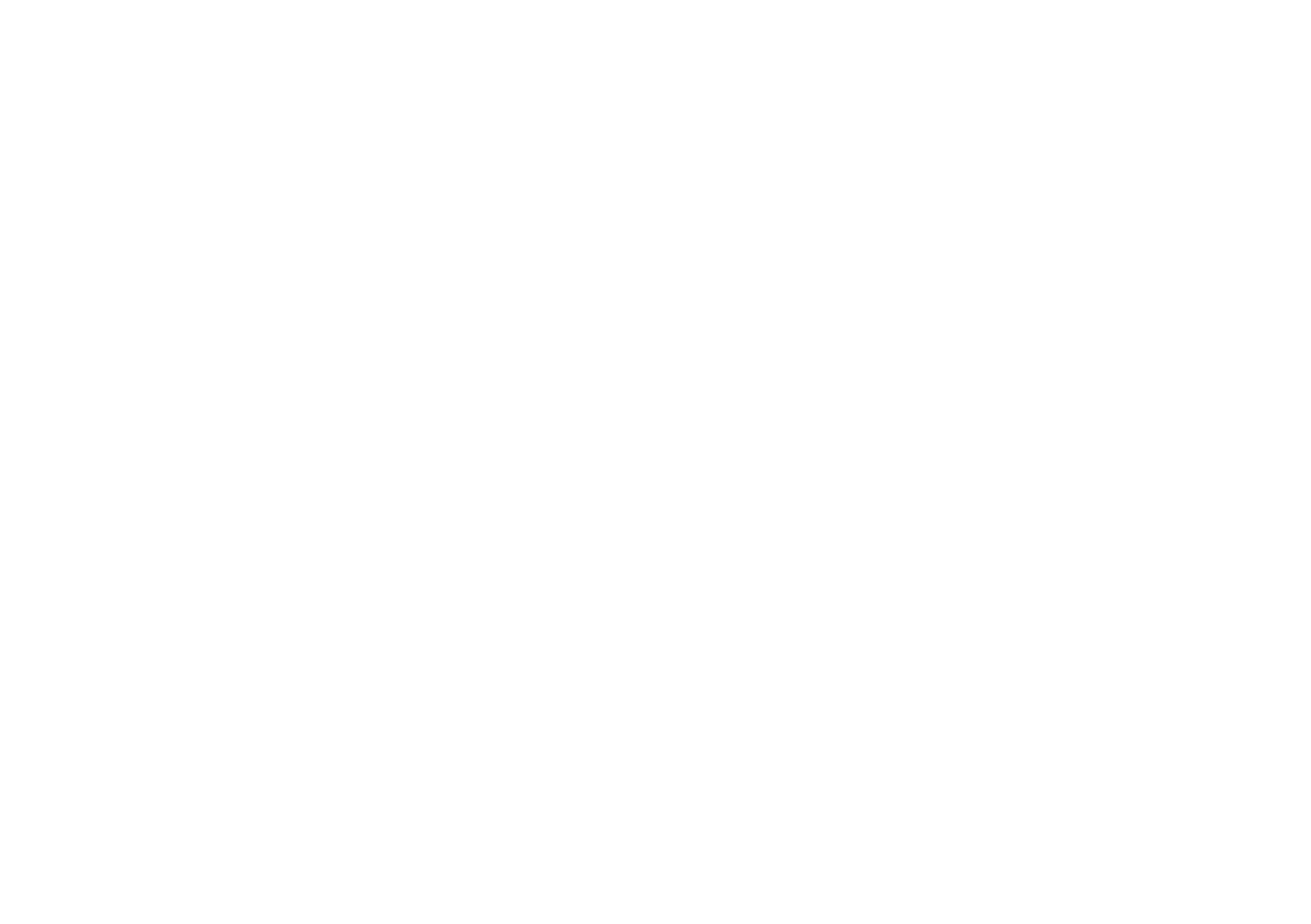
2020 год, июнь-июль
Фишер был рад, что взял накануне отпуск. Неожиданное столкновение с Щукиным вывело его из строя: на лице медленно выцветали синяки, из распухшего носа до сих пор шли розоватые от крови сопли, а бугристая шишка на затылке, покрытая слоем коросты, давала о себе знать всякий раз, когда Фишер пытался перевернуться на спину, чтобы принять удобную позу и как следует выспаться. Впрочем, спать мешало не только это. Фишер морщился от ноющей боли, если поворачивал голову влево, если слишком резко шевелил правым запястьем, которое потянул, пока душил Щукина, если неосторожно касался чего-то пальцами, под ногти которых Щукин загонял обойные гвозди.
Фишер сделал всё, что мог: наложил на шею согревающий компресс, повязав поверх него мохеровый шарф, обмотал поврежденное запястье эластичным бинтом, заклеил пластырем кончики пальцев и кровоподтеки под ногтями. Фишер надеялся, что к концу недельного отпуска перестанет болеть хотя бы запястье – ему не хотелось повредить его еще сильнее, таская больничные трупы.
Четвертый день отпуска Фишер провел так же, как и предыдущие: он дремал на разложенном диване в зале, смотрел фильмы ужасов и пил чай с гематогеном. Заходить в спальню, не говоря уж о том, чтобы спать там, было противно - и не даже не из-за того, что именно там Щукин застал сонного Фишера врасплох, а из-за лежбища Щукина, которое Фишер, попав в Хмарь, обнаружил напротив своей кровати, под зарешеченным окном, выходящим в палисадник. На полу лежал синий надувной матрас, который Щукин явно принес с собой. В изголовье теснились две подушки, которые раньше хранились у Фишера в шкафу. Поверх валялось шерстяное одеяло в черно-серую клетку. Вокруг матраса были разбросаны бутылки из-под холодного чая, смятые пластиковые стаканчики и вскрытые консервные банки, в которых цвела на остатках мяса плесень.
Судя по их количеству, Щукин действительно мог наблюдать за Фишером два месяца подряд. И теперь Фишер даже понимал, почему это было возможно. Всё это время Щукин видел, как призрачный силуэт Фишера крепко спит, читает перед сном мемуары Денниса Нильсена и занимается сексом с Нелей. Щукин видел, как Фишер слепо нашаривает очки на тумбочке, как он подчеркивает карандашом абзацы, в которых Нильсен душил своих жертв галстуком, как Неля избивает Фишера ремнем и тушит об него сигареты. Осознание всего этого должно было вызывать омерзение, но Фишер находил в себе лишь нежелание смотреть на гору мусора, оставшуюся после Щукина.
Именно поэтому Фишер спал теперь в зале. Не вылезая из-под шерстяного пледа с тигром, он проваливался в зыбкий сон, закусывал крепкий чай гематогеном, пересматривал фильмы с графичными сценами насилия, которые начал коллекционировать еще в седьмом классе, когда у него только появился интернет. Разрешение было низким, а субтитры не всегда присутствовали, но Фишера это не смущало. Показанные в фильмах пытки успокаивали его – как раньше, так и теперь. Пока по асфальту двора бил стылый ливень, высекая из луж крупные пузыри, изможденный студент, одетый в рваную рубашку, блевал на кафельный пол обветшалой ванной комнаты, где стояли в ряд хрустальные фужеры. Выдавив из себя последние нити рвоты, студент с обреченным видом выпивал содержимое фужеров и, по-лягушачьи булькая горлом, повторял процедуру. В синеватом сумраке зала мерцало стеклянными глазами чучело глухаря, висящее над дверью спальни, в желтушно-грязном подвале избитому адвокату, привязанному скотчем к стулу, запихивали в рот его же отрезанные пальцы. Фишер курил, осторожно двигая раненым запястьем, стряхивая пепел в пепельницу, которая стояла на табуретке у дивана. Отощавший от плохого обращения клерк, прикованный цепью к трубе в туалете, кривился от омерзения, пропихивая себе в горло ошметки кремового торта, в которых шевелились кузнечики. Темные глаза Фишера осоловело блестели за стеклами очков, перебинтованная рука замирала, роняя пепел на плед. Время окончательно растворилось в звенящей пустоте.
"Когда это началось?" – думал Фишер, пока на экране телевизора плачущему следователю приклеивали на лицо суперклеем подгнивший свиной пятачок. Уставившсь за экран, Фишер вспоминал, как в многочисленных книгах о войне пытали партизан фашисты, когда он переворачивал желтые от времени страницы, как валились на жирный чернозем индюшачьи головы, когда Фишер по просьбе Лоры Генриховны забивал их на пропитанной кровью колоде.
В кадре появился второй тюбик суперклея и не менее подгнившие свиные уши. Фишер мысленно перескочил сквозь годы к минувшему четвергу, когда они с Нелей бросили мащину Щукина в березняке за частным сектором и преодолели мизерный остаток пути пешком. Ключ от калитки остался в доме. Превозмогая боль во всем теле, Фишер подсадил Нелю, чтобы та забралась на крышу гаража, спустилась по ржавой лестнице в огород и отперла калитку изнутри. Гремя шифером и листами железа, Неля брела по крыше. Фишер поковылял к калитке. Его радовало, что там, где они сейчас находились, не было ни одного свидетеля.
Оказавшись в доме, Неля первым делом отправилась в душ. Её уже не волновало излишне большое окно ванной, выходящее на задний двор. Глухо шумела вода, Фишер сидел за кухонным столом. Он обрабатывал спиртом поврежденные пальцы, шипел сквозь зубы от режущей боли. Он пытался подумать о чем-нибудь, но не мог. Голова была тяжелой, как чугунная гиря. Краем глаза Фишер заметил, что через темный коридор прошла Неля в голубом полотенце, но сразу же об этом забыл. Когда Неля вернулась в коридор, уже одетая, он догадался, что её нужно проводить. Накинув поверх окровавленной пижамы халат, Фишер провел Нелю мимо Шерхана.
До ванной Фишер не добрался – он прилег на диван, чтобы прийти в себя, и впервые за несколько лет крепко уснул. Проснулся он лишь через восемнадцать часов, уже в пятницу, когда его разбудил, настойчиво мяукая, голодный Нерон. Именно в этот момент Фишеру стало ясно, что остаток отпуска он проведет в лежачем положении. Не без труда насыпав Нерону корм, Фишер все-таки добрел до ванной, где несколько часов лежал в остывающей воде, уставившись бездумным взглядом в размытый потолок. Затем, осторожно выбравшись из ванной, Фишер надел чистую пижаму и побрел во двор, чтобы покормить Шерхана.
Все выходные Фишер пролежал на раскладном диване, закутавшись в плед и успокаивая себя любимыми фильмами. Снаружи грохотал нескончаемый ливень. Фишер курил и согревался чаем. На экране рыдающему журналисту вспарывали живот, помещали в брюшную полость живого тарантула и зашивали рану. Щукин сидел на связанных ногах Фишера, прижимая их к грязному полу заброшенной дачи. Частный детектив сучил ногами, пока ему отрубали голову тупым мачете. Щукин зажимал Фишеру рот, вдавливая его затылком в шершавую стену. Отрубленная голова детектива падала в грязный мусорный бак, поверх черных пакетов и размокшего пищевого мусора. У Щукина изо рта тошнотворно пахло луком. Мертвенно-синие отблески телеэкрана вязко стекали по кожистым листьям пальмы в деревянной кадке, по фарфору сервизов и хрусталю бокалов в чешской стенке, по очкам Фишера и его пятнистому от синяков лицу.
Впрочем, уже в понедельник Фишер чувствовал себя лучше: меньше болело тело, вернулись ощущение времени и связь с реальностью. То ли фильмы помогли, то ли солнечная погода настраивала на хороший лад. Почистив зубы, Фишер вышел во вдор, уселся на крыльце и закурил. Справа от крыльца валялись на асфальте четыре мышиных трупа. Около них, подставив живот золотистым солнечным бликам, спал Нерон.
- Что не жрешь, садюга? – ласково спросил Фишер, почесывая ему за ухом.
Нерон сонно приоткрыл травянисто-зеленые глаза и, изогнувшись пушистой дугой, перекатился на бок, после чего вновь задремал. Полуденный свет пробивался сквозь полог виноградных листьев, высекая из черной шерсти Нерона медную рыжину. На раненую кисть Фишера, обмотанную бинтом, села божья коровка. Мягко стряхнув её, Фишер вернулся в прежнее сутулое положение, отрешенно затянулся и вынул из нагрудного кармана пижамы старый детский калейдоскоп – бледно-красный, как неспелая вишня, покрытый царапинами, размером с палец.
Калейдоском покоился у Фишера на ладони. Фишер пристально смотрел на калейдоскоп, словно тот мог посмотреть на него в ответ. Фишеру представилось, будто он, ощущая стертыми коленями холодный кафель ванной, пихает себе в горло пальцы и блюет на пол, выплескивая кисло пахнущую рвоту себе на ноги, на кафель, в хрустальные фужеры… Взгляд Фишера остекленел и увяз в теплом воздухе. Зазвенели об кафель фужеры, вновь хлынула рвота. Фишер усмехнулся одними губами – то ли задумчиво, то ли безрадостно.
Даже в колонии жизнь была более прогнозируемой. Фишер знал правила игры: держись актива – и всё будет в порядке. У жизни была конкретика. Теперь же Фишеру казалось, будто его вот-вот столкнут в яму – темную, как трясина, стылую, как осенняя морось. Фишер не имел ни малейшего понятия о происходящем. Правила игры были ему неизвестны. И в них срочно требовалось разобраться, чтобы не усугубить и без того скверное положение.
Что-то проклюнулось в Фишере двадцать пять лет назад, когда его биоголический отец прижал правую ладонью двухлетнего Енюши к раскаленной конфорке плиты, смешав аромат жареной картошки со сладковатой вонью жженого мяса. Что-то медленно пробуждалось, пока семилетний Енюша пришпиливал к ковру анатомические схемы человеческого тела, вырезанные из журналов Лоры Генриховны, чтобы любоваться ими перед сном. Что-то готовилось вырваться наружу, пока Щукин, заткнув Фишеру рот грязной балаклавой, загонял ему под ногти обойные гвозди, пока он бил Фишера по лицу, если тот терял сознание.
В Хмари оно наконец обрело свободу. Фишер растерянно бродил по притоптанным тропам огорода, взбивая старыми калошами зернистую пыль. В подрагивающих пальцах тлела сигарета. Рыхлый синюшный воздух, пропитанный бледно-желтым солнечным светом, неспешно колыхался. Мертвое безмолвие давило на Фишера со всех сторон, вызывая тягостное чувство тошноты. Совсем не пели птицы. Подергивались тусклые помидорные кусты, привязанные к деревянным палкам, расплывались в углу огорода вишневые деревья, присыпанные тускло-белыми цветами. Гуща виноградных листьев, цепляясь за металлический каркас, ползла к серой шиферной крыше.
Нервно затянувшись, Фишер выдохнул зыбкий дым и беспокойно огляделся по сторонам, ожидая увидеть нечто запредельное, но увидел лишь то, что окружало его уже не первый год: большой сарай с чердаком, окаймленный бледно-зелеными волнами полыни, причудливой формы дом, отделанный планками темного дерева и пожелтевшим ракушечником, железная бочка с водой между виноградником и задним двором… Всё это было тронуто синеватой печатью тления, которое принес с собой недоступный ранее мир. В бескровно-белой, осыпающейся штукатурке сарая смутно проглядывали кирпичи, по окнам, окаймленным голубыми наличниками, жухло размазывалось отражение неба с застывшими облаками, похожими на комья ваты. Вода в бочке нестерпимо вспыхивала золотисто-желтыми искрами – на них невозможно было смотреть без боли.
Поморщившись, Фишер отвел взгляд и вновь нервно затянулся. Он чувствовал себя мухой, которая увязла в застывшем янтаре времени. Всё вокруг него мелко подрагивало, превращая этот странный мир в ноздреватое, слоистое месиво из грязно-синих теней и желтого солнечного света.
Бросив окурок на землю, Фишер раздавил его калошей и побрел во двор. Возле крыльца валялись четыре мертвые мыши, однако Нерона нигде не было. Шерхана в будке тоже не оказалось – лишь лежала на влажном асфальте цепь с застегнутым ошейником. Озадаченно разглядывая её, Фишер вынул из кармана штанов мятую пачку "Мальборо" и снова закурил. Пепел упал на эластичный бинт, стягивающий правое запястье Фишера, и размазался по нему бледно-серым штрихом.
"То есть, птиц здесь нет. И животных тоже," – сделал вывод Фишер.
Озадаченный, он подошел к крыльцу. На тусклой рыжине досок подрагивали леденцово-желтые блики. Фишер поправил очки и впился в крыльцо сосредоточенным взглядом. Виноградный полог ударило порывом ветра, солнечные блики заметались из стороны в сторону. Фишер наконец увидел то, что хотел. По перилам, крашеным голубой масляной краской, медленно ползла божья коровка.
"А насекомые есть…" – завершил мысль Фишер. Открытие казалось бесполезным.
Вернувшись на крыльцо, Фишер затянулся дотлевающей сигаретой и погрузился в раздумья. "Нива", которой перед смертью пользовался Щукин, находилась сейчас в березняке, на грани леса – именно там Фишер с Нелей её бросили. Фишер вспомнил, как Щукин в порыве гнева чуть не задушил его, хоть и планировал всего лишь пытать. Фишер осознал, что в прошлый четверг он довел до конца то, что пытался сделать еще в колонии – задушил Щукина насмерть, задушил его связанными, окровавленными, тяжелыми от боли руками. На губах Фишера проступила слабая улыбка. Он бросил окурок на сухой асфальт двора, шаркнул по нему калошей и неспешно удалился в прохладную темноту, всколыхнув дверную занавеску из желтовато-белого тюля.
Наружу Фишер вышел через десять минут, одетый в темные брюки и синюю рубашку в клетку. Оказавшись на линии, он на всякий случай запер калитку и побрел налево, намереваясь дойти до крайнего дома и затем углубиться в лес. Под мышкой он держал скрученный чехол для ножей, сделанный из толстой черной кожи. Тягуче колыхался воздух – блекло-голубой, как свет телеэкрана, зернистый, как пленка старой кассеты. Подрагивали зыбкие контуры шиферных крыш, деревянных заборов, гаражных ворот. Ботинки Фишера взбивали желтоватую пыль ухабистой грунтовки, остро сверкали солнцем окна частных домов, тут и там виднелись недвижимые, дымчато-серые тени, в которых Фишер с удивлением узнавал соседей: сидящих на лавках взрослых, слоняющихся по линии подростков, играющих в палисадниках детей… Они существовали параллельно с Фишером, но не видели его. Фишер брел и курил, глубоко затягиваясь. В скрученном чехле позвякивали ножи.
Темно-зеленая "нива" до сих пор стояла в березняке. Дорожная грязь на её боках уже давно засохла, а сам автомобиль покрылся слоем пыли. Фишер вдруг осознал, что прошло слишком много времени. Нахмурившись, он все-таки бросил чехол с ножами на пассажирское сиденье и сел за руль.
К счастью, "нива" завелась. Шурша колесами, она ползла по наезженной грунтовке, оставляя после себя легкие облака песочной пыли. Фишер неспешно вел машину. У него изо рта торчала сигарета. Иногда Фишер перехватывал её правой рукой, чтобы стряхнуть пепел. На левой руке ныли кончики пальцев. Подкладка пластырей пропиталась свежей кровью.
Фишер напряженно следил за дорогой. С обеих сторон к "ниве" тянулся синевато-зеленый, чуть размытый ельник, усыпанный желтоватыми мазками полуденного света. Мыслями Фишер был в прошлом. Ему было четыре года, он апатично ждал, когда вернется мать, вышедшая в магазин за продуктами. Он ждал три дня, не выключая на ночь свет, питаясь хлебом и запивая его водой из тазика, где дожидались разделки мертвые окуни. Когда хлеб закончился, у Енюши остался лишь один источник пищи – он сам.
В ельнике становилось все темнее, редкие блики солнечного света напоминали глаза, зажигающиеся то в черном дупле высохшего дерева, то в сырой глубине оврага. Фишера не покидало ощущение, будто за ним следят. Пытаясь стряхнуть с себя паранойю, Фишер вновь вернулся мыслями в детство. Семилетний Енюша лежал в шепчущих зарослях кукурузы, которую выращивала Лора Генриховна, и стрелял себе в голову из игрушечного "нагана". По сочным зеленым листьям разливался желтый полуденный свет.
Зернистый ельник медленно сменялся такими же зернистыми осинами. В голубом небе подрагивала молочная рябь облаков, слепым глазом висело бледное полуденное солнце. Когда на горизонте проступили ветхие дачные домики, покинутые владельцами, и искривленные яблони, за которыми уже давно никто не ухаживал, Фишер впервые со дня похищения испытал нечто, похожее на сильное чувство – его понемногу охватывало предвкушение. Фишер прибавил скорость. Переваливаясь с ухаба на ухаб, “нива” устремилась по извилистой колее - туда, где должен был находиться труп Щукина. На пассажирском сиденье подпрыгивал скрученный чехол. В нем позвякивали кухонные ножи и молоток для мяса. С обеих сторон колеи колыхались мутные волны сорняков и полыни, тут и там нависал борщевик в человеческий рост. В грязно-зеленых зарослях виднелись покосившиеся дачные домики, оплетенные розоватым вьюнком, щетинились колючими ветвями кусты малины.
Наконец в синеватой дымке показалась дача, где так нелепо погиб Щукин. Дощатые стены покрывала зеленая шелуха краски, чуть покосившуюся деревянную дверь пятнала темная плесень. Грязный шифер, испещренный трещинами, казался хрупким, как яичная скорлупа. На приземистом крыльце поблескивали обломки голубого кафеля, слева от крыльца раскинула ветви сосна, к которой жался обветшалый забор из разноцветных лыжных палок. Фишер жадно всмотрелся, но тут же озадаченно вскинул брови. "Нива" замедлилась и остановилась там, где колея плавно переходила в небольшую поляну, беспорядочно поросшую травой.
Не глуша двигатель, Фишер вынул из чехла поварской нож и осторожно вышел из машины. На поляне перед дачным домиком чернело кострище. Громоздились друга на друга четыре автомобильные шины – деформированные, не до конца сгоревшие. Земля под ними была серой от золы, а чуть поодаль валялась пустая канистра из-под бензина. С опаской приблизившись к кострищу, Фишер неуверенно коснулся одной из шин. Она была обычной температуры. Нахмурившись, Фишер разворошил край кострища мыском ботинка и не обнаружил там тлеющих углей. Лишь скатилась на траву кость – частично обугленное человеческое ребро. Кость тоже была обычной температуры. Кто бы ни разводил костер, он уже давно покинул это место.
Крепко сжимая рукоять ножа, Фишер прокрался вокруг кострища и оказался возле крыльца. Он медленно потянул на себя плесневелую дверь. Та протяжно скрипнула. Неуверенно заглянув внутрь, Фишер вновь увидел комнату, в которой чуть не умер. В горле встал холодный ком. Там, где должен был лежать труп Щукина, темнело на дощатом полу бурое пятно крови. От него плавной дугой тянулся к крыльцу след волочения. Под окном, у грязной стены с осыпающейся штукатуркой, валялась перерезанная веревка, похожая на мертвого ужа. Сиротливо стояли разрядившиеся туристические фонари.
Фишер невольно покосился на дверной проем, ведущий в другую комнату, словно кто-то мог оттуда на него напасть. Но там никого не было - лишь ветхие стены и грязный пол с зыбкими квадратами солнечного света. Немного успокоившись, Фишер осмотрел то, что осталось от Щукина. След волочения, образованный песком и сухими листьями, начинался в центре комнаты и заканчивался возле порога. Приглядевшись внимательнее, Фишер обнаружил чуть смазанные отпечатки обуви, окаймляющие след волочения по бокам – небольшие, с россыпью крестовин в центре.
Догадавшись, кто именно развел снаружи костер, Фишер с облегчением выдохнул. Он вышел из дачного домика и спустился с крыльца. Переложил нож в левую руку и оторовал от хлипкого забора одну из лыжных палок.
- Ничего. Сейчас я тебя найду, - сообщил Фишер кострищу и ткнул в него острым концом лыжной палки.
В воздух поднимались серые облака потревоженной золы, по траве рассыпались лоскуты шин и обугленные человеческие кости. Фишер сосредоточенно ворошил кострище, надеясь отыскать то, что осталось от головы Щукина. Наконец он нашел в золе нижнюю челюсть, рядом с которой валялся потемневший череп. Проигнорировав челюсть, Фишер подцепил череп концом лыжной палки и потянул на себя.
Когда тот мягко лег на тускло-зеленую траву, Фишер отбросил лыжную палку. Расположив череп на ладони правой руки, держа в другой руке поварской нож, по которому желтым бликом стекало солнце, Фишер поднес череп к лицу, посмотрел в его черные глазницы и усмехнулся. Его угольно-карие глаза тяжело блестели в довольном прищуре.
- Ты сам виноват. Ты опять повернулся ко мне спиной, - сказал он черепу Щукина, обнажив в улыбке крупные зубы и влажную десну. Череп не ответил.
Посерьезнев, Фишер сдул с черепа золу и, подцепив его пальцами за глазницы, как шар для боулинга, направился обратно к машине. Сев за руль, он убрал череп в сетчатый карман на спинке сиденья, вернул в чехол так и не пригодившийся нож и, вытерев грязные ладони об обивку кресла, стал сдавать назад, чтобы развернуться и поехать домой.
Бросив "ниву" возле одного из крохотных озер, которыми пестрели соседствующие с лесом луга, Фишер на всякий случай завернул череп в тряпку, которую нашел под сиденьем, и вернулся к своему дому. Линия, где проживал Фишер, по-прежнему напоминала голубовато-желтый янтарь и полнилась призрачными силуэтами застывших во времени соседей.
Оказавшись в синеватой прохладе собственной кухни, Фишер вынул из кармана калейдоскоп и заглянул в его зеркальное нутро – пестрое, как старая шаль. На грязно-белом фоне замельтешили красные бутоны герани, оранжевые лепестки бархатцев, желтые соцветия чистотела. Они пересыпались с одной грани на другую, образуя витиеватые узоры со старых ковров. Вернувшись из Хмари, Фишер тяжело вздохнул. Яркие цвета родного мира резали глаз. Фишер положил на кухонный стол чехол с ножами и череп Щукина, завернутый в тряпку. На зеленую клеенку с подсолнухами упала крупная капля крови.
Фишер озадаченно замер. Прикоснувшись к лицу, он посмотрел на окровавленные пальцы. Он понял, что у него пошла носом кровь.
Почти двадцать минут Фишер лежал на диване, отрешенно глядя в потолок. Вата в ноздрях медленно наливалась красным. Кровь вязко стекала по носоглотке, вынуждая Фишера сглатывать, оставляя во рту железистый привкус. На экране телевизора плакал от ужаса клерк, связанный колючей проволокой.
Когда кровотечение прекратилось, Фишер наскоро застирал в холодной воде испачканную рубашку и, включив плиту, поставил на неё старый ковш. Пока в ковше кипятился череп Щукина, Фишер резал поварским ножом, который снял с магнитной планки, сырую говядину для Шерхана. Скрученный чехол с идентичным набором ножей, который Фишер принес из Хмари, лежал на подоконнике, под теплым светом июньского дня.
Приготовив для Шерхана огромную кастрюлю мясной каши, Фишер убрал её в холодильник. Помыв под краном горячий череп, он сменил воду в ковше и вылил в неё большой флакон перекиси водорода. Эта смесь должна была отбелить обугленный череп хотя бы частично. Спрятав ковш под буфетом, Фишер заварил "Биг-бон" с говядиной и вернулся в зал, где планировал провести остаток дня. На экране телевизора багровел в стоп-кадре расчлененный труп секретаря.
Отдохнуть, впрочем, не вышло. Что-то подбивало Фишера на действия. Так и не досмотрев дешевый хоррор про репортера, который начал расследовать исчезновения людей и в итоге проник на скотобойню демонических каннибалов, Фишер поставил фильм на паузу и потянулся к смартфону. Следующие полчаса он провел, изучая соцсети, сравнивая вид из чужих окон с панорамами на онлайн-картах, просматривая посты чужих друзей. Навыки сталкинга, приобретенные в подростковом возрасте, не подвели. Узнать точный адрес не составило труда.
Фишер нервно отложил смартфон. Пальцы подрагивали, взгляд остекленел. Фишер словно со стороны увидел, как Щукин, навалившись на него, едва проснувшегося, одной рукой зажимает ему рот, вжимая затылком в подушку, а другой придушивает, надавливая предплечьем на горло. Фишер слышал свой надсадный хрип, прерывистый скрип пружин под матрасом, матерные ругательства, которые выдавливал сквозь зубы обозленный Щукин. Это могло быть как подлинным воспоминанием, так и игрой воображения.
Однако теперь это уже не имело значения. Фишер слабо улыбнулся. Он убил Щукина, хоть и с чужой помощью. Он забрал череп Щукина себе, чтобы отбелить его в ковше - как скелетики вскрытых птиц, которые Фишер собирал в подростковом возрасте. Наверное, они до сих пор лежали там, где он обычно их прятал - на чердаке сарая.
Стряхнув липкие, как мазут, воспоминания, Фишер понял, чем он сегодня займется. Уже через час он был в старой части Павлозаводска, неподалеку от набережной, совсем близко к приземистой синагоге, которая соседствовала с драмтеатром и домом-музеем купца Дерова. Припарковавшись в тенистом дворе, поросшем кленами, Фишер неспешно закурил и откинулся в кресле. Было три часа дня. По суглинку двора растянулись острые черные тени. Торчал из песочницы металлический грибок, поскрипывали на ветру старые качели. Возле старой горки, уткнувшейся мятым желобом в землю, сидели на лавке четверо подростков в мешковатой одежде и массивных кроссовках. Они курили электронные сигареты, пили дешевые алкогольные коктейли и время от времени лениво поглядывали на вишневый “рено” Фишера. Из подъездов бледно-рыжих трехэтажек выходили под палящее солнце люди: одни направлялись в сторону автобусной остановки, другие шли к продуктовому магазину в торце дома.
Внимание подростков Фишера не волновало. Он не собирался переходить сегодня к активным действиям. К тому же, нападать на равного по силе человека, страдая от растяжения запястья, было бы слишком самонадеянно даже в Хмари. Фишер всего лишь хотел убедиться в своих предположениях. Его интересовало, выйдет ли этот человек из крайнего подъезда справа. Впрочем, на всякий случай у Фишера было заготовлено объяснение: утром он решил впервые в жизни сходить в синагогу, но по пути к ней растерял уверенность и теперь не решался войти.
По голубой глазури неба медленно ползло жгучее солнце, по глинистой почве двора волочились вслед за ним черные тени раскидистых кленов. Два подростка попрощались с приятелями и исчезли в прохладном лабиринте дворов, укутанных пыльной зеленью деревьев. В кармане у Фишера завибрировал смартфон.
- Привет. Надеюсь, ты сейчас не занят, - деловито произнесла Неля.
- Да, у меня отпуск. А почему ты спрашиваешь? – с надеждой уточнил Фишер. Заниматься сексом ему пока не хотелось.
- Хочу поговорить о наших бурных выходных. И с удовольствием послушаю, как ты рассказываешь о путешествиях во времени.
- Мне нравится эта идея, - согласился Фишер, вспомнив кострище перед дачным домиком. - Только я сейчас не дома. Я во дворе, возле синагоги.
- Ничего страшного. Буду примерно через полчаса.
Фишер хотел попрощаться, но не успел – Неля положила трубку. Фишер не разозлился. Потушив окурок в пепельнице, он устремил мрачный взгляд на крайний подъезд справа. Железная дверь не открывалась. Фишеру невольно вспомнилось раннее детство. Съемочная группа посмеивалась над кулинарной книгой "Мужчина на кухне", которую они нашли в шкафу петербургского каннибала, Невзоров шутливо спрашивал у каннибала, была ли его жертва наваристой, а мужчина в сером костюме переливал половником жирный, ярко-оранжевый суп из большого ведра в трехлитровую банку. Взгляд Фишера смягчился, затуманился. Нетрезвый мужчина полулежал на земле, привалившись спиной к выцветшей гаражной двери. Над его головой багровело большое пятно, вниз от него тянулся смазанный кровавый след. Перед избитым стоял другой мужчина. Он смотрел на проигравшего сверху вниз. Фишер ощутил во рту сладкий привкус конфет "Каракум" и нервно сглотнул.
Фишер был рад, что взял накануне отпуск. Неожиданное столкновение с Щукиным вывело его из строя: на лице медленно выцветали синяки, из распухшего носа до сих пор шли розоватые от крови сопли, а бугристая шишка на затылке, покрытая слоем коросты, давала о себе знать всякий раз, когда Фишер пытался перевернуться на спину, чтобы принять удобную позу и как следует выспаться. Впрочем, спать мешало не только это. Фишер морщился от ноющей боли, если поворачивал голову влево, если слишком резко шевелил правым запястьем, которое потянул, пока душил Щукина, если неосторожно касался чего-то пальцами, под ногти которых Щукин загонял обойные гвозди.
Фишер сделал всё, что мог: наложил на шею согревающий компресс, повязав поверх него мохеровый шарф, обмотал поврежденное запястье эластичным бинтом, заклеил пластырем кончики пальцев и кровоподтеки под ногтями. Фишер надеялся, что к концу недельного отпуска перестанет болеть хотя бы запястье – ему не хотелось повредить его еще сильнее, таская больничные трупы.
Четвертый день отпуска Фишер провел так же, как и предыдущие: он дремал на разложенном диване в зале, смотрел фильмы ужасов и пил чай с гематогеном. Заходить в спальню, не говоря уж о том, чтобы спать там, было противно - и не даже не из-за того, что именно там Щукин застал сонного Фишера врасплох, а из-за лежбища Щукина, которое Фишер, попав в Хмарь, обнаружил напротив своей кровати, под зарешеченным окном, выходящим в палисадник. На полу лежал синий надувной матрас, который Щукин явно принес с собой. В изголовье теснились две подушки, которые раньше хранились у Фишера в шкафу. Поверх валялось шерстяное одеяло в черно-серую клетку. Вокруг матраса были разбросаны бутылки из-под холодного чая, смятые пластиковые стаканчики и вскрытые консервные банки, в которых цвела на остатках мяса плесень.
Судя по их количеству, Щукин действительно мог наблюдать за Фишером два месяца подряд. И теперь Фишер даже понимал, почему это было возможно. Всё это время Щукин видел, как призрачный силуэт Фишера крепко спит, читает перед сном мемуары Денниса Нильсена и занимается сексом с Нелей. Щукин видел, как Фишер слепо нашаривает очки на тумбочке, как он подчеркивает карандашом абзацы, в которых Нильсен душил своих жертв галстуком, как Неля избивает Фишера ремнем и тушит об него сигареты. Осознание всего этого должно было вызывать омерзение, но Фишер находил в себе лишь нежелание смотреть на гору мусора, оставшуюся после Щукина.
Именно поэтому Фишер спал теперь в зале. Не вылезая из-под шерстяного пледа с тигром, он проваливался в зыбкий сон, закусывал крепкий чай гематогеном, пересматривал фильмы с графичными сценами насилия, которые начал коллекционировать еще в седьмом классе, когда у него только появился интернет. Разрешение было низким, а субтитры не всегда присутствовали, но Фишера это не смущало. Показанные в фильмах пытки успокаивали его – как раньше, так и теперь. Пока по асфальту двора бил стылый ливень, высекая из луж крупные пузыри, изможденный студент, одетый в рваную рубашку, блевал на кафельный пол обветшалой ванной комнаты, где стояли в ряд хрустальные фужеры. Выдавив из себя последние нити рвоты, студент с обреченным видом выпивал содержимое фужеров и, по-лягушачьи булькая горлом, повторял процедуру. В синеватом сумраке зала мерцало стеклянными глазами чучело глухаря, висящее над дверью спальни, в желтушно-грязном подвале избитому адвокату, привязанному скотчем к стулу, запихивали в рот его же отрезанные пальцы. Фишер курил, осторожно двигая раненым запястьем, стряхивая пепел в пепельницу, которая стояла на табуретке у дивана. Отощавший от плохого обращения клерк, прикованный цепью к трубе в туалете, кривился от омерзения, пропихивая себе в горло ошметки кремового торта, в которых шевелились кузнечики. Темные глаза Фишера осоловело блестели за стеклами очков, перебинтованная рука замирала, роняя пепел на плед. Время окончательно растворилось в звенящей пустоте.
"Когда это началось?" – думал Фишер, пока на экране телевизора плачущему следователю приклеивали на лицо суперклеем подгнивший свиной пятачок. Уставившсь за экран, Фишер вспоминал, как в многочисленных книгах о войне пытали партизан фашисты, когда он переворачивал желтые от времени страницы, как валились на жирный чернозем индюшачьи головы, когда Фишер по просьбе Лоры Генриховны забивал их на пропитанной кровью колоде.
В кадре появился второй тюбик суперклея и не менее подгнившие свиные уши. Фишер мысленно перескочил сквозь годы к минувшему четвергу, когда они с Нелей бросили мащину Щукина в березняке за частным сектором и преодолели мизерный остаток пути пешком. Ключ от калитки остался в доме. Превозмогая боль во всем теле, Фишер подсадил Нелю, чтобы та забралась на крышу гаража, спустилась по ржавой лестнице в огород и отперла калитку изнутри. Гремя шифером и листами железа, Неля брела по крыше. Фишер поковылял к калитке. Его радовало, что там, где они сейчас находились, не было ни одного свидетеля.
Оказавшись в доме, Неля первым делом отправилась в душ. Её уже не волновало излишне большое окно ванной, выходящее на задний двор. Глухо шумела вода, Фишер сидел за кухонным столом. Он обрабатывал спиртом поврежденные пальцы, шипел сквозь зубы от режущей боли. Он пытался подумать о чем-нибудь, но не мог. Голова была тяжелой, как чугунная гиря. Краем глаза Фишер заметил, что через темный коридор прошла Неля в голубом полотенце, но сразу же об этом забыл. Когда Неля вернулась в коридор, уже одетая, он догадался, что её нужно проводить. Накинув поверх окровавленной пижамы халат, Фишер провел Нелю мимо Шерхана.
До ванной Фишер не добрался – он прилег на диван, чтобы прийти в себя, и впервые за несколько лет крепко уснул. Проснулся он лишь через восемнадцать часов, уже в пятницу, когда его разбудил, настойчиво мяукая, голодный Нерон. Именно в этот момент Фишеру стало ясно, что остаток отпуска он проведет в лежачем положении. Не без труда насыпав Нерону корм, Фишер все-таки добрел до ванной, где несколько часов лежал в остывающей воде, уставившись бездумным взглядом в размытый потолок. Затем, осторожно выбравшись из ванной, Фишер надел чистую пижаму и побрел во двор, чтобы покормить Шерхана.
Все выходные Фишер пролежал на раскладном диване, закутавшись в плед и успокаивая себя любимыми фильмами. Снаружи грохотал нескончаемый ливень. Фишер курил и согревался чаем. На экране рыдающему журналисту вспарывали живот, помещали в брюшную полость живого тарантула и зашивали рану. Щукин сидел на связанных ногах Фишера, прижимая их к грязному полу заброшенной дачи. Частный детектив сучил ногами, пока ему отрубали голову тупым мачете. Щукин зажимал Фишеру рот, вдавливая его затылком в шершавую стену. Отрубленная голова детектива падала в грязный мусорный бак, поверх черных пакетов и размокшего пищевого мусора. У Щукина изо рта тошнотворно пахло луком. Мертвенно-синие отблески телеэкрана вязко стекали по кожистым листьям пальмы в деревянной кадке, по фарфору сервизов и хрусталю бокалов в чешской стенке, по очкам Фишера и его пятнистому от синяков лицу.
Впрочем, уже в понедельник Фишер чувствовал себя лучше: меньше болело тело, вернулись ощущение времени и связь с реальностью. То ли фильмы помогли, то ли солнечная погода настраивала на хороший лад. Почистив зубы, Фишер вышел во вдор, уселся на крыльце и закурил. Справа от крыльца валялись на асфальте четыре мышиных трупа. Около них, подставив живот золотистым солнечным бликам, спал Нерон.
- Что не жрешь, садюга? – ласково спросил Фишер, почесывая ему за ухом.
Нерон сонно приоткрыл травянисто-зеленые глаза и, изогнувшись пушистой дугой, перекатился на бок, после чего вновь задремал. Полуденный свет пробивался сквозь полог виноградных листьев, высекая из черной шерсти Нерона медную рыжину. На раненую кисть Фишера, обмотанную бинтом, села божья коровка. Мягко стряхнув её, Фишер вернулся в прежнее сутулое положение, отрешенно затянулся и вынул из нагрудного кармана пижамы старый детский калейдоскоп – бледно-красный, как неспелая вишня, покрытый царапинами, размером с палец.
Калейдоском покоился у Фишера на ладони. Фишер пристально смотрел на калейдоскоп, словно тот мог посмотреть на него в ответ. Фишеру представилось, будто он, ощущая стертыми коленями холодный кафель ванной, пихает себе в горло пальцы и блюет на пол, выплескивая кисло пахнущую рвоту себе на ноги, на кафель, в хрустальные фужеры… Взгляд Фишера остекленел и увяз в теплом воздухе. Зазвенели об кафель фужеры, вновь хлынула рвота. Фишер усмехнулся одними губами – то ли задумчиво, то ли безрадостно.
Даже в колонии жизнь была более прогнозируемой. Фишер знал правила игры: держись актива – и всё будет в порядке. У жизни была конкретика. Теперь же Фишеру казалось, будто его вот-вот столкнут в яму – темную, как трясина, стылую, как осенняя морось. Фишер не имел ни малейшего понятия о происходящем. Правила игры были ему неизвестны. И в них срочно требовалось разобраться, чтобы не усугубить и без того скверное положение.
Что-то проклюнулось в Фишере двадцать пять лет назад, когда его биоголический отец прижал правую ладонью двухлетнего Енюши к раскаленной конфорке плиты, смешав аромат жареной картошки со сладковатой вонью жженого мяса. Что-то медленно пробуждалось, пока семилетний Енюша пришпиливал к ковру анатомические схемы человеческого тела, вырезанные из журналов Лоры Генриховны, чтобы любоваться ими перед сном. Что-то готовилось вырваться наружу, пока Щукин, заткнув Фишеру рот грязной балаклавой, загонял ему под ногти обойные гвозди, пока он бил Фишера по лицу, если тот терял сознание.
В Хмари оно наконец обрело свободу. Фишер растерянно бродил по притоптанным тропам огорода, взбивая старыми калошами зернистую пыль. В подрагивающих пальцах тлела сигарета. Рыхлый синюшный воздух, пропитанный бледно-желтым солнечным светом, неспешно колыхался. Мертвое безмолвие давило на Фишера со всех сторон, вызывая тягостное чувство тошноты. Совсем не пели птицы. Подергивались тусклые помидорные кусты, привязанные к деревянным палкам, расплывались в углу огорода вишневые деревья, присыпанные тускло-белыми цветами. Гуща виноградных листьев, цепляясь за металлический каркас, ползла к серой шиферной крыше.
Нервно затянувшись, Фишер выдохнул зыбкий дым и беспокойно огляделся по сторонам, ожидая увидеть нечто запредельное, но увидел лишь то, что окружало его уже не первый год: большой сарай с чердаком, окаймленный бледно-зелеными волнами полыни, причудливой формы дом, отделанный планками темного дерева и пожелтевшим ракушечником, железная бочка с водой между виноградником и задним двором… Всё это было тронуто синеватой печатью тления, которое принес с собой недоступный ранее мир. В бескровно-белой, осыпающейся штукатурке сарая смутно проглядывали кирпичи, по окнам, окаймленным голубыми наличниками, жухло размазывалось отражение неба с застывшими облаками, похожими на комья ваты. Вода в бочке нестерпимо вспыхивала золотисто-желтыми искрами – на них невозможно было смотреть без боли.
Поморщившись, Фишер отвел взгляд и вновь нервно затянулся. Он чувствовал себя мухой, которая увязла в застывшем янтаре времени. Всё вокруг него мелко подрагивало, превращая этот странный мир в ноздреватое, слоистое месиво из грязно-синих теней и желтого солнечного света.
Бросив окурок на землю, Фишер раздавил его калошей и побрел во двор. Возле крыльца валялись четыре мертвые мыши, однако Нерона нигде не было. Шерхана в будке тоже не оказалось – лишь лежала на влажном асфальте цепь с застегнутым ошейником. Озадаченно разглядывая её, Фишер вынул из кармана штанов мятую пачку "Мальборо" и снова закурил. Пепел упал на эластичный бинт, стягивающий правое запястье Фишера, и размазался по нему бледно-серым штрихом.
"То есть, птиц здесь нет. И животных тоже," – сделал вывод Фишер.
Озадаченный, он подошел к крыльцу. На тусклой рыжине досок подрагивали леденцово-желтые блики. Фишер поправил очки и впился в крыльцо сосредоточенным взглядом. Виноградный полог ударило порывом ветра, солнечные блики заметались из стороны в сторону. Фишер наконец увидел то, что хотел. По перилам, крашеным голубой масляной краской, медленно ползла божья коровка.
"А насекомые есть…" – завершил мысль Фишер. Открытие казалось бесполезным.
Вернувшись на крыльцо, Фишер затянулся дотлевающей сигаретой и погрузился в раздумья. "Нива", которой перед смертью пользовался Щукин, находилась сейчас в березняке, на грани леса – именно там Фишер с Нелей её бросили. Фишер вспомнил, как Щукин в порыве гнева чуть не задушил его, хоть и планировал всего лишь пытать. Фишер осознал, что в прошлый четверг он довел до конца то, что пытался сделать еще в колонии – задушил Щукина насмерть, задушил его связанными, окровавленными, тяжелыми от боли руками. На губах Фишера проступила слабая улыбка. Он бросил окурок на сухой асфальт двора, шаркнул по нему калошей и неспешно удалился в прохладную темноту, всколыхнув дверную занавеску из желтовато-белого тюля.
Наружу Фишер вышел через десять минут, одетый в темные брюки и синюю рубашку в клетку. Оказавшись на линии, он на всякий случай запер калитку и побрел налево, намереваясь дойти до крайнего дома и затем углубиться в лес. Под мышкой он держал скрученный чехол для ножей, сделанный из толстой черной кожи. Тягуче колыхался воздух – блекло-голубой, как свет телеэкрана, зернистый, как пленка старой кассеты. Подрагивали зыбкие контуры шиферных крыш, деревянных заборов, гаражных ворот. Ботинки Фишера взбивали желтоватую пыль ухабистой грунтовки, остро сверкали солнцем окна частных домов, тут и там виднелись недвижимые, дымчато-серые тени, в которых Фишер с удивлением узнавал соседей: сидящих на лавках взрослых, слоняющихся по линии подростков, играющих в палисадниках детей… Они существовали параллельно с Фишером, но не видели его. Фишер брел и курил, глубоко затягиваясь. В скрученном чехле позвякивали ножи.
Темно-зеленая "нива" до сих пор стояла в березняке. Дорожная грязь на её боках уже давно засохла, а сам автомобиль покрылся слоем пыли. Фишер вдруг осознал, что прошло слишком много времени. Нахмурившись, он все-таки бросил чехол с ножами на пассажирское сиденье и сел за руль.
К счастью, "нива" завелась. Шурша колесами, она ползла по наезженной грунтовке, оставляя после себя легкие облака песочной пыли. Фишер неспешно вел машину. У него изо рта торчала сигарета. Иногда Фишер перехватывал её правой рукой, чтобы стряхнуть пепел. На левой руке ныли кончики пальцев. Подкладка пластырей пропиталась свежей кровью.
Фишер напряженно следил за дорогой. С обеих сторон к "ниве" тянулся синевато-зеленый, чуть размытый ельник, усыпанный желтоватыми мазками полуденного света. Мыслями Фишер был в прошлом. Ему было четыре года, он апатично ждал, когда вернется мать, вышедшая в магазин за продуктами. Он ждал три дня, не выключая на ночь свет, питаясь хлебом и запивая его водой из тазика, где дожидались разделки мертвые окуни. Когда хлеб закончился, у Енюши остался лишь один источник пищи – он сам.
В ельнике становилось все темнее, редкие блики солнечного света напоминали глаза, зажигающиеся то в черном дупле высохшего дерева, то в сырой глубине оврага. Фишера не покидало ощущение, будто за ним следят. Пытаясь стряхнуть с себя паранойю, Фишер вновь вернулся мыслями в детство. Семилетний Енюша лежал в шепчущих зарослях кукурузы, которую выращивала Лора Генриховна, и стрелял себе в голову из игрушечного "нагана". По сочным зеленым листьям разливался желтый полуденный свет.
Зернистый ельник медленно сменялся такими же зернистыми осинами. В голубом небе подрагивала молочная рябь облаков, слепым глазом висело бледное полуденное солнце. Когда на горизонте проступили ветхие дачные домики, покинутые владельцами, и искривленные яблони, за которыми уже давно никто не ухаживал, Фишер впервые со дня похищения испытал нечто, похожее на сильное чувство – его понемногу охватывало предвкушение. Фишер прибавил скорость. Переваливаясь с ухаба на ухаб, “нива” устремилась по извилистой колее - туда, где должен был находиться труп Щукина. На пассажирском сиденье подпрыгивал скрученный чехол. В нем позвякивали кухонные ножи и молоток для мяса. С обеих сторон колеи колыхались мутные волны сорняков и полыни, тут и там нависал борщевик в человеческий рост. В грязно-зеленых зарослях виднелись покосившиеся дачные домики, оплетенные розоватым вьюнком, щетинились колючими ветвями кусты малины.
Наконец в синеватой дымке показалась дача, где так нелепо погиб Щукин. Дощатые стены покрывала зеленая шелуха краски, чуть покосившуюся деревянную дверь пятнала темная плесень. Грязный шифер, испещренный трещинами, казался хрупким, как яичная скорлупа. На приземистом крыльце поблескивали обломки голубого кафеля, слева от крыльца раскинула ветви сосна, к которой жался обветшалый забор из разноцветных лыжных палок. Фишер жадно всмотрелся, но тут же озадаченно вскинул брови. "Нива" замедлилась и остановилась там, где колея плавно переходила в небольшую поляну, беспорядочно поросшую травой.
Не глуша двигатель, Фишер вынул из чехла поварской нож и осторожно вышел из машины. На поляне перед дачным домиком чернело кострище. Громоздились друга на друга четыре автомобильные шины – деформированные, не до конца сгоревшие. Земля под ними была серой от золы, а чуть поодаль валялась пустая канистра из-под бензина. С опаской приблизившись к кострищу, Фишер неуверенно коснулся одной из шин. Она была обычной температуры. Нахмурившись, Фишер разворошил край кострища мыском ботинка и не обнаружил там тлеющих углей. Лишь скатилась на траву кость – частично обугленное человеческое ребро. Кость тоже была обычной температуры. Кто бы ни разводил костер, он уже давно покинул это место.
Крепко сжимая рукоять ножа, Фишер прокрался вокруг кострища и оказался возле крыльца. Он медленно потянул на себя плесневелую дверь. Та протяжно скрипнула. Неуверенно заглянув внутрь, Фишер вновь увидел комнату, в которой чуть не умер. В горле встал холодный ком. Там, где должен был лежать труп Щукина, темнело на дощатом полу бурое пятно крови. От него плавной дугой тянулся к крыльцу след волочения. Под окном, у грязной стены с осыпающейся штукатуркой, валялась перерезанная веревка, похожая на мертвого ужа. Сиротливо стояли разрядившиеся туристические фонари.
Фишер невольно покосился на дверной проем, ведущий в другую комнату, словно кто-то мог оттуда на него напасть. Но там никого не было - лишь ветхие стены и грязный пол с зыбкими квадратами солнечного света. Немного успокоившись, Фишер осмотрел то, что осталось от Щукина. След волочения, образованный песком и сухими листьями, начинался в центре комнаты и заканчивался возле порога. Приглядевшись внимательнее, Фишер обнаружил чуть смазанные отпечатки обуви, окаймляющие след волочения по бокам – небольшие, с россыпью крестовин в центре.
Догадавшись, кто именно развел снаружи костер, Фишер с облегчением выдохнул. Он вышел из дачного домика и спустился с крыльца. Переложил нож в левую руку и оторовал от хлипкого забора одну из лыжных палок.
- Ничего. Сейчас я тебя найду, - сообщил Фишер кострищу и ткнул в него острым концом лыжной палки.
В воздух поднимались серые облака потревоженной золы, по траве рассыпались лоскуты шин и обугленные человеческие кости. Фишер сосредоточенно ворошил кострище, надеясь отыскать то, что осталось от головы Щукина. Наконец он нашел в золе нижнюю челюсть, рядом с которой валялся потемневший череп. Проигнорировав челюсть, Фишер подцепил череп концом лыжной палки и потянул на себя.
Когда тот мягко лег на тускло-зеленую траву, Фишер отбросил лыжную палку. Расположив череп на ладони правой руки, держа в другой руке поварской нож, по которому желтым бликом стекало солнце, Фишер поднес череп к лицу, посмотрел в его черные глазницы и усмехнулся. Его угольно-карие глаза тяжело блестели в довольном прищуре.
- Ты сам виноват. Ты опять повернулся ко мне спиной, - сказал он черепу Щукина, обнажив в улыбке крупные зубы и влажную десну. Череп не ответил.
Посерьезнев, Фишер сдул с черепа золу и, подцепив его пальцами за глазницы, как шар для боулинга, направился обратно к машине. Сев за руль, он убрал череп в сетчатый карман на спинке сиденья, вернул в чехол так и не пригодившийся нож и, вытерев грязные ладони об обивку кресла, стал сдавать назад, чтобы развернуться и поехать домой.
Бросив "ниву" возле одного из крохотных озер, которыми пестрели соседствующие с лесом луга, Фишер на всякий случай завернул череп в тряпку, которую нашел под сиденьем, и вернулся к своему дому. Линия, где проживал Фишер, по-прежнему напоминала голубовато-желтый янтарь и полнилась призрачными силуэтами застывших во времени соседей.
Оказавшись в синеватой прохладе собственной кухни, Фишер вынул из кармана калейдоскоп и заглянул в его зеркальное нутро – пестрое, как старая шаль. На грязно-белом фоне замельтешили красные бутоны герани, оранжевые лепестки бархатцев, желтые соцветия чистотела. Они пересыпались с одной грани на другую, образуя витиеватые узоры со старых ковров. Вернувшись из Хмари, Фишер тяжело вздохнул. Яркие цвета родного мира резали глаз. Фишер положил на кухонный стол чехол с ножами и череп Щукина, завернутый в тряпку. На зеленую клеенку с подсолнухами упала крупная капля крови.
Фишер озадаченно замер. Прикоснувшись к лицу, он посмотрел на окровавленные пальцы. Он понял, что у него пошла носом кровь.
Почти двадцать минут Фишер лежал на диване, отрешенно глядя в потолок. Вата в ноздрях медленно наливалась красным. Кровь вязко стекала по носоглотке, вынуждая Фишера сглатывать, оставляя во рту железистый привкус. На экране телевизора плакал от ужаса клерк, связанный колючей проволокой.
Когда кровотечение прекратилось, Фишер наскоро застирал в холодной воде испачканную рубашку и, включив плиту, поставил на неё старый ковш. Пока в ковше кипятился череп Щукина, Фишер резал поварским ножом, который снял с магнитной планки, сырую говядину для Шерхана. Скрученный чехол с идентичным набором ножей, который Фишер принес из Хмари, лежал на подоконнике, под теплым светом июньского дня.
Приготовив для Шерхана огромную кастрюлю мясной каши, Фишер убрал её в холодильник. Помыв под краном горячий череп, он сменил воду в ковше и вылил в неё большой флакон перекиси водорода. Эта смесь должна была отбелить обугленный череп хотя бы частично. Спрятав ковш под буфетом, Фишер заварил "Биг-бон" с говядиной и вернулся в зал, где планировал провести остаток дня. На экране телевизора багровел в стоп-кадре расчлененный труп секретаря.
Отдохнуть, впрочем, не вышло. Что-то подбивало Фишера на действия. Так и не досмотрев дешевый хоррор про репортера, который начал расследовать исчезновения людей и в итоге проник на скотобойню демонических каннибалов, Фишер поставил фильм на паузу и потянулся к смартфону. Следующие полчаса он провел, изучая соцсети, сравнивая вид из чужих окон с панорамами на онлайн-картах, просматривая посты чужих друзей. Навыки сталкинга, приобретенные в подростковом возрасте, не подвели. Узнать точный адрес не составило труда.
Фишер нервно отложил смартфон. Пальцы подрагивали, взгляд остекленел. Фишер словно со стороны увидел, как Щукин, навалившись на него, едва проснувшегося, одной рукой зажимает ему рот, вжимая затылком в подушку, а другой придушивает, надавливая предплечьем на горло. Фишер слышал свой надсадный хрип, прерывистый скрип пружин под матрасом, матерные ругательства, которые выдавливал сквозь зубы обозленный Щукин. Это могло быть как подлинным воспоминанием, так и игрой воображения.
Однако теперь это уже не имело значения. Фишер слабо улыбнулся. Он убил Щукина, хоть и с чужой помощью. Он забрал череп Щукина себе, чтобы отбелить его в ковше - как скелетики вскрытых птиц, которые Фишер собирал в подростковом возрасте. Наверное, они до сих пор лежали там, где он обычно их прятал - на чердаке сарая.
Стряхнув липкие, как мазут, воспоминания, Фишер понял, чем он сегодня займется. Уже через час он был в старой части Павлозаводска, неподалеку от набережной, совсем близко к приземистой синагоге, которая соседствовала с драмтеатром и домом-музеем купца Дерова. Припарковавшись в тенистом дворе, поросшем кленами, Фишер неспешно закурил и откинулся в кресле. Было три часа дня. По суглинку двора растянулись острые черные тени. Торчал из песочницы металлический грибок, поскрипывали на ветру старые качели. Возле старой горки, уткнувшейся мятым желобом в землю, сидели на лавке четверо подростков в мешковатой одежде и массивных кроссовках. Они курили электронные сигареты, пили дешевые алкогольные коктейли и время от времени лениво поглядывали на вишневый “рено” Фишера. Из подъездов бледно-рыжих трехэтажек выходили под палящее солнце люди: одни направлялись в сторону автобусной остановки, другие шли к продуктовому магазину в торце дома.
Внимание подростков Фишера не волновало. Он не собирался переходить сегодня к активным действиям. К тому же, нападать на равного по силе человека, страдая от растяжения запястья, было бы слишком самонадеянно даже в Хмари. Фишер всего лишь хотел убедиться в своих предположениях. Его интересовало, выйдет ли этот человек из крайнего подъезда справа. Впрочем, на всякий случай у Фишера было заготовлено объяснение: утром он решил впервые в жизни сходить в синагогу, но по пути к ней растерял уверенность и теперь не решался войти.
По голубой глазури неба медленно ползло жгучее солнце, по глинистой почве двора волочились вслед за ним черные тени раскидистых кленов. Два подростка попрощались с приятелями и исчезли в прохладном лабиринте дворов, укутанных пыльной зеленью деревьев. В кармане у Фишера завибрировал смартфон.
- Привет. Надеюсь, ты сейчас не занят, - деловито произнесла Неля.
- Да, у меня отпуск. А почему ты спрашиваешь? – с надеждой уточнил Фишер. Заниматься сексом ему пока не хотелось.
- Хочу поговорить о наших бурных выходных. И с удовольствием послушаю, как ты рассказываешь о путешествиях во времени.
- Мне нравится эта идея, - согласился Фишер, вспомнив кострище перед дачным домиком. - Только я сейчас не дома. Я во дворе, возле синагоги.
- Ничего страшного. Буду примерно через полчаса.
Фишер хотел попрощаться, но не успел – Неля положила трубку. Фишер не разозлился. Потушив окурок в пепельнице, он устремил мрачный взгляд на крайний подъезд справа. Железная дверь не открывалась. Фишеру невольно вспомнилось раннее детство. Съемочная группа посмеивалась над кулинарной книгой "Мужчина на кухне", которую они нашли в шкафу петербургского каннибала, Невзоров шутливо спрашивал у каннибала, была ли его жертва наваристой, а мужчина в сером костюме переливал половником жирный, ярко-оранжевый суп из большого ведра в трехлитровую банку. Взгляд Фишера смягчился, затуманился. Нетрезвый мужчина полулежал на земле, привалившись спиной к выцветшей гаражной двери. Над его головой багровело большое пятно, вниз от него тянулся смазанный кровавый след. Перед избитым стоял другой мужчина. Он смотрел на проигравшего сверху вниз. Фишер ощутил во рту сладкий привкус конфет "Каракум" и нервно сглотнул.
Вишневый “рено” Фишера действительно был припаркован во дворе возле синагоги, в тени раскидистого клена, хотя на территории синагоги имелась парковка. Мелко дрожала на капоте солнечная искра, подергивались тени ветвей. Было предельно ясно, что Фишер приехал на другой край Павлозаводска вовсе не из-за религиозных порывов, но Неля решила, что об истинных намерениях Фишера ей лучше не знать. К тому же, её сейчас волновало совсем другое.
Приближаясь к автомобилю, Неля помахала рукой. За рулем, опомнившись, дернулся Фишер, приоткрылась пассажирская дверь. По капоту скользнула вытянутая тень с крупными завитками волос, похожими на древесную стружку. Пара подростков с алкогольными коктейлями, которые курили на детской площадке, проводили Нелю равнодушным взглядом. Сдув с глаз обесцвеченную до желтизны челку, Неля нырнула в прохладный салон. Под зеркалом заднего вида качнулась пахнущая морем “елочка”. Подростки, равнодушно отвернувшись, вновь заговорили друг с другом.
- Привет, Евгеша. Как самочувствие? - спросила Неля. Откинув спинку назад, она расположилась в кожаном кресле и закинула ногу на ногу. Мешковатая черная рубашка чуть смялась на спине, под черными брюками со змеиным узором скрипнуло сиденье.
- В целом, нормально. Жив, - слабо улыбнулся Фишер. Чуть распухший нос, голубоватые синяки, рассыпанные по лицу, и эластичный бинт на правом запястье придавали ему жалкий вид.
- Как твои пальцы?
- Да вот… - показал он левую кисть, два ногтя на которой скрывались под пластырями. – Если тяжелое не поднимать, то не болит.
- Рада за тебя, Евгеша… - произнесла Неля. Её глаза холодно блеснули. - Я хочу обсудить кое-что. Ты не против?
- Путешествия во времени, да? - вдумчиво спросил Фишер.
- Ага. Их.
Она пристально смотрела на него тяжелым, даже мрачным взглядом. В любой другой день этот взгляд пробудил бы в Фишере мазохистские желания. Но тот, к удивлению Нели, лишь откинулся на спинку сиденья, закурил и отрешенно уставился перед собой. По серому потолку салона узорчато полз дым. Где-то во дворах глухо лаяла собака.
- Если вкратце, то для существ, которые живут вне нашей вселенной, времени не существует, - спокойно начал Фишер. - Они видят наше время как плоскость, где мгновения существуют не последовательно, а одновременно друг с другом.
- Человек может встретить в прошлом копию себя?
- Четкого ответа пока нет. Кто-то считает, что временные петли предрешены изначально. Это сводит на нет свободу воли. Но есть и другая теория - о параллельных вселенных…
Фишер говорил всё увереннее, практически не обдумывая формулировки, будто он забыл, что именно произошло в воскресенье. Лишь изредка он умолкал, чтобы кашлянуть в кулак или затянуться сигаретой.
- Если ты решила перебежать дорогу на красный, могут появиться две новые вселенные. В одной тебя сбила машина. В другой этого не произошло, и ты пошла дальше по своим делам.
Неля озадаченно нахмурилась. Новая информация ничего проясняла. Вынув из кармана брюк пачку “Кисс”, Неля вытянула оттуда тонкую сигарету. Вздрогнул огонек зажигалки, хрустнула под зубами лаймовая капсула. Фишер молча смотрел на Нелю, ожидая дальнейших вопросов. Непроницаемое выражение лица, темные немигающие глаза, оранжевые огоньки в линзах очков… Неле стало не по себе. Раньше она его таким не видела. Сложно было понять, что у Фишера на уме.
“Его пытались убить. Неудивительно, что он странно себя ведет”, - успокоила себя Неля и попыталась обдумать всё, что ей было известно.
В воскресенье она действительно не встретила собственного двойника - но встретила Хозяйку Пожаров. Точнее, как та сама представилась Неле в мимолетном, но тягучем видении, Бахар-Хотун. Неля не знала, кем была Бахар-Хотун, но знала, чей облик та носила - облик чудовища, которое снилось ребенку, родившемуся в начале девяностых в постсоветском городе. Этот ребенок рос в частном доме, смотрел на пузатом телевизоре фильмы ужасов, транслируемые после полуночи, и нервно добирался в темноте до туалета - включать свет было нельзя, чтобы не разбудить взрослых. На пути к туалету ребенка поджидали темные комнаты, густой мрак кухни и приоткрытая дверь бани, в оконце которой расплодились замурованные между стеклами пауки. Вернувшись в спальню, ребенок засыпал и погружался в ночной кошмар, где его встречало чудовище с коровьим черепом вместо головы, туловищем из складок грязного брезента и красноватыми щупальцами, напоминающими дождевых червей.
Из всех детских кошмаров именно этот посещал Нелю чаще всего. Неля была уверена, что Хозяйка Пожаров, создавшая для Ленинского душителя карманный мирок, явно залезла к ней в голову - чтобы вытащить оттуда наиболее отталкивающий образ и натянуть его на себя, как чужую кожу.
- Давай представим некое существо… - пристально посмотрела Неля на Фишера, дым вился у нее перед лицом. - У него есть машина времени, которая может перенести человека в прошлое одного конкретного места. В копию этого места, которая существует одновременно с ним…
- Только одно? – с недоумением спросил Фишер. – С чего ты взяла?
- Потому что я, блин, не смогла выехать из Ленинской области! – злобно вскрикнула Неля, но быстро взяла себя в руки. - Там ничего нет, Евгеша. Просто серый туман и невидимая стена. Если бы я была на машине, то разбилась бы нахрен.
Вспышка гнева застала Фишера врасплох. В его округлившихся глазах читалось удивление, рука с сигаретой замерла на полпути к пепельнице. Неле на миг показалось, что Фишер вновь стал собой - неловким ботаником, с которым она познакомилась на почве любви к боли.
- Я не могу больше так разговаривать, это идиотизм! - раздраженно выпалила она. – И не делай такое лицо, будто не понимаешь, о чем я. Ты что, никуда не ездил?
- А ты куда-то ездила? - осторожно спросил Фишер.
- В школу, - буркнула Неля.
Фишер недоуменно вскинул брови.
- Мне нужно было обчистить химическую лабораторию. На велосипеде химикаты особо не повозишь, так что я сходила на пляж и угнала с проката квадроцикл.
- А зачем тебе?..
- Чтобы сжигать в лесу трупы животных, - колко посмотрела она на Фишера. Тот напрягся.
- Это что, шутка такая? – натянуто улыбнулся Фишер.
- Нет. Я серьезно, - Неля буравила его мрачным взглядом. - Но я не убиваю животных, а всего лишь ищу их трупы. И не надо делать вид, что ты никогда таким не занимался. Я всё поняла еще в воскресенье, когда ты уговаривал меня расчленить того мудака.
- Я действительно никогда такого не делал, - улыбнулся Фишер, на этот раз искренне. - Но этой весной я застрелил собаку и утопил её труп в болоте.
Неля нахмурилась. Разговор медленно принимал зловещий оборот.
- Всё было не так, как кажется, - поспешно добавил Фишер. - Ко мне в огород забрела бешеная собака. Мне пришлось с ней разобраться.
- Тащить её труп в лес было необязательно, - усмехнулась Неля.
- Мне просто захотелось… утопить его в болоте, - смущенно признался Фишер. - Я подумал, что будет очень интересно это прочувствовать… В смысле, я обычно не убиваю животных, но…
Фишер путался в словах, его глаза блестели, как черные бусины. Неля заинтересованно молчала, глядя на него с полуулыбкой. Кажется, Фишер готов был открыться ей с новой стороны.
- Если хочешь рассказать что-нибудь про свою отсидку за самооборону, то сейчас самое время, - вкрадчиво намекнула Неля.
Она понимала, что Фишеру не с кем обсудить его темные порывы. Еще лучше она понимала, как иногда хочется это сделать - то с незнакомцем в интернете, то с попутчиком, которого больше никогда не встретишь. Но в обоих случаях можно было столкнуться с осуждением.
Фишер испытующе смотрел на Нелю, он явно раздумывал над её словами. Наконец он заглотил наживку.
- Я действительно оборонялся, - осторожно произнес он. - Но я ударил его ножом семнадцать раз.
Окна рыжеватых трехэтажек болезненно сверкали под натиском солнца. Дернулись тени кленовых ветвей, на вишневом капоте вздрогнула золотистая искра. В пыльно-зеленой листве сдавленно каркала ворона.
- И тебе дали за это всего два года? - усомнилась Неля.
- Мне смягчили срок, потому что меня вывезли в лес, пырнули в живот и назвали жидом, - объяснил Фишер, облизывая пересохшие губы. Он забыл об окурке, который уже дотлел в его подрагивающих пальцах. - Адвокат вывернул всё так, будто меня пытались убить на почве национальной неприязни, хотя на самом деле это была просто бытовуха. Я спьяну заночевал у знакомого, а ночью проснулся. Увидел, как он чей-то труп в плед заворачивает.
При этих словах у Нели похолодело в груди. Она пристально уставилась на Фишера.
- И произошло это в Петербурге, да? – спросила она, заранее зная ответ.
- Да, я тогда жил там.
- Летом четырнадцатого года?
Фишер замер, будто его ударили под дых. Чуть дрогнул подбородок, беззвучно шевельнулись губы.
- Откуда ты знаешь? – заговорил наконец Фишер. Он смотрел на Нелю с недоверием, как лесной зверь на охотника. – Я тебе подробностей не рассказывал.
Неля издала нервный смешок:
- С чего бы начать…
Это не помогло. Фишер буравил Нелю ледяным, ожесточившимся взглядом. Нелю снедало желание немедленно покинуть машину и оказаться от Фишера как можно дальше.
- Если человеком, которого ты зарезал, был Жора Горняк, - опасливо начала она, - то трупом, который ты видел у него в доме, была я. Точнее, не совсем трупом. Он пытался меня задушить, но, к счастью, облажался, потому что был бухой.
Фишер судорожно вздохнул. Нервно ткнув окурком в пепельницу, он вытянул из пачки новую сигарету и долго возился с зажигалкой, которая не давала огня. Неля облегченно вздохнула. Фишер вновь выглядел испуганным и не смотрел на неё так, будто хотел убить. Наконец к потолку потянулся дым, Фишер задумчиво уставился в пространство и глубоко затянулся. В прохладном, но душном салоне жужжала муха.
- Меня он тоже недодушил, - отстраненно произнес Фишер. - Я побежал в сторону дороги, пока он тащил тебя в кусты.
- Вот когда он за тобой побежал, тогда и я драпанула, - улыбнулась Неля.
- Это многое объясняет… - тихо произнес Фишер. Столбик пепла упал ему на колено. - Адвокат говорил, что труп так и не нашли. А на Горняка, пока я был в СИЗО, никто не заявил.
- Не хотела объяснять им, как я там оказалась, - скупо объяснила Неля. - Как ты вообще познакомился с Жорой? Вы же совсем разные.
Фишер странно покосился на неё. Он попытался стряхнуть с колена пепел, но лишь размазал его по черной штанине. Поправив сползшие с носа очки, Фишер пробормотал:
- Ладно… Всё равно я уже рассказал про собаку…
“Ломается, как целка. Что он такого сделал?” – терзало Нелю любопытство, но она терпеливо молчала. Настойчивые вопросы лишь отбили бы у Фишера желание говорить.
- Если вкратце, то я был сутенером и за проценты спихивал Жоре неадекватных клиентов, - сухо произнес Фишер, глядя на Нелю. Он словно оценивал её реакцию. - Некрофетишистов, садистов всяких, любителей ампуташек… Не хотел с ними возиться.
- Тебе и не пришлось бы с ними возиться, - не удержалась Неля.
- Думаешь, я просто так забирал себе деньги? – с легкой обидой спросил Фишер. – Нас, между прочим, однажды пытались ограбить, и я одного из них чуть ножом не пырнул.
- Что-то мне подсказывает, что ты сделал это не ради девочки, с которой работал, - ехидно продолжила Неля.
- Да, это так. Но тем не менее… - буркнул Фишер. На миг его лицо омрачилось, но он быстро пришел в себя и сконфуженно отвел взгляд.
Неля молча затянулась. Она не знала, чего ожидать. Фишер, который до этого смотрел на неё взглядом опытного серийника, совсем не разозлился - даже наоборот, он как-то по-детски обиделся и теперь вел себя, как уязвленный школьник.
- Прости, Евгеша, - смягчилась Неля. – Просто я недолюбливаю сутенеров. Они делают слишком мало работы и берут за это слишком много денег.
Фишер непонимающе покосился на неё.
- Когда я жила в Петербурге, я не платила сутенерам. Я всегда работала одна. Сначала притворялась малолеткой, потом стала доминатрикс, - спокойно сообщила Неля. Лицо Фишера вытянулось от удивления. - Все эти типы называли меня госпожой Гертрудой. У меня даже эсэсовская форма была. Реплика, естественно.
- Жора пытался с тобой работать, да? - заинтересованно спросил Фишер.
- Ага. Но я не согласилась. Он уговорил меня только на шантаж фетишиста, который дрочил на Холокост.
- Он что, правак был?
- Нет, просто мазохист. Праваки обычно отрицают Холокост.
- Как я понимаю, шантаж не удался?
- Удался. Но Жора зажал мою долю, - поморщилась Неля. – Я пробралась к нему домой, пока он спал, и пыталась поджечь, но он проснулся и напал на меня. Говорил, что я заодно с каким-то евреем или типа того.
- Это он меня имел в виду, - криво улыбнулся Фишер. - Он в ту ночь допился до психоза и решил, что я его ментам сдал.
- Приятно было его зарезать, правда? – лукаво прищурилась Неля.
Фишер лишь смущенно посмотрел на неё. В линзах его очков тлели красноватые огоньки сигарет.
- Да не стесняйся ты, - Неля похлопала его по плечу. – Мне бы тоже понравилось.
- Он пырнул меня в живот. Потом навалился на меня, и я ударил его ножом в бок… - заговорил Фишер, глядя сквозь Нелю. Его взгляд затуманился. - Я чувствовал это. Тепло его кожи… Его горячая кровь смешалась с моей…
- Даже не знаю, что ты сейчас описываешь. То ли секс, то ли убийство, - попыталась пошутить Неля. Искренние монологи Фишера оказались более жуткими, чем она ожидала.
- Это неважно. Разница, в общем-то, невелика, - задумчиво произнес Фишер. Стеклянный взгляд прояснился. - Кстати, я ведь хотел спросить… Я сегодня был там, где мы провели выходные. Кажется, кто-то разводил там костер.
- Да. Определенно разводил, - подтвердила Неля, уловив его конспиративную манеру. – Жег покрышки. Они отлично горят.
- Так я и думал, - успокоенно кивнул Фишер. - Не хотелось бы, чтобы та женщина знала, где мы тогда были. От неё можно чего угодно ожидать. Мы ведь её видели.
Неля помрачнела. Всплыл в памяти ночной березовый лес, который они с Фишером спешно покидали на чужом внедорожнике, встал перед глазами несуразный образ Ленинского душителя – темноволосой женщины лет сорока, одетой в серый мясницкий фартук, мешковатые брюки и мужскую рубашку. Застигнутая врасплох, она сжимала в руках фотоаппарат. Повешенная на суку девочка была пятой жертвой Ленинского душителя. Издалека её сложно было отличить от мальчика, от десятилетнего Фишера с его школьных фотографий.
Неля была уверена, что именно Мать Пожаров, подарившая ей той ночью калейдоскоп, помогает Ленинскому Душителю совершать убийства. Это значило, что Мать Пожаров виновна в смерти Жанны, которая не дожила до пятнадцати лет, которая не собирала в хвост длинные рыжие волосы, которая любила рвать в огороде вишню и есть её немытой, сплевывая косточки на землю перед крыльцом. Тягаться с Матерью Пожаров было бы самоубийством. Но добраться до Ленинского душителя Неля могла.
Она знала, как Ленинский душитель выглядит в повседневной жизни: чуть волнистое каре до плеч, багровый от помады рот, черное платье с кружевным воротником. Она знала, что Ленинский душитель водит лаково-черную, слегка старомодную "ладу" - именно этот автомобиль подъехал месяц назад к цветочному киоску, где Неля подменяла ночью заболевшую подругу. Ленинский душитель купила тогда у Нели шесть искусственных гвоздик, а Неля не удосужилась запомнить номер машины. Это сильно осложняло поиски.
Однако Неля помнила, как Фишер опознал в Ленинском душителе свою учительницу музыки, которая получала удовольствие от издевательств над детьми. Неля легко могла представить, как строгая женщина в черном кричит на маленького Фишера перед всем классом, с размаху ударяя указкой по доске, как Фишер вздрагивает и жмурится, втягивая голову в плечи. В том, что первой влюбленностью Фишера-подростка стал именно Ленинский душитель, не было ничего удивительного.
Фишер не раз упоминал, что учился не по месту проживания. Рано утром он садился на автобус, чей маршрут начинался на северной окраине Павлозаводска, и целых полчаса ехал до улицы Лермонтова, где располагась школа №24. Район был Неле знаком - через стадион этой школы она любила срезать дорогу, когда в неформальной юности ходила на набережную, чтобы попить с приятелями пиво на заброшенной стройке, побродить с мрачной толпой по пляжу или полюбоваться на горящее чучело Масленицы.
Именно Ленинский душитель избивал Жанну и вешал её на березовом суку, сбрасывал труп удавленной Жанны в буерак, чтобы та разложилась во влажной темноте, отдав себя чернозему лесополосы. Не то что бы эти образы вызывали у Нели сильные чувства, но желание сжечь человека заживо с лихвой их заменяло. Хозяйка Пожаров, которая явилась к ней в виде усредненного персонажа яойной манги, знала об этих мыслях. Теперь Неле оставалось лишь надеяться, что Фишер ответит на все её вопросы и не будет задавать свои.
- Слушай, Евгеша… - осторожно начала Неля. - Ты ведь говорил, что она была у тебя учительницей музыки, да?
- К сожалению, да, - усмехнулся Фишер.
- Может быть, ты помнишь, где она живет? – спросила Неля, подавшись вперед.
Фишер молча смотрел на неё. Неля пыталась понять его реакцию, но лицо Фишера было непроницаемым, как маска древнего божка. В темных глазах читалась неспешная работа мысли – но угадать её характер Неля не могла.
- Да я и в детстве не знал, где она живет, - странным тоном произнес Фишер.
- Может, ты хотя бы помнишь, как её зовут? – не унималась Неля. Фишер о чем-то догадывался, но почему-то не подавал виду. Это раздражало.
"Если бы я знала, что в голове у этого полудурка…" – с досадой подумала Неля. Учитывая то, что она узнала о Фишере сегодня, замышлять он мог многое.
- Это я помню. Алина Емельяновна, - с готовностью ответил он. – Фамилию не помню, что-то на "С", кажется…
Неля ожидала, что он добавит еще что-нибудь, но Фишер умолк. Впрочем, этого было достаточно.
- Спасибо, Евгеша, - довольно улыбнулась она.
- Я думал, что тебе плевать на родственников, - произнес вдруг Фишер.
- Я их недолюбливаю, - холодно сказала Неля. – Но это не значит, что их может убивать какая-то психопатка.
Фишер лишь задумчиво кивнул. Ткнув окурком в пепельницу, он вытянул из пачки еще одну сигарету. Сухо щелкнула зажигалка, дернулся язычок огня.
- Ладно. Мне пора, - удовлетворенно произнесла Неля. Положив окурок в почти полную пепельницу, она похлопала Фишера по плечу. – Пиши, если захочешь увидеться.
- Конечно. Я напишу на днях, - улыбнулся Фишер то ли вежливо, то ли скромно, вновь натягивая маску социально неловкого ботаника.
Выйдя из машины, Неля аккуратно закрыла за собой дверь. Двор, залитый теплым солнечным светом, обступали бледно-рыжие трехэтажки. Торчал из песочницы металлический грибок, поскрипывали на ветру качели. Подростков не было - остались лишь пустые бутылки из-под алкогольных коктейлей, валяющиеся под лавкой. Неля неспешно направилась в сторону автобусной остановки. Черные берцы выбивали из почвы песочную пыль.
Дойдя до угла дома, за которым тянулся тротуар, Неля обернулась. Вишневый "рено" Фишера стоял там же, где и был. На его покатой крыше застыли солнечные потеки. Хищный профиль Фишера смотрел на подъезд ближайшего дома - третий справа.
"Надо почитать телефонный справочник", - подумала Неля, прищурившись. Возможно, именно в этом подъезде проживала Алина Емельяновна С., на которую злопамятный Фишер положил глаз.
Приближаясь к автомобилю, Неля помахала рукой. За рулем, опомнившись, дернулся Фишер, приоткрылась пассажирская дверь. По капоту скользнула вытянутая тень с крупными завитками волос, похожими на древесную стружку. Пара подростков с алкогольными коктейлями, которые курили на детской площадке, проводили Нелю равнодушным взглядом. Сдув с глаз обесцвеченную до желтизны челку, Неля нырнула в прохладный салон. Под зеркалом заднего вида качнулась пахнущая морем “елочка”. Подростки, равнодушно отвернувшись, вновь заговорили друг с другом.
- Привет, Евгеша. Как самочувствие? - спросила Неля. Откинув спинку назад, она расположилась в кожаном кресле и закинула ногу на ногу. Мешковатая черная рубашка чуть смялась на спине, под черными брюками со змеиным узором скрипнуло сиденье.
- В целом, нормально. Жив, - слабо улыбнулся Фишер. Чуть распухший нос, голубоватые синяки, рассыпанные по лицу, и эластичный бинт на правом запястье придавали ему жалкий вид.
- Как твои пальцы?
- Да вот… - показал он левую кисть, два ногтя на которой скрывались под пластырями. – Если тяжелое не поднимать, то не болит.
- Рада за тебя, Евгеша… - произнесла Неля. Её глаза холодно блеснули. - Я хочу обсудить кое-что. Ты не против?
- Путешествия во времени, да? - вдумчиво спросил Фишер.
- Ага. Их.
Она пристально смотрела на него тяжелым, даже мрачным взглядом. В любой другой день этот взгляд пробудил бы в Фишере мазохистские желания. Но тот, к удивлению Нели, лишь откинулся на спинку сиденья, закурил и отрешенно уставился перед собой. По серому потолку салона узорчато полз дым. Где-то во дворах глухо лаяла собака.
- Если вкратце, то для существ, которые живут вне нашей вселенной, времени не существует, - спокойно начал Фишер. - Они видят наше время как плоскость, где мгновения существуют не последовательно, а одновременно друг с другом.
- Человек может встретить в прошлом копию себя?
- Четкого ответа пока нет. Кто-то считает, что временные петли предрешены изначально. Это сводит на нет свободу воли. Но есть и другая теория - о параллельных вселенных…
Фишер говорил всё увереннее, практически не обдумывая формулировки, будто он забыл, что именно произошло в воскресенье. Лишь изредка он умолкал, чтобы кашлянуть в кулак или затянуться сигаретой.
- Если ты решила перебежать дорогу на красный, могут появиться две новые вселенные. В одной тебя сбила машина. В другой этого не произошло, и ты пошла дальше по своим делам.
Неля озадаченно нахмурилась. Новая информация ничего проясняла. Вынув из кармана брюк пачку “Кисс”, Неля вытянула оттуда тонкую сигарету. Вздрогнул огонек зажигалки, хрустнула под зубами лаймовая капсула. Фишер молча смотрел на Нелю, ожидая дальнейших вопросов. Непроницаемое выражение лица, темные немигающие глаза, оранжевые огоньки в линзах очков… Неле стало не по себе. Раньше она его таким не видела. Сложно было понять, что у Фишера на уме.
“Его пытались убить. Неудивительно, что он странно себя ведет”, - успокоила себя Неля и попыталась обдумать всё, что ей было известно.
В воскресенье она действительно не встретила собственного двойника - но встретила Хозяйку Пожаров. Точнее, как та сама представилась Неле в мимолетном, но тягучем видении, Бахар-Хотун. Неля не знала, кем была Бахар-Хотун, но знала, чей облик та носила - облик чудовища, которое снилось ребенку, родившемуся в начале девяностых в постсоветском городе. Этот ребенок рос в частном доме, смотрел на пузатом телевизоре фильмы ужасов, транслируемые после полуночи, и нервно добирался в темноте до туалета - включать свет было нельзя, чтобы не разбудить взрослых. На пути к туалету ребенка поджидали темные комнаты, густой мрак кухни и приоткрытая дверь бани, в оконце которой расплодились замурованные между стеклами пауки. Вернувшись в спальню, ребенок засыпал и погружался в ночной кошмар, где его встречало чудовище с коровьим черепом вместо головы, туловищем из складок грязного брезента и красноватыми щупальцами, напоминающими дождевых червей.
Из всех детских кошмаров именно этот посещал Нелю чаще всего. Неля была уверена, что Хозяйка Пожаров, создавшая для Ленинского душителя карманный мирок, явно залезла к ней в голову - чтобы вытащить оттуда наиболее отталкивающий образ и натянуть его на себя, как чужую кожу.
- Давай представим некое существо… - пристально посмотрела Неля на Фишера, дым вился у нее перед лицом. - У него есть машина времени, которая может перенести человека в прошлое одного конкретного места. В копию этого места, которая существует одновременно с ним…
- Только одно? – с недоумением спросил Фишер. – С чего ты взяла?
- Потому что я, блин, не смогла выехать из Ленинской области! – злобно вскрикнула Неля, но быстро взяла себя в руки. - Там ничего нет, Евгеша. Просто серый туман и невидимая стена. Если бы я была на машине, то разбилась бы нахрен.
Вспышка гнева застала Фишера врасплох. В его округлившихся глазах читалось удивление, рука с сигаретой замерла на полпути к пепельнице. Неле на миг показалось, что Фишер вновь стал собой - неловким ботаником, с которым она познакомилась на почве любви к боли.
- Я не могу больше так разговаривать, это идиотизм! - раздраженно выпалила она. – И не делай такое лицо, будто не понимаешь, о чем я. Ты что, никуда не ездил?
- А ты куда-то ездила? - осторожно спросил Фишер.
- В школу, - буркнула Неля.
Фишер недоуменно вскинул брови.
- Мне нужно было обчистить химическую лабораторию. На велосипеде химикаты особо не повозишь, так что я сходила на пляж и угнала с проката квадроцикл.
- А зачем тебе?..
- Чтобы сжигать в лесу трупы животных, - колко посмотрела она на Фишера. Тот напрягся.
- Это что, шутка такая? – натянуто улыбнулся Фишер.
- Нет. Я серьезно, - Неля буравила его мрачным взглядом. - Но я не убиваю животных, а всего лишь ищу их трупы. И не надо делать вид, что ты никогда таким не занимался. Я всё поняла еще в воскресенье, когда ты уговаривал меня расчленить того мудака.
- Я действительно никогда такого не делал, - улыбнулся Фишер, на этот раз искренне. - Но этой весной я застрелил собаку и утопил её труп в болоте.
Неля нахмурилась. Разговор медленно принимал зловещий оборот.
- Всё было не так, как кажется, - поспешно добавил Фишер. - Ко мне в огород забрела бешеная собака. Мне пришлось с ней разобраться.
- Тащить её труп в лес было необязательно, - усмехнулась Неля.
- Мне просто захотелось… утопить его в болоте, - смущенно признался Фишер. - Я подумал, что будет очень интересно это прочувствовать… В смысле, я обычно не убиваю животных, но…
Фишер путался в словах, его глаза блестели, как черные бусины. Неля заинтересованно молчала, глядя на него с полуулыбкой. Кажется, Фишер готов был открыться ей с новой стороны.
- Если хочешь рассказать что-нибудь про свою отсидку за самооборону, то сейчас самое время, - вкрадчиво намекнула Неля.
Она понимала, что Фишеру не с кем обсудить его темные порывы. Еще лучше она понимала, как иногда хочется это сделать - то с незнакомцем в интернете, то с попутчиком, которого больше никогда не встретишь. Но в обоих случаях можно было столкнуться с осуждением.
Фишер испытующе смотрел на Нелю, он явно раздумывал над её словами. Наконец он заглотил наживку.
- Я действительно оборонялся, - осторожно произнес он. - Но я ударил его ножом семнадцать раз.
Окна рыжеватых трехэтажек болезненно сверкали под натиском солнца. Дернулись тени кленовых ветвей, на вишневом капоте вздрогнула золотистая искра. В пыльно-зеленой листве сдавленно каркала ворона.
- И тебе дали за это всего два года? - усомнилась Неля.
- Мне смягчили срок, потому что меня вывезли в лес, пырнули в живот и назвали жидом, - объяснил Фишер, облизывая пересохшие губы. Он забыл об окурке, который уже дотлел в его подрагивающих пальцах. - Адвокат вывернул всё так, будто меня пытались убить на почве национальной неприязни, хотя на самом деле это была просто бытовуха. Я спьяну заночевал у знакомого, а ночью проснулся. Увидел, как он чей-то труп в плед заворачивает.
При этих словах у Нели похолодело в груди. Она пристально уставилась на Фишера.
- И произошло это в Петербурге, да? – спросила она, заранее зная ответ.
- Да, я тогда жил там.
- Летом четырнадцатого года?
Фишер замер, будто его ударили под дых. Чуть дрогнул подбородок, беззвучно шевельнулись губы.
- Откуда ты знаешь? – заговорил наконец Фишер. Он смотрел на Нелю с недоверием, как лесной зверь на охотника. – Я тебе подробностей не рассказывал.
Неля издала нервный смешок:
- С чего бы начать…
Это не помогло. Фишер буравил Нелю ледяным, ожесточившимся взглядом. Нелю снедало желание немедленно покинуть машину и оказаться от Фишера как можно дальше.
- Если человеком, которого ты зарезал, был Жора Горняк, - опасливо начала она, - то трупом, который ты видел у него в доме, была я. Точнее, не совсем трупом. Он пытался меня задушить, но, к счастью, облажался, потому что был бухой.
Фишер судорожно вздохнул. Нервно ткнув окурком в пепельницу, он вытянул из пачки новую сигарету и долго возился с зажигалкой, которая не давала огня. Неля облегченно вздохнула. Фишер вновь выглядел испуганным и не смотрел на неё так, будто хотел убить. Наконец к потолку потянулся дым, Фишер задумчиво уставился в пространство и глубоко затянулся. В прохладном, но душном салоне жужжала муха.
- Меня он тоже недодушил, - отстраненно произнес Фишер. - Я побежал в сторону дороги, пока он тащил тебя в кусты.
- Вот когда он за тобой побежал, тогда и я драпанула, - улыбнулась Неля.
- Это многое объясняет… - тихо произнес Фишер. Столбик пепла упал ему на колено. - Адвокат говорил, что труп так и не нашли. А на Горняка, пока я был в СИЗО, никто не заявил.
- Не хотела объяснять им, как я там оказалась, - скупо объяснила Неля. - Как ты вообще познакомился с Жорой? Вы же совсем разные.
Фишер странно покосился на неё. Он попытался стряхнуть с колена пепел, но лишь размазал его по черной штанине. Поправив сползшие с носа очки, Фишер пробормотал:
- Ладно… Всё равно я уже рассказал про собаку…
“Ломается, как целка. Что он такого сделал?” – терзало Нелю любопытство, но она терпеливо молчала. Настойчивые вопросы лишь отбили бы у Фишера желание говорить.
- Если вкратце, то я был сутенером и за проценты спихивал Жоре неадекватных клиентов, - сухо произнес Фишер, глядя на Нелю. Он словно оценивал её реакцию. - Некрофетишистов, садистов всяких, любителей ампуташек… Не хотел с ними возиться.
- Тебе и не пришлось бы с ними возиться, - не удержалась Неля.
- Думаешь, я просто так забирал себе деньги? – с легкой обидой спросил Фишер. – Нас, между прочим, однажды пытались ограбить, и я одного из них чуть ножом не пырнул.
- Что-то мне подсказывает, что ты сделал это не ради девочки, с которой работал, - ехидно продолжила Неля.
- Да, это так. Но тем не менее… - буркнул Фишер. На миг его лицо омрачилось, но он быстро пришел в себя и сконфуженно отвел взгляд.
Неля молча затянулась. Она не знала, чего ожидать. Фишер, который до этого смотрел на неё взглядом опытного серийника, совсем не разозлился - даже наоборот, он как-то по-детски обиделся и теперь вел себя, как уязвленный школьник.
- Прости, Евгеша, - смягчилась Неля. – Просто я недолюбливаю сутенеров. Они делают слишком мало работы и берут за это слишком много денег.
Фишер непонимающе покосился на неё.
- Когда я жила в Петербурге, я не платила сутенерам. Я всегда работала одна. Сначала притворялась малолеткой, потом стала доминатрикс, - спокойно сообщила Неля. Лицо Фишера вытянулось от удивления. - Все эти типы называли меня госпожой Гертрудой. У меня даже эсэсовская форма была. Реплика, естественно.
- Жора пытался с тобой работать, да? - заинтересованно спросил Фишер.
- Ага. Но я не согласилась. Он уговорил меня только на шантаж фетишиста, который дрочил на Холокост.
- Он что, правак был?
- Нет, просто мазохист. Праваки обычно отрицают Холокост.
- Как я понимаю, шантаж не удался?
- Удался. Но Жора зажал мою долю, - поморщилась Неля. – Я пробралась к нему домой, пока он спал, и пыталась поджечь, но он проснулся и напал на меня. Говорил, что я заодно с каким-то евреем или типа того.
- Это он меня имел в виду, - криво улыбнулся Фишер. - Он в ту ночь допился до психоза и решил, что я его ментам сдал.
- Приятно было его зарезать, правда? – лукаво прищурилась Неля.
Фишер лишь смущенно посмотрел на неё. В линзах его очков тлели красноватые огоньки сигарет.
- Да не стесняйся ты, - Неля похлопала его по плечу. – Мне бы тоже понравилось.
- Он пырнул меня в живот. Потом навалился на меня, и я ударил его ножом в бок… - заговорил Фишер, глядя сквозь Нелю. Его взгляд затуманился. - Я чувствовал это. Тепло его кожи… Его горячая кровь смешалась с моей…
- Даже не знаю, что ты сейчас описываешь. То ли секс, то ли убийство, - попыталась пошутить Неля. Искренние монологи Фишера оказались более жуткими, чем она ожидала.
- Это неважно. Разница, в общем-то, невелика, - задумчиво произнес Фишер. Стеклянный взгляд прояснился. - Кстати, я ведь хотел спросить… Я сегодня был там, где мы провели выходные. Кажется, кто-то разводил там костер.
- Да. Определенно разводил, - подтвердила Неля, уловив его конспиративную манеру. – Жег покрышки. Они отлично горят.
- Так я и думал, - успокоенно кивнул Фишер. - Не хотелось бы, чтобы та женщина знала, где мы тогда были. От неё можно чего угодно ожидать. Мы ведь её видели.
Неля помрачнела. Всплыл в памяти ночной березовый лес, который они с Фишером спешно покидали на чужом внедорожнике, встал перед глазами несуразный образ Ленинского душителя – темноволосой женщины лет сорока, одетой в серый мясницкий фартук, мешковатые брюки и мужскую рубашку. Застигнутая врасплох, она сжимала в руках фотоаппарат. Повешенная на суку девочка была пятой жертвой Ленинского душителя. Издалека её сложно было отличить от мальчика, от десятилетнего Фишера с его школьных фотографий.
Неля была уверена, что именно Мать Пожаров, подарившая ей той ночью калейдоскоп, помогает Ленинскому Душителю совершать убийства. Это значило, что Мать Пожаров виновна в смерти Жанны, которая не дожила до пятнадцати лет, которая не собирала в хвост длинные рыжие волосы, которая любила рвать в огороде вишню и есть её немытой, сплевывая косточки на землю перед крыльцом. Тягаться с Матерью Пожаров было бы самоубийством. Но добраться до Ленинского душителя Неля могла.
Она знала, как Ленинский душитель выглядит в повседневной жизни: чуть волнистое каре до плеч, багровый от помады рот, черное платье с кружевным воротником. Она знала, что Ленинский душитель водит лаково-черную, слегка старомодную "ладу" - именно этот автомобиль подъехал месяц назад к цветочному киоску, где Неля подменяла ночью заболевшую подругу. Ленинский душитель купила тогда у Нели шесть искусственных гвоздик, а Неля не удосужилась запомнить номер машины. Это сильно осложняло поиски.
Однако Неля помнила, как Фишер опознал в Ленинском душителе свою учительницу музыки, которая получала удовольствие от издевательств над детьми. Неля легко могла представить, как строгая женщина в черном кричит на маленького Фишера перед всем классом, с размаху ударяя указкой по доске, как Фишер вздрагивает и жмурится, втягивая голову в плечи. В том, что первой влюбленностью Фишера-подростка стал именно Ленинский душитель, не было ничего удивительного.
Фишер не раз упоминал, что учился не по месту проживания. Рано утром он садился на автобус, чей маршрут начинался на северной окраине Павлозаводска, и целых полчаса ехал до улицы Лермонтова, где располагась школа №24. Район был Неле знаком - через стадион этой школы она любила срезать дорогу, когда в неформальной юности ходила на набережную, чтобы попить с приятелями пиво на заброшенной стройке, побродить с мрачной толпой по пляжу или полюбоваться на горящее чучело Масленицы.
Именно Ленинский душитель избивал Жанну и вешал её на березовом суку, сбрасывал труп удавленной Жанны в буерак, чтобы та разложилась во влажной темноте, отдав себя чернозему лесополосы. Не то что бы эти образы вызывали у Нели сильные чувства, но желание сжечь человека заживо с лихвой их заменяло. Хозяйка Пожаров, которая явилась к ней в виде усредненного персонажа яойной манги, знала об этих мыслях. Теперь Неле оставалось лишь надеяться, что Фишер ответит на все её вопросы и не будет задавать свои.
- Слушай, Евгеша… - осторожно начала Неля. - Ты ведь говорил, что она была у тебя учительницей музыки, да?
- К сожалению, да, - усмехнулся Фишер.
- Может быть, ты помнишь, где она живет? – спросила Неля, подавшись вперед.
Фишер молча смотрел на неё. Неля пыталась понять его реакцию, но лицо Фишера было непроницаемым, как маска древнего божка. В темных глазах читалась неспешная работа мысли – но угадать её характер Неля не могла.
- Да я и в детстве не знал, где она живет, - странным тоном произнес Фишер.
- Может, ты хотя бы помнишь, как её зовут? – не унималась Неля. Фишер о чем-то догадывался, но почему-то не подавал виду. Это раздражало.
"Если бы я знала, что в голове у этого полудурка…" – с досадой подумала Неля. Учитывая то, что она узнала о Фишере сегодня, замышлять он мог многое.
- Это я помню. Алина Емельяновна, - с готовностью ответил он. – Фамилию не помню, что-то на "С", кажется…
Неля ожидала, что он добавит еще что-нибудь, но Фишер умолк. Впрочем, этого было достаточно.
- Спасибо, Евгеша, - довольно улыбнулась она.
- Я думал, что тебе плевать на родственников, - произнес вдруг Фишер.
- Я их недолюбливаю, - холодно сказала Неля. – Но это не значит, что их может убивать какая-то психопатка.
Фишер лишь задумчиво кивнул. Ткнув окурком в пепельницу, он вытянул из пачки еще одну сигарету. Сухо щелкнула зажигалка, дернулся язычок огня.
- Ладно. Мне пора, - удовлетворенно произнесла Неля. Положив окурок в почти полную пепельницу, она похлопала Фишера по плечу. – Пиши, если захочешь увидеться.
- Конечно. Я напишу на днях, - улыбнулся Фишер то ли вежливо, то ли скромно, вновь натягивая маску социально неловкого ботаника.
Выйдя из машины, Неля аккуратно закрыла за собой дверь. Двор, залитый теплым солнечным светом, обступали бледно-рыжие трехэтажки. Торчал из песочницы металлический грибок, поскрипывали на ветру качели. Подростков не было - остались лишь пустые бутылки из-под алкогольных коктейлей, валяющиеся под лавкой. Неля неспешно направилась в сторону автобусной остановки. Черные берцы выбивали из почвы песочную пыль.
Дойдя до угла дома, за которым тянулся тротуар, Неля обернулась. Вишневый "рено" Фишера стоял там же, где и был. На его покатой крыше застыли солнечные потеки. Хищный профиль Фишера смотрел на подъезд ближайшего дома - третий справа.
"Надо почитать телефонный справочник", - подумала Неля, прищурившись. Возможно, именно в этом подъезде проживала Алина Емельяновна С., на которую злопамятный Фишер положил глаз.
Фишер курил, откинувшись на спинку сиденья. Его сонный взгляд был прикован к третьему подъезду справа. Прохладный салон автомобиля пах морской отдушкой “елочки”, сигаретным дымом и оседающим шлейфом вишневых духов. Люди ныряли в прохладную утробу подъезда, выходили из него на солнцепек двора, но никто из них Фишера не интересовал.
Он лениво думал о подозрительных расспросах Нели, но не находил в себе никакого отклика. Он до сих пор недолюбливал Алину Емельяновну, до сих пор был очарован тем, с какой злобой она набросилась на Гену, который пытался утопить его в луже яблоневого сада. Однако ни застарелой неприязни, ни настоявшегося влечения было недостаточно, чтобы побудить Фишера вмешаться – либо убив Алину Емельяновну, либо защитив её от посягательств Нели. Если бы Неля сожгла Алину Емельяновну, Фишер бы ничего не почувствовал. Более того, у Нели были на это веские причины, и он не желал ей мешать. К тому же, Алина Емельяновна была женщиной, а интересы Фишера лежали в другой плоскости. Да и адрес, за которым он сейчас следил, не имел к Алине Емельяновне никакого отношения.
Из-за угла дома, где ютился в торце продуктовый магазин “Ирина”, вышел мужской силуэт в полицейской униформе: темно-синих брюках, легкой форменной куртке и фуражке с багровым околышем. Фишер подался вперед, впился в него немигающим взглядом. На носах начищенных ботинок поблескивало солнце, мерцали золотом лычки на погонах. Под козырьком фуражки, на котором плясал ломаный, слепящий отсвет, таилось смуглое вытянутое лицо с длинным носом. Фишер невольно улыбнулся, но тут же принял задумчивый вид и нахмурился – будто за ним кто-то наблюдал. Гена Блотнер, не обращая внимания на припаркованный во дворе вишневый "рено", приложил к домофону ключ и, потянув на себя тяжелую железную дверь, скрылся в темноте подъезда.
Фишер пытался собраться с мыслями, но давящее чувство было сильнее. Глаза блестели, губы норовили растянуться в улыбке, пальцы подрагивали. Фишера одолевало желание сдавить смуглую шею в локтевом захвате, вонзить поварской нож в бледный, незагоревший живот, ощутить на собственных пальцах теплые ручейки крови… Но делать это с поврежденным запястьем, которое болело при каждом движении, было рискованно. Фишер не мог допустить, чтобы Гена вырвался и вновь его унизил.
Сделав глубокий, судорожный вдох, Фишер заставил себя успокоиться. Положив руки на руль, он завел мотор и осторожно тронулся, чтобы покинуть придавленный жарой двор.
Вернувшись домой, Фишер наконец убрался в спальне. Весь мусор, валяющийся вокруг лежбища Щукина, он собрал в мешок и сжег на заднем дворе, как обычно сжигал каждую осень сухие кукурузные стебли. В ржавой бочке, облизывая закоптелые бортики, плясали рыжие языки огня. Деформировались пластиковые бутылки и стаканчики, сгорали колбасные шкурки, чернели вскрытые консервные банки. Фишер задумчиво смотрел в огонь и представлял, как Неля, пыхтя от натуги, выволакивает труп Щукина из дачного домика, чтобы обложить его покрышками и сжечь. Это зрелище не вызвало у Фишера внутреннего трепета. Огонь, в отличие от ножей и удушений, его не будоражил.
Когда мусор, за исключением консервных банок, превратился в пепел, Фишер запихнул в бочку сдутый резиновый матрас, на котором Щукин спал. Резина горела, испуская в небо черный столб дыма. Когда на смену ему пришли серые клубы, Фишер сунул в бочку плед и подушки, которые Щукин взял из его шкафа. Одна лишь мысль о том, чтобы пользоваться ими снова, вызывала отвращение. Желтоватый череп Щукина, покрытый пятнами копоти, лежал в ковше под буфетом и медленно белел.
Остаток дня Фишер провел, пересматривая малобюджетные хорроры, в которых упор делался на страдания актеров. Рыдающему студенту пихали в рот кишки его зарезанной подруги, заблудившегося туриста закрывали в пластиковой бочке, чтобы оббить её гвоздями и столкнуть с ухабистого холма, сбежавшего пленника вели обратно в свинарник, волоча по вязкой грязи. Фишер напряженно смотрел сквозь экран. Навязчивые желания не отступали.
Выбравшись из-под одеяла, Фишер побрел в кухню. Щелкнул выключатель, загорелась под беленым потолком рожковая люстра. Фишер замер перед плитой, над которой висели на магнитной планке остро заточенные ножи. Его блуждающий взгляд остановился на ноже для стейков. Взяв нож в правую руку, Фишер медленно им пошевелил. Желтоватый свет люстры потек по зазубренному лезвию, как акварельный развод, вспыхнул на заостренном кончике яркой искрой.
За окном кухни тонул в ночной темноте задний двор. Фишер сел за стол. Закатав левый рукав клетчатой пижамы, он согнул руку в локте. Стиснул зубы. Наконец, придавив лезвие ножа к внешней стороне руки, погрузил его в плоть и медленно потянул на себя. Рука вспыхнула болью, лицо Фишера искривилось, в глазах выступили слезы. Свежий порез набухал кровью. Фишер жалобно стонал сквозь зубы. Зазубренное лезвие медленно вгрызалось в мясо. Кровь стекала по руке, впитывалась в закатанный рукав пижамы.
Когда у Фишера закружилась от боли голова, он дрожащей рукой отложил нож в сторону. На клеенку с подсолнухами упали первые капли крови. Ссутулившись, Фишер припал губами к порезу и закрыл глаза. Посасывая соленую кровь, он урывками представлял все акты насилия, увиденные сегодня: студента рвало в подставленные рюмки, истощенный клерк запихивал себе в рот ошметки торта, усыпанного живыми кузнечиками, к лицу следователя приклеивали суперклеем несвежий свиной пятачок.
Кровь загустевала. Фишер болезненно ощущал, как его горячий язык проходит по краям раны, пытается погрузиться в неё кончиком. Открыв наконец осоловелые глаза, Фишер положил чуть онемевшую руку на клеенку и сонно замер над столом. Окровавленный нож для стейков тускло мерцал зазубренным лезвием. Вокруг пореза, похожего на лопнувшую вишню, краснели на коже следы зубов, грозящие перерасти завтра в синяки.
"Может, позвонить ей? – рассеянно подумал Фишер, вспомнив про Нелю. – Нет, попозже…"
Помыв нож, Фишер вернул его на место и забинтовал руку. Напряжение минувшего дня улетучилось. Засыпая в зале, Фишер видел, как на экране телевизора душат связанного агента ФБР, пропихивая ему в горло рукоять молотка, видел через окно, как горит на стене гаража резной фонарь, окруженный трепыхающися роем мотыльков. Сон сгущался в голове Фишера, как забытый в кастрюле кисель. Высокая немка с суровым лицом, одетая в серую униформу хельферин, душила рыдающего Фишера, придавливая его своим весом к мокрому полу общей душевой. Полосатая концлагерная пижама пропитывалась холодной влагой, руки в кожаных перчатках крепко сдавливали горло. Вокруг головы хельферин мерцал грязный ореол потолочной лампы, глаза хищно горели желтым, из них шли спирали черного дыма. Фишер бессильно цеплялся за руки хельферин, конвульсивно дергал ногами, стучал по белому кафелю каблуками изношенных рабочих ботинок. На периферии зрения сгущалась серая дымка. Хельферин намеревалась задушить Фишера, и ничто не могло её остановить.
Он лениво думал о подозрительных расспросах Нели, но не находил в себе никакого отклика. Он до сих пор недолюбливал Алину Емельяновну, до сих пор был очарован тем, с какой злобой она набросилась на Гену, который пытался утопить его в луже яблоневого сада. Однако ни застарелой неприязни, ни настоявшегося влечения было недостаточно, чтобы побудить Фишера вмешаться – либо убив Алину Емельяновну, либо защитив её от посягательств Нели. Если бы Неля сожгла Алину Емельяновну, Фишер бы ничего не почувствовал. Более того, у Нели были на это веские причины, и он не желал ей мешать. К тому же, Алина Емельяновна была женщиной, а интересы Фишера лежали в другой плоскости. Да и адрес, за которым он сейчас следил, не имел к Алине Емельяновне никакого отношения.
Из-за угла дома, где ютился в торце продуктовый магазин “Ирина”, вышел мужской силуэт в полицейской униформе: темно-синих брюках, легкой форменной куртке и фуражке с багровым околышем. Фишер подался вперед, впился в него немигающим взглядом. На носах начищенных ботинок поблескивало солнце, мерцали золотом лычки на погонах. Под козырьком фуражки, на котором плясал ломаный, слепящий отсвет, таилось смуглое вытянутое лицо с длинным носом. Фишер невольно улыбнулся, но тут же принял задумчивый вид и нахмурился – будто за ним кто-то наблюдал. Гена Блотнер, не обращая внимания на припаркованный во дворе вишневый "рено", приложил к домофону ключ и, потянув на себя тяжелую железную дверь, скрылся в темноте подъезда.
Фишер пытался собраться с мыслями, но давящее чувство было сильнее. Глаза блестели, губы норовили растянуться в улыбке, пальцы подрагивали. Фишера одолевало желание сдавить смуглую шею в локтевом захвате, вонзить поварской нож в бледный, незагоревший живот, ощутить на собственных пальцах теплые ручейки крови… Но делать это с поврежденным запястьем, которое болело при каждом движении, было рискованно. Фишер не мог допустить, чтобы Гена вырвался и вновь его унизил.
Сделав глубокий, судорожный вдох, Фишер заставил себя успокоиться. Положив руки на руль, он завел мотор и осторожно тронулся, чтобы покинуть придавленный жарой двор.
Вернувшись домой, Фишер наконец убрался в спальне. Весь мусор, валяющийся вокруг лежбища Щукина, он собрал в мешок и сжег на заднем дворе, как обычно сжигал каждую осень сухие кукурузные стебли. В ржавой бочке, облизывая закоптелые бортики, плясали рыжие языки огня. Деформировались пластиковые бутылки и стаканчики, сгорали колбасные шкурки, чернели вскрытые консервные банки. Фишер задумчиво смотрел в огонь и представлял, как Неля, пыхтя от натуги, выволакивает труп Щукина из дачного домика, чтобы обложить его покрышками и сжечь. Это зрелище не вызвало у Фишера внутреннего трепета. Огонь, в отличие от ножей и удушений, его не будоражил.
Когда мусор, за исключением консервных банок, превратился в пепел, Фишер запихнул в бочку сдутый резиновый матрас, на котором Щукин спал. Резина горела, испуская в небо черный столб дыма. Когда на смену ему пришли серые клубы, Фишер сунул в бочку плед и подушки, которые Щукин взял из его шкафа. Одна лишь мысль о том, чтобы пользоваться ими снова, вызывала отвращение. Желтоватый череп Щукина, покрытый пятнами копоти, лежал в ковше под буфетом и медленно белел.
Остаток дня Фишер провел, пересматривая малобюджетные хорроры, в которых упор делался на страдания актеров. Рыдающему студенту пихали в рот кишки его зарезанной подруги, заблудившегося туриста закрывали в пластиковой бочке, чтобы оббить её гвоздями и столкнуть с ухабистого холма, сбежавшего пленника вели обратно в свинарник, волоча по вязкой грязи. Фишер напряженно смотрел сквозь экран. Навязчивые желания не отступали.
Выбравшись из-под одеяла, Фишер побрел в кухню. Щелкнул выключатель, загорелась под беленым потолком рожковая люстра. Фишер замер перед плитой, над которой висели на магнитной планке остро заточенные ножи. Его блуждающий взгляд остановился на ноже для стейков. Взяв нож в правую руку, Фишер медленно им пошевелил. Желтоватый свет люстры потек по зазубренному лезвию, как акварельный развод, вспыхнул на заостренном кончике яркой искрой.
За окном кухни тонул в ночной темноте задний двор. Фишер сел за стол. Закатав левый рукав клетчатой пижамы, он согнул руку в локте. Стиснул зубы. Наконец, придавив лезвие ножа к внешней стороне руки, погрузил его в плоть и медленно потянул на себя. Рука вспыхнула болью, лицо Фишера искривилось, в глазах выступили слезы. Свежий порез набухал кровью. Фишер жалобно стонал сквозь зубы. Зазубренное лезвие медленно вгрызалось в мясо. Кровь стекала по руке, впитывалась в закатанный рукав пижамы.
Когда у Фишера закружилась от боли голова, он дрожащей рукой отложил нож в сторону. На клеенку с подсолнухами упали первые капли крови. Ссутулившись, Фишер припал губами к порезу и закрыл глаза. Посасывая соленую кровь, он урывками представлял все акты насилия, увиденные сегодня: студента рвало в подставленные рюмки, истощенный клерк запихивал себе в рот ошметки торта, усыпанного живыми кузнечиками, к лицу следователя приклеивали суперклеем несвежий свиной пятачок.
Кровь загустевала. Фишер болезненно ощущал, как его горячий язык проходит по краям раны, пытается погрузиться в неё кончиком. Открыв наконец осоловелые глаза, Фишер положил чуть онемевшую руку на клеенку и сонно замер над столом. Окровавленный нож для стейков тускло мерцал зазубренным лезвием. Вокруг пореза, похожего на лопнувшую вишню, краснели на коже следы зубов, грозящие перерасти завтра в синяки.
"Может, позвонить ей? – рассеянно подумал Фишер, вспомнив про Нелю. – Нет, попозже…"
Помыв нож, Фишер вернул его на место и забинтовал руку. Напряжение минувшего дня улетучилось. Засыпая в зале, Фишер видел, как на экране телевизора душат связанного агента ФБР, пропихивая ему в горло рукоять молотка, видел через окно, как горит на стене гаража резной фонарь, окруженный трепыхающися роем мотыльков. Сон сгущался в голове Фишера, как забытый в кастрюле кисель. Высокая немка с суровым лицом, одетая в серую униформу хельферин, душила рыдающего Фишера, придавливая его своим весом к мокрому полу общей душевой. Полосатая концлагерная пижама пропитывалась холодной влагой, руки в кожаных перчатках крепко сдавливали горло. Вокруг головы хельферин мерцал грязный ореол потолочной лампы, глаза хищно горели желтым, из них шли спирали черного дыма. Фишер бессильно цеплялся за руки хельферин, конвульсивно дергал ногами, стучал по белому кафелю каблуками изношенных рабочих ботинок. На периферии зрения сгущалась серая дымка. Хельферин намеревалась задушить Фишера, и ничто не могло её остановить.
Полдень сочился сквозь приоткрытые жалюзи, на бледный линолеум кабинета падали маслянисто-желтые полосы. Перед Юдиным лежали на столе четыре толстые папки, которые Гатауллин, чтобы облегчить ему работу, пометил канцелярскими стикерами разного цвета.
- Мужчины, женщины, состоят в браке, не состоят в браке, - объяснил Гатауллин, возвышаясь сбоку от Юдина темным силуэтом. – Все проживают в частном секторе, все имеют какое-либо отношение к кроликам. Одни с ними работают, другие держат дома.
- Спасибо, Ринат. Я начну с мужчин.
Гатауллин вернулся за свой стол и скрылся за старым пузатым монитором. Он должен был изучить многочисленные результаты экспертиз – снова. Юдин достал из ящика стола беляш, купленный утром в киоске, и принялся за работу.
Перелистывая файлы с распечатанными документами, Юдин с облегчением отметил, что красными стикерами в виде флажков Гатауллин выделил данные о гражданах, которых Юдин включил в свою личную картотеку потенциальных убийц. Губы Юдина дрогнули в искренней полуулыбке – ни о чем таком он Гатауллина не просил.
Список женатых мужчин включал в себя больше сотни человек, которые владели транспортным средством и либо работали с кроликами, либо разводили их дома. Список холостых мужчин оказался в два раза длиннее, однако Фишера там не было. Список замужних женщин, за который Юдин взялся со скепсисом, увеличил число подозреваемых почти на пятьдесят человек.
Последний список, куда входили незамужние женщины, Юдин изучал без всякой надежды, несмотря на то, что одна из них могла сожительствовать с Ленинским душителем. День тянулся медленно, как загустевшая смола. На темных волнах реки Ертыс остро сверкали солнечные блики, в зеленых кронах осин каркали вороны. Хмурый взгляд Юдина скользил по распечаткам личных данных. Солнце скрылось за тяжелыми тучами, похожими на грязную вату. Небо наполнилось кладбищенской серостью, Ертыс почернел, по крышам многоэтажек и асфальтовым дорогам ударили первые капли ливня.
- Крайне странное дело, Роман Викторович, - донесся из-за старого монитора ровный голос Гатауллина. – В нем ничего не вяжется. Буквально ничего.
- Не то слово. Та еще херобора, - согласился Юдин.
Первых двух жертв, Жанну Клименко и Дарью Кашину, опознали по татуировке и титановому стержню в голени. Кому принадлежала нога третьей жертвы, установить так и не удалось. Потом, впрочем, Ленинский душитель расслабился и начал подкидывать головы, что сильно облегчало опознание. Голову четвертой жертвы, Юлии Горбань, нашли на крыльце роддома в Химгородках. А после Дня защиты детей, как и ожидалось, обнаружили то, что осталось от пятой жертвы. Это тоже была голова с синюшным лицом, которая при жизни принадлежала коротко стриженой девочке лет десяти.
Судя по странгуляционной борозде, на этот раз Ленинский душитель убил жертву, не стоя у неё за спиной, а повесив в петле. Рана на боку головы, покрытая коркой запекшейся крови, говорила о том, что перед смертью жертву ударили головой об твердую поверхность. Судмедэксперт обнаружил в ране частички ржавчины и отслаивающейся краски, так что находиться эта твердая поверхность могла в любой части Павлозаводска. Треснувшие очки жертвы свидетельствовали о сопротивлении, но в месте обнаружения головы следов борьбы не было. Впрочем, несмотря на это, Юдин был приятно взбудоражен, и дело было даже не в том, что убитая девочка чем-то напомнила ему Фишера.
Голову пятой жертвы обнаружила женщина, которая проживала в Матросовском микрорайоне. Второго июня она, как обычно, шла пешком на работу и решила срезать дорогу через узкий переулок между школой и сауной – в него можно было попасть, зайдя за гаражи. Именно в этом месте исчезла четвертая жертва, Юлия Горбань. Где бы ни проживал Ленинский душитель, Матросовский микрорайон чем-то ему нравился – ведь ногу Дарьи Кашиной он подбросил на промзону, которая с этим микрорайоном соседствовала. В остальном же, география убийцы была хаотичной: Смородинский микрорайон, частный сектор на востоке Павлозаводска, Химгородки. Все эти места находились далеко друг от друга, и объединяло их лишь то, что все они считались городской окраиной.
Личность погибшей установили быстро. Это была одиннадцатилетняя Даша Фомина, чьи отстраненные родители не вовлекались в жизнь дочери эмоционально, закрывая лишь базовые потребности. Они давали показания с отрешенным видом, и поначалу это даже вызвало у Юдина подозрения. Родители могли избавиться от надоевшего ребенка, замаскировав это под очередное убийство Ленинского душителя, однако состав желтой краски, которой на лоб Фоминой была нанесена цифра “5”, был идентичен составу краски с останков предыдущих жертв. Юдин пришел к выводу, что равнодушие Фоминых было всего лишь признаком психического нездоровья. К тому же, в их замкнутости проглядывала ошарашенность, и это значило, что они были не такими уж бесчувственными.
Фомины сообщили Юдину, что Даша была очень замкнутым ребенком. В школе она ничем не выделялась и друзей не имела. Три раза в неделю она ходила во Дворец Школьников, где пела в детском хоре секции "Гармония". Там она тоже ничем не выделялась и держалась обособленно, не сильно тяготясь одиночеством.
"Надо поговорить с учителями из "Гармонии". Может, они видели какого-нибудь мужика", - подумал Юдин.
Небо за окном полнилось черными тучами, кабинет тонул в бледном свете потолочной лампы. Ливень барабанил по крышам автомобилей, припаркованных перед управлением Следственного комитета, по клумбам перед крыльцом, в которых розовым каскадом цвели фуксии, по рыжеватому граниту набережной и темным волнам Ертыса. Добравшись до середины папки, Юдин тяжело вздохнул. Он заварил пакетик кофе, достал из ящика стола второй, уже остывший беляш и перешел к следующему файлу. С цветной фотографии на него смотрела широкоскулая брюнетка лет сорока, с вытянутым лицом, длинным носом и чуть выпуклыми светлыми глазами. Волнистые волосы не доходили до плеч, а в лице просматривалась отстраненность, очень похожая на ту, которую Юдин заметил в поведении Фоминых.
"Масодова Алина Емельяновна", - сообщали первые три строки.
Когда Юдин прочел адрес регистрации, у него задрожали пальцы. Масодова проживала в частном доме на улице Каляева - возле Смородинского пляжа, где пропала первая жертва, и недалеко от лесополосы, где пропала вторая жертва. Чем больше Юдин узнавал, тем крепче становились его подозрения. С девяносто первого по восемнадцатый год Масодова работала в школе №24, а последние два года – в вокально-хоровой секции "Гармония". В той же школе, пока там преподавала Масодова, учился Фишер. В ту же секцию ходила пятая жертва Ленинского душителя.
"Он не при чем, у него алиби", - мысленно осадил себя Юдин, чтобы не увязнуть в фантазиях. Вероятность того, что Фишер состоял в связи с Масодовой, была ничтожно мала.
- Мне нужно всё о Масодовой из четвертой папки. Желательно, сегодня, - приказал Юдин, посмотрев на Гатауллина.
- Понял, Роман Викторович, - довольно улыбнулся тот. – Начну искать сейчас же.
Когда утром следующего дня Юдин приехал на службу, он обнаружил в кабинете Гатауллина, который, судя по синякам под глазами, провел ночь без сна. Непроницаемо глядя на Юдина, он протянул ему папку с желтым стикером.
- Вот, держите. Нашел про неё кое-что.
Заварив кофе, Юдин расположился за своим столом и погрузился в жизнь Масодовой. Судя по свидетельству о рождении, до замужества она носила фамилию Зиверс. Её единственный ребенок, Юрий, умер девятнадцать лет назад, когда тому был всего год. Единственный муж Масодовой скончался пять лет назад – он поехал с друзьями на природу и утонул в реке. Всё это было странно, но у Юдина не было даже косвенных улик – лишь сильное интуитивное ощущение.
Допрос Алины Масодовой назначили на завтрашнее утро. Чтобы облегчить работу, Юдин поставил на свой стол прозрачную вазу с зубчатой горловиной, из которой торчала алая искусственная гвоздика. Гатауллин, как это обычно бывало во время допросов, сидел за компьютером, изображая мрачное презрение. Юдин, одетый в идеально отглаженный китель, сидел за своим столом, задумчиво постукивая пальцем по заготовленной для посетителей пепельнице. В кабинет, освещенный потолочной лампой, несмело проникал тусклый свет сумрачного утра. По низкому небу ползли сизые комья туч, на другом берегу Ертыса темнели высокие осины лесополосы.
Алина Масодова пришла немного заранее, чуть раньше десяти утра. Юдин приветственно улыбнулся. Масодова застыла в пороге, вцепившись в ремешок сумки. Её ошеломленный взгляд был прикован к искусственной гвоздике. В бледно-голубых глазах плескался неподдельный ужас.
Продлилось это всего секунду. Масодова быстро приняла отстраненный вид, вновь став обычной женщиной - невысокой, коренастой, одетой, впрочем, несколько мрачно для работы с детьми. На кружевном воротнике черной блузки поблескивала брошь в виде мухи, длинная черная юбка была рассечена на боку пестрым веером складок. Багровые губы и темно-зеленые ногти лишь усиливали тягостное впечатление.
- Добрый день, Алина Емельяновна, - с легкой улыбкой произнес Юдин. Осознание чужого страха волновало его. - Проходите, пожалуйста.
Поежившись, Масодова подошла к столу Юдина и аккуратно, чтобы не помять юбку, села на жесткий деревянный стул. Она сняла с плеча сумку и принялась искать там паспорт. Юдин был уверен, что она делает это лишь для того, чтобы обдумать свое положение.
- Курите? – спросил он, пододвигая к ней пепельницу.
- Нет, спасибо, - сдержанно отказалась Масодова. Она положила перед ним паспорт. - Кажется, так нужно делать. Меня никогда раньше не допрашивали.
Юдин достал из ящика стола распечатку с правами свидетеля и протянул ее Масодовой:
- Ознакомьтесь, пожалуйста.
Взяв протянутый лист, Масодова пробежалась по нему взглядом. Она явно пыталась прочитать текст достаточно быстро, чтобы не это не выглядело подозрительно, и понять при этом ключевые моменты. Либо она была очень дотошной, либо ей действительно нужно было знать, какие у неё имеются права.
- Мне все ясно, - сказала Масодова и отложила лист. – Зачем вы меня вызвали?
- Было бы очень хорошо, если бы вы рассказали всё, что знаете о вашей пропавшей ученице, - произнес Юдин обычным тоном, не выдавая своего возбуждения. - Любая мелочь может оказаться полезной.
- О Даше Фоминой? – уточнила Масодова. Она сидела прямо. Казалось, что она смотрит Юдину в глаза, но Юдин понимал, что на самом деле она смотрит ему в переносицу.
- Именно. Замечали ли вы что-нибудь странное в последнее время?
- Даже не знаю… - задумчиво протянула Масодова. Её темно-зеленые ногти отсвечивали металлическим блеском. – Даша вела себя рассеянно, но это её обычное поведение. У неё такой характер.
- Кто обычно забирает Фомину из Дворца Школьников? – спросил Юдин.
- Либо мать, либо отец.
- Вы знаете их в лицо?
- Конечно, - уверенно ответила Масодова. – Это часть моей работы.
- Кто-нибудь другой пытался забирать Фомину после занятий?
- Нет. Насколько я знаю, у Фоминых нет здесь родственников.
- Замечали ли вы подозрительных личностей во Дворце школьников?
- Кого, например?
- Кого угодно. Любого человека, который показался вам подозрительным.
Юдин смотрел на Масодову сквозь невольно всплывшее воспоминание о раннем детстве. На бельевой веревке висел освежеванный заяц, застреленный покойным отцом. Капли крови падали на щербатое дно ванной, сливались в розоватую струйку и исчезали в темном водостоке.
- Недели две назад я видела мужчину в очках, с темными волосами. Он, кажется, кого-то ждал возле гардероба, но потом ушел, - опасливо сообщила Масодова. – Не уверена, что он был именно подозрительным. Думаю, он просто мне не понравился.
- Вы можете описать этого мужчину? – задал Юдин вопрос, хотя в этом не было смысла. Масодова лгала.
- Молодой, лет тридцати, в клетчатой рубашке, - пожала она плечами. – Это всё, наверное. Я его не рассматривала.
"Либо я схожу с ума, либо она описывает Фишера", – мрачно подумал Юдин.
Решительно обрубив эту мысль, он перешел к следующему вопросу.
- Приходил ли к вам домой участковый в марте этого года?
- Да, было такое. Рано утром, - подтвердила Масодова. – Спрашивал, замечала ли я что-нибудь подозрительное.
- И что вы ответили?
- Ничего. Я не замечала ничего подозрительного.
- Вы давно живете на берегу Смородины?
- Уже лет двадцать. Я переехала туда сразу после свадьбы, там жил мой муж.
Юдин знал, что покойный муж Масодовой погиб в результате несчастного случая, а годовалый сын Масодовой стал жертвой внезапной детской смертности. Обе смерти были естественными, но Юдина всё равно терзали подозрения.
- Бывало ли так, что родители не забирали Фомину после занятий, и она шла домой сама? – спросил он.
- Нет, такого не было. Раньше она была слишком маленькая, чтобы ходить одна, а в этом году мы настояли на том, чтобы родители забирали детей лично, - ответила Масодова и странно посмотрела на Юдина. – Стало опасно ходить вечером. Сами знаете почему.
- Как вы можете описать характер Фоминой? – спросил Юдин. На намеки Масодовой он решил пока не обращать внимания.
- Она была очень спокойным ребенком. У неё не было друзей в секции, но при этом её никто не травил, - сказала Масодова. – Не знаю, дружила ли она с кем-нибудь в школе…
- Была? – вскинул бровь Юдин.
Масодова удивленно посмотрела на него.
- Почему вы сказали "была"? – поинтересовался Юдин.
- Почему?.. – переспросила Масодова, вновь глядя ему в переносицу. – Так ведь голову нашли…
- Откуда вы знаете про голову?
- Так ведь… Все знают про голову, - с недоумением ответила Масодова. – Весь Дворец Школьников об этом говорит.
"Чтоб тебя…" – раздраженно подумал Юдин.
Про голову действительно знали многие: на месте обнаружения было немало свидетелей, и не все из них дали подписку о неразглашении – потому что найти всех было невозможно физически. Но сбивчивые формулировки Масодовой всё равно звучали подозрительно.
К тому же, она проживала возле Смородинского пляжа, где имел место первый эпизод, и знала пятую жертву лично. И всё же, несмотря на это, Юдина сомневался. Стиль работы Ленинского душителя не был типично женским. Женщины редко становились серийными убийцами, к тому же, убийцами-расчленителями. Серийницы были либо медсестрами, которые применяли на пациентах свои профессиональные знания, либо просто отравительницами, которые пользовались более доступными средствами.
Вероятность того, что Ленинский душитель, склонный расчленять свои жертвы, был женщиной, близилась к нулю. Но Масодова вполне могла заманивать девочек, чтобы затем их расчленил её сожитель или любовник. Вот только жила Масодова одна, а любовника у неё не было… По крайней мере, никто о нем не знал.
"А как же Мария Петрова? Тамара Самсонова?.. Мать Спесивцева, в конце концов?" – озадачился Юдин. За Масодовой определенно стоило понаблюдать.
- Читаете газеты? – хмуро спросил он у неё.
- Нет. Я уже давно не выписываю газеты.
- Про Ленинского душителя пишут так, будто это какой-то аттракцион, - произнес Юдин, придав голосу брезгливость. – Журналисты любят давать убийцам зловещие прозвища, хотя после поимки выясняется, что убийца малодушен, труслив и выглядит весьма посредственно.
Масодова кинула на Юдина заинтересованный взгляд, в котором было больше любопытства, чем возмущения. Такой реакции Юдин не ожидал.
- Если бы Ленинский душитель был еще и насильником, они бы писали об этом во всех подробностях, - продолжил Юдин, внимательно следя за мимикой Масодовой. – Даже проститутки лучше журналистов.
- Однако его до сих пор не поймали. И виноваты в этом не журналисты, - загадочным тоном произнесла Масодова.
Юдин вопросительно вскинул бровь.
- Вы, конечно, не обижайтесь, но если бы у меня были дети, я бы на вас сейчас разозлилась. Потому что по городу до сих пор ходит убийца, - объяснила Масодова. Чем дальше заходил разговор, тем увереннее она становилась.
- Да, вы разозлились бы. И были бы совершенно правы, - согласился Юдин. – Спасибо, что помогли. Мы делаем всё возможное, чтобы арестовать его.
План удался. Юдин узнал больше, чем ожидал. Допрос можно было заканчивать.
Сосредоточенно подписав протокол, Масодова встала со стула и вышла из кабинета. Дверь мягко закрылась. Юдин молчал, прислушиваясь к стуку её каблуков, но шаги Масодовой не ускорились – размеренно удалившись вглубь коридора, они растворились в тишине.
- Странная женщина, - задумчиво нахмурился Гатауллин.
- Не то слово. Она явно что-то знает, - согласился Юдин, глядя на закрытую дверь.
Покинуть управление Следственного комитета удалось лишь поздним вечером, однако Юдин, приехав домой, так и не смог уснуть. Обычно, если его одолевала бессоница, он перебирал фотографии потенциальных жертв, смакуя их вымышленные мучения, но сегодня у него было другое настроение. Ему хотелось побродить по ночному городу.
Переодевшись в униформу, хотя можно было обойтись без этого, Юдин покинул квартиру и пешком спустился вниз. Стук шагов эхом разносился по подъезду, вытянутая тень скользила по беленым стенам, выкрашенным до середины в глинисто-рыжий. По пути Юдин никого не встретил.
Лавка возле подъезда пустовала. Шелестящие осины тянулись в темно-синее небо, усыпанное крошкой звезд и серыми обрывками туч. Сложив руки за спиной, Юдин направился к детской площадке. Обойдя разноцветный турник, он оказался в центре двора. Бледный свет луны падал на коричнево-серые панельные дома, глинистую почву и асфальтовые дорожки. Широкая тень турника опутывала Юдина, словно сеть. Бледная точка луны отражалась в темных окнах, не затрагивая лишь те, что горели бледно-желтым. Где-то в вышине недвижимо застыл фиолетовый квадрат. Поразмыслив, Юдин пересек детскую площадку и свернул направо – к арке, за которой располагались гаражи, автостоянка и устье дороги. На улице не было ни души, словно Юдин был последним живым человеком этого мира.
Решив не идти сегодня вдоль дороги, освещенной желтыми снопами фонарей, Юдин побрел сквозь вязкую темноту ночных дворов, пронизанную глухими отзвуками редких фраз. Пересекая один типовой двор за другим, в которых менялись лишь цвет панельных домов и оформление подъездных крылец, Юдин задумчиво волок за собой свою тень и опомнился лишь тогда, когда добрался до небольшого дворика с одинокой каруселью и двумя шестнадцатиэтажками - некогда серыми, а теперь розовато-рыжими. Это была городская достопримечательность – с общих балконов обоих домов выбрасывались самоубийцы. Происходило это настолько часто, что жильцы к подобным случаям даже привыкли. Перед тем, как упасть с высоты и разбиться об асфальт, несчастные оставляли на полу предсмертные записки, придавленные камнями. В прошлом месяце произошло необычное самоубийство: женщина с тяжелыми черными косами почему-то не спрыгнула с общего балкона, а повесилась прямо там. В кармане её длинной юбки нашли предсмертное письмо.
Забыв о женщине с косами, Юдин вновь подумал о Масодовой. Даже если бы он не знал, что она как-то связана с Ленинским душителем, то всё равно счел бы её странной. У неё был холодный взгляд – как у Коминой и Фишера, как у самого Юдина, как у маньяка Миронова, который, оказавшись в "Черном дельфине", донимал администрацию жалобами на черта. Миронов утверждал, что черт истязает его каждое полнолуние, и почему-то дал черту тюркское имя.
"Катарага? Кедерага? Кударага?.." – пытался вспомнить Юдин, однако нужное слово не шло в голову.
- Мужчины, женщины, состоят в браке, не состоят в браке, - объяснил Гатауллин, возвышаясь сбоку от Юдина темным силуэтом. – Все проживают в частном секторе, все имеют какое-либо отношение к кроликам. Одни с ними работают, другие держат дома.
- Спасибо, Ринат. Я начну с мужчин.
Гатауллин вернулся за свой стол и скрылся за старым пузатым монитором. Он должен был изучить многочисленные результаты экспертиз – снова. Юдин достал из ящика стола беляш, купленный утром в киоске, и принялся за работу.
Перелистывая файлы с распечатанными документами, Юдин с облегчением отметил, что красными стикерами в виде флажков Гатауллин выделил данные о гражданах, которых Юдин включил в свою личную картотеку потенциальных убийц. Губы Юдина дрогнули в искренней полуулыбке – ни о чем таком он Гатауллина не просил.
Список женатых мужчин включал в себя больше сотни человек, которые владели транспортным средством и либо работали с кроликами, либо разводили их дома. Список холостых мужчин оказался в два раза длиннее, однако Фишера там не было. Список замужних женщин, за который Юдин взялся со скепсисом, увеличил число подозреваемых почти на пятьдесят человек.
Последний список, куда входили незамужние женщины, Юдин изучал без всякой надежды, несмотря на то, что одна из них могла сожительствовать с Ленинским душителем. День тянулся медленно, как загустевшая смола. На темных волнах реки Ертыс остро сверкали солнечные блики, в зеленых кронах осин каркали вороны. Хмурый взгляд Юдина скользил по распечаткам личных данных. Солнце скрылось за тяжелыми тучами, похожими на грязную вату. Небо наполнилось кладбищенской серостью, Ертыс почернел, по крышам многоэтажек и асфальтовым дорогам ударили первые капли ливня.
- Крайне странное дело, Роман Викторович, - донесся из-за старого монитора ровный голос Гатауллина. – В нем ничего не вяжется. Буквально ничего.
- Не то слово. Та еще херобора, - согласился Юдин.
Первых двух жертв, Жанну Клименко и Дарью Кашину, опознали по татуировке и титановому стержню в голени. Кому принадлежала нога третьей жертвы, установить так и не удалось. Потом, впрочем, Ленинский душитель расслабился и начал подкидывать головы, что сильно облегчало опознание. Голову четвертой жертвы, Юлии Горбань, нашли на крыльце роддома в Химгородках. А после Дня защиты детей, как и ожидалось, обнаружили то, что осталось от пятой жертвы. Это тоже была голова с синюшным лицом, которая при жизни принадлежала коротко стриженой девочке лет десяти.
Судя по странгуляционной борозде, на этот раз Ленинский душитель убил жертву, не стоя у неё за спиной, а повесив в петле. Рана на боку головы, покрытая коркой запекшейся крови, говорила о том, что перед смертью жертву ударили головой об твердую поверхность. Судмедэксперт обнаружил в ране частички ржавчины и отслаивающейся краски, так что находиться эта твердая поверхность могла в любой части Павлозаводска. Треснувшие очки жертвы свидетельствовали о сопротивлении, но в месте обнаружения головы следов борьбы не было. Впрочем, несмотря на это, Юдин был приятно взбудоражен, и дело было даже не в том, что убитая девочка чем-то напомнила ему Фишера.
Голову пятой жертвы обнаружила женщина, которая проживала в Матросовском микрорайоне. Второго июня она, как обычно, шла пешком на работу и решила срезать дорогу через узкий переулок между школой и сауной – в него можно было попасть, зайдя за гаражи. Именно в этом месте исчезла четвертая жертва, Юлия Горбань. Где бы ни проживал Ленинский душитель, Матросовский микрорайон чем-то ему нравился – ведь ногу Дарьи Кашиной он подбросил на промзону, которая с этим микрорайоном соседствовала. В остальном же, география убийцы была хаотичной: Смородинский микрорайон, частный сектор на востоке Павлозаводска, Химгородки. Все эти места находились далеко друг от друга, и объединяло их лишь то, что все они считались городской окраиной.
Личность погибшей установили быстро. Это была одиннадцатилетняя Даша Фомина, чьи отстраненные родители не вовлекались в жизнь дочери эмоционально, закрывая лишь базовые потребности. Они давали показания с отрешенным видом, и поначалу это даже вызвало у Юдина подозрения. Родители могли избавиться от надоевшего ребенка, замаскировав это под очередное убийство Ленинского душителя, однако состав желтой краски, которой на лоб Фоминой была нанесена цифра “5”, был идентичен составу краски с останков предыдущих жертв. Юдин пришел к выводу, что равнодушие Фоминых было всего лишь признаком психического нездоровья. К тому же, в их замкнутости проглядывала ошарашенность, и это значило, что они были не такими уж бесчувственными.
Фомины сообщили Юдину, что Даша была очень замкнутым ребенком. В школе она ничем не выделялась и друзей не имела. Три раза в неделю она ходила во Дворец Школьников, где пела в детском хоре секции "Гармония". Там она тоже ничем не выделялась и держалась обособленно, не сильно тяготясь одиночеством.
"Надо поговорить с учителями из "Гармонии". Может, они видели какого-нибудь мужика", - подумал Юдин.
Небо за окном полнилось черными тучами, кабинет тонул в бледном свете потолочной лампы. Ливень барабанил по крышам автомобилей, припаркованных перед управлением Следственного комитета, по клумбам перед крыльцом, в которых розовым каскадом цвели фуксии, по рыжеватому граниту набережной и темным волнам Ертыса. Добравшись до середины папки, Юдин тяжело вздохнул. Он заварил пакетик кофе, достал из ящика стола второй, уже остывший беляш и перешел к следующему файлу. С цветной фотографии на него смотрела широкоскулая брюнетка лет сорока, с вытянутым лицом, длинным носом и чуть выпуклыми светлыми глазами. Волнистые волосы не доходили до плеч, а в лице просматривалась отстраненность, очень похожая на ту, которую Юдин заметил в поведении Фоминых.
"Масодова Алина Емельяновна", - сообщали первые три строки.
Когда Юдин прочел адрес регистрации, у него задрожали пальцы. Масодова проживала в частном доме на улице Каляева - возле Смородинского пляжа, где пропала первая жертва, и недалеко от лесополосы, где пропала вторая жертва. Чем больше Юдин узнавал, тем крепче становились его подозрения. С девяносто первого по восемнадцатый год Масодова работала в школе №24, а последние два года – в вокально-хоровой секции "Гармония". В той же школе, пока там преподавала Масодова, учился Фишер. В ту же секцию ходила пятая жертва Ленинского душителя.
"Он не при чем, у него алиби", - мысленно осадил себя Юдин, чтобы не увязнуть в фантазиях. Вероятность того, что Фишер состоял в связи с Масодовой, была ничтожно мала.
- Мне нужно всё о Масодовой из четвертой папки. Желательно, сегодня, - приказал Юдин, посмотрев на Гатауллина.
- Понял, Роман Викторович, - довольно улыбнулся тот. – Начну искать сейчас же.
Когда утром следующего дня Юдин приехал на службу, он обнаружил в кабинете Гатауллина, который, судя по синякам под глазами, провел ночь без сна. Непроницаемо глядя на Юдина, он протянул ему папку с желтым стикером.
- Вот, держите. Нашел про неё кое-что.
Заварив кофе, Юдин расположился за своим столом и погрузился в жизнь Масодовой. Судя по свидетельству о рождении, до замужества она носила фамилию Зиверс. Её единственный ребенок, Юрий, умер девятнадцать лет назад, когда тому был всего год. Единственный муж Масодовой скончался пять лет назад – он поехал с друзьями на природу и утонул в реке. Всё это было странно, но у Юдина не было даже косвенных улик – лишь сильное интуитивное ощущение.
Допрос Алины Масодовой назначили на завтрашнее утро. Чтобы облегчить работу, Юдин поставил на свой стол прозрачную вазу с зубчатой горловиной, из которой торчала алая искусственная гвоздика. Гатауллин, как это обычно бывало во время допросов, сидел за компьютером, изображая мрачное презрение. Юдин, одетый в идеально отглаженный китель, сидел за своим столом, задумчиво постукивая пальцем по заготовленной для посетителей пепельнице. В кабинет, освещенный потолочной лампой, несмело проникал тусклый свет сумрачного утра. По низкому небу ползли сизые комья туч, на другом берегу Ертыса темнели высокие осины лесополосы.
Алина Масодова пришла немного заранее, чуть раньше десяти утра. Юдин приветственно улыбнулся. Масодова застыла в пороге, вцепившись в ремешок сумки. Её ошеломленный взгляд был прикован к искусственной гвоздике. В бледно-голубых глазах плескался неподдельный ужас.
Продлилось это всего секунду. Масодова быстро приняла отстраненный вид, вновь став обычной женщиной - невысокой, коренастой, одетой, впрочем, несколько мрачно для работы с детьми. На кружевном воротнике черной блузки поблескивала брошь в виде мухи, длинная черная юбка была рассечена на боку пестрым веером складок. Багровые губы и темно-зеленые ногти лишь усиливали тягостное впечатление.
- Добрый день, Алина Емельяновна, - с легкой улыбкой произнес Юдин. Осознание чужого страха волновало его. - Проходите, пожалуйста.
Поежившись, Масодова подошла к столу Юдина и аккуратно, чтобы не помять юбку, села на жесткий деревянный стул. Она сняла с плеча сумку и принялась искать там паспорт. Юдин был уверен, что она делает это лишь для того, чтобы обдумать свое положение.
- Курите? – спросил он, пододвигая к ней пепельницу.
- Нет, спасибо, - сдержанно отказалась Масодова. Она положила перед ним паспорт. - Кажется, так нужно делать. Меня никогда раньше не допрашивали.
Юдин достал из ящика стола распечатку с правами свидетеля и протянул ее Масодовой:
- Ознакомьтесь, пожалуйста.
Взяв протянутый лист, Масодова пробежалась по нему взглядом. Она явно пыталась прочитать текст достаточно быстро, чтобы не это не выглядело подозрительно, и понять при этом ключевые моменты. Либо она была очень дотошной, либо ей действительно нужно было знать, какие у неё имеются права.
- Мне все ясно, - сказала Масодова и отложила лист. – Зачем вы меня вызвали?
- Было бы очень хорошо, если бы вы рассказали всё, что знаете о вашей пропавшей ученице, - произнес Юдин обычным тоном, не выдавая своего возбуждения. - Любая мелочь может оказаться полезной.
- О Даше Фоминой? – уточнила Масодова. Она сидела прямо. Казалось, что она смотрит Юдину в глаза, но Юдин понимал, что на самом деле она смотрит ему в переносицу.
- Именно. Замечали ли вы что-нибудь странное в последнее время?
- Даже не знаю… - задумчиво протянула Масодова. Её темно-зеленые ногти отсвечивали металлическим блеском. – Даша вела себя рассеянно, но это её обычное поведение. У неё такой характер.
- Кто обычно забирает Фомину из Дворца Школьников? – спросил Юдин.
- Либо мать, либо отец.
- Вы знаете их в лицо?
- Конечно, - уверенно ответила Масодова. – Это часть моей работы.
- Кто-нибудь другой пытался забирать Фомину после занятий?
- Нет. Насколько я знаю, у Фоминых нет здесь родственников.
- Замечали ли вы подозрительных личностей во Дворце школьников?
- Кого, например?
- Кого угодно. Любого человека, который показался вам подозрительным.
Юдин смотрел на Масодову сквозь невольно всплывшее воспоминание о раннем детстве. На бельевой веревке висел освежеванный заяц, застреленный покойным отцом. Капли крови падали на щербатое дно ванной, сливались в розоватую струйку и исчезали в темном водостоке.
- Недели две назад я видела мужчину в очках, с темными волосами. Он, кажется, кого-то ждал возле гардероба, но потом ушел, - опасливо сообщила Масодова. – Не уверена, что он был именно подозрительным. Думаю, он просто мне не понравился.
- Вы можете описать этого мужчину? – задал Юдин вопрос, хотя в этом не было смысла. Масодова лгала.
- Молодой, лет тридцати, в клетчатой рубашке, - пожала она плечами. – Это всё, наверное. Я его не рассматривала.
"Либо я схожу с ума, либо она описывает Фишера", – мрачно подумал Юдин.
Решительно обрубив эту мысль, он перешел к следующему вопросу.
- Приходил ли к вам домой участковый в марте этого года?
- Да, было такое. Рано утром, - подтвердила Масодова. – Спрашивал, замечала ли я что-нибудь подозрительное.
- И что вы ответили?
- Ничего. Я не замечала ничего подозрительного.
- Вы давно живете на берегу Смородины?
- Уже лет двадцать. Я переехала туда сразу после свадьбы, там жил мой муж.
Юдин знал, что покойный муж Масодовой погиб в результате несчастного случая, а годовалый сын Масодовой стал жертвой внезапной детской смертности. Обе смерти были естественными, но Юдина всё равно терзали подозрения.
- Бывало ли так, что родители не забирали Фомину после занятий, и она шла домой сама? – спросил он.
- Нет, такого не было. Раньше она была слишком маленькая, чтобы ходить одна, а в этом году мы настояли на том, чтобы родители забирали детей лично, - ответила Масодова и странно посмотрела на Юдина. – Стало опасно ходить вечером. Сами знаете почему.
- Как вы можете описать характер Фоминой? – спросил Юдин. На намеки Масодовой он решил пока не обращать внимания.
- Она была очень спокойным ребенком. У неё не было друзей в секции, но при этом её никто не травил, - сказала Масодова. – Не знаю, дружила ли она с кем-нибудь в школе…
- Была? – вскинул бровь Юдин.
Масодова удивленно посмотрела на него.
- Почему вы сказали "была"? – поинтересовался Юдин.
- Почему?.. – переспросила Масодова, вновь глядя ему в переносицу. – Так ведь голову нашли…
- Откуда вы знаете про голову?
- Так ведь… Все знают про голову, - с недоумением ответила Масодова. – Весь Дворец Школьников об этом говорит.
"Чтоб тебя…" – раздраженно подумал Юдин.
Про голову действительно знали многие: на месте обнаружения было немало свидетелей, и не все из них дали подписку о неразглашении – потому что найти всех было невозможно физически. Но сбивчивые формулировки Масодовой всё равно звучали подозрительно.
К тому же, она проживала возле Смородинского пляжа, где имел место первый эпизод, и знала пятую жертву лично. И всё же, несмотря на это, Юдина сомневался. Стиль работы Ленинского душителя не был типично женским. Женщины редко становились серийными убийцами, к тому же, убийцами-расчленителями. Серийницы были либо медсестрами, которые применяли на пациентах свои профессиональные знания, либо просто отравительницами, которые пользовались более доступными средствами.
Вероятность того, что Ленинский душитель, склонный расчленять свои жертвы, был женщиной, близилась к нулю. Но Масодова вполне могла заманивать девочек, чтобы затем их расчленил её сожитель или любовник. Вот только жила Масодова одна, а любовника у неё не было… По крайней мере, никто о нем не знал.
"А как же Мария Петрова? Тамара Самсонова?.. Мать Спесивцева, в конце концов?" – озадачился Юдин. За Масодовой определенно стоило понаблюдать.
- Читаете газеты? – хмуро спросил он у неё.
- Нет. Я уже давно не выписываю газеты.
- Про Ленинского душителя пишут так, будто это какой-то аттракцион, - произнес Юдин, придав голосу брезгливость. – Журналисты любят давать убийцам зловещие прозвища, хотя после поимки выясняется, что убийца малодушен, труслив и выглядит весьма посредственно.
Масодова кинула на Юдина заинтересованный взгляд, в котором было больше любопытства, чем возмущения. Такой реакции Юдин не ожидал.
- Если бы Ленинский душитель был еще и насильником, они бы писали об этом во всех подробностях, - продолжил Юдин, внимательно следя за мимикой Масодовой. – Даже проститутки лучше журналистов.
- Однако его до сих пор не поймали. И виноваты в этом не журналисты, - загадочным тоном произнесла Масодова.
Юдин вопросительно вскинул бровь.
- Вы, конечно, не обижайтесь, но если бы у меня были дети, я бы на вас сейчас разозлилась. Потому что по городу до сих пор ходит убийца, - объяснила Масодова. Чем дальше заходил разговор, тем увереннее она становилась.
- Да, вы разозлились бы. И были бы совершенно правы, - согласился Юдин. – Спасибо, что помогли. Мы делаем всё возможное, чтобы арестовать его.
План удался. Юдин узнал больше, чем ожидал. Допрос можно было заканчивать.
Сосредоточенно подписав протокол, Масодова встала со стула и вышла из кабинета. Дверь мягко закрылась. Юдин молчал, прислушиваясь к стуку её каблуков, но шаги Масодовой не ускорились – размеренно удалившись вглубь коридора, они растворились в тишине.
- Странная женщина, - задумчиво нахмурился Гатауллин.
- Не то слово. Она явно что-то знает, - согласился Юдин, глядя на закрытую дверь.
Покинуть управление Следственного комитета удалось лишь поздним вечером, однако Юдин, приехав домой, так и не смог уснуть. Обычно, если его одолевала бессоница, он перебирал фотографии потенциальных жертв, смакуя их вымышленные мучения, но сегодня у него было другое настроение. Ему хотелось побродить по ночному городу.
Переодевшись в униформу, хотя можно было обойтись без этого, Юдин покинул квартиру и пешком спустился вниз. Стук шагов эхом разносился по подъезду, вытянутая тень скользила по беленым стенам, выкрашенным до середины в глинисто-рыжий. По пути Юдин никого не встретил.
Лавка возле подъезда пустовала. Шелестящие осины тянулись в темно-синее небо, усыпанное крошкой звезд и серыми обрывками туч. Сложив руки за спиной, Юдин направился к детской площадке. Обойдя разноцветный турник, он оказался в центре двора. Бледный свет луны падал на коричнево-серые панельные дома, глинистую почву и асфальтовые дорожки. Широкая тень турника опутывала Юдина, словно сеть. Бледная точка луны отражалась в темных окнах, не затрагивая лишь те, что горели бледно-желтым. Где-то в вышине недвижимо застыл фиолетовый квадрат. Поразмыслив, Юдин пересек детскую площадку и свернул направо – к арке, за которой располагались гаражи, автостоянка и устье дороги. На улице не было ни души, словно Юдин был последним живым человеком этого мира.
Решив не идти сегодня вдоль дороги, освещенной желтыми снопами фонарей, Юдин побрел сквозь вязкую темноту ночных дворов, пронизанную глухими отзвуками редких фраз. Пересекая один типовой двор за другим, в которых менялись лишь цвет панельных домов и оформление подъездных крылец, Юдин задумчиво волок за собой свою тень и опомнился лишь тогда, когда добрался до небольшого дворика с одинокой каруселью и двумя шестнадцатиэтажками - некогда серыми, а теперь розовато-рыжими. Это была городская достопримечательность – с общих балконов обоих домов выбрасывались самоубийцы. Происходило это настолько часто, что жильцы к подобным случаям даже привыкли. Перед тем, как упасть с высоты и разбиться об асфальт, несчастные оставляли на полу предсмертные записки, придавленные камнями. В прошлом месяце произошло необычное самоубийство: женщина с тяжелыми черными косами почему-то не спрыгнула с общего балкона, а повесилась прямо там. В кармане её длинной юбки нашли предсмертное письмо.
Забыв о женщине с косами, Юдин вновь подумал о Масодовой. Даже если бы он не знал, что она как-то связана с Ленинским душителем, то всё равно счел бы её странной. У неё был холодный взгляд – как у Коминой и Фишера, как у самого Юдина, как у маньяка Миронова, который, оказавшись в "Черном дельфине", донимал администрацию жалобами на черта. Миронов утверждал, что черт истязает его каждое полнолуние, и почему-то дал черту тюркское имя.
"Катарага? Кедерага? Кударага?.." – пытался вспомнить Юдин, однако нужное слово не шло в голову.
Свирепый ливень хлестал по темным волнам Смородины, частным домам возле дикого пляжа и безлюдной лесополосе. Небо, затянутое полотном черно-серых туч, рассекла ледянистая молния. По воздуху прокатился рокочущий гром. Грунтовая дорога на улице Каляева превратилась в скопище луж, на которых вздувались и лопались пузыри – дождь обещал кончиться не скоро. На участке Масодовой, между домом из белого кирпича и деревянным туалетом, мокла под дождем, шурша сочными листьями, кукуруза. Ливень прибивал к земле желтые одуванчики, растущие в беспорядке по всему огороду, синюю гурьбу васильков возле крольчатника и перечную мяту, обступающую дровяник.
Алина Емельяновна с мрачным видом ужинала на кухне, вылавливая из томатного соуса макароны. День, мягко говоря, не задался. Утром Алине Емельяновне пришлось явиться на допрос к следователю Юдину, который за последние двадцать лет поймал в Ленинской области двух серийных убийц, прославившихся на государственном уровне. Алина Емельяновна даже не сомневалась, что Юдин заметил её испуг, вызванный одним лишь видом искусственной гвоздики. Вопрос был в том, сможет ли он что-нибудь доказать.
"Не сможет, конечно. Даже если за мной сейчас следят, что они увидят? Что я езжу из дома на работу, а потом с работы домой?" – рассудила Алина Емельяновна и немного успокоилась.
Она решила обойтись без убийства Юдина, хотя у неё имелись для этого все возможности. Даже наоборот, гораздо лучше было оставить его в живых.
"Убедится, что я никуда по ночам не езжу, и переключится на кого-нибудь еще", - решила Алина Емельяновна.
Бояться было нечего. Единственное, что она теперь не могла делать, так это пользоваться калейдоскопом вне дома и перед окнами, чтобы никто не увидел, как она растворяется в воздухе.
"Буду заходить в туалет", - приняла Алина Емельяновна еще одно разумное решение.
К тому же, в городе были другие враги, которые представляли куда большую опасность – три загадочных кандидата, которых Мать Душегубов упоминала в прошлом месяце. Алина Емельяновна была уверена, что именно один из них находился во внедорожнике, который прибыл на место пятого убийства, застав Алину Емельяновну врасплох. В отличие от Юдина, этот человек действительно мог лишить её всего - даже жизни. Узнать его имя было делом первой необходимости.
Алина Емельяновна сомневалась, что Мать Душегубов расстроится, узнав о смерти этого человека: та обожала развлечения, и такой поворот событий мог её даже развеселить. Но ехать за уликами в такой дождь было рискованно. Алина Емельяновна решила подождать до утра.
Заснуть удалось не сразу. Где-то час Алина Емельяновна, надев очки, читала в кровати "Некрофила" Витткоп - наиболее любимый предмет её книжной коллекции, которая хранилась под кроватью в специальном сундуке. Там же лежали диски с фильмами, которые Алина Емельяновна купила онлайн и даже начала учить ради них английский. В другом сундуке, поменьше, хранилась непристойная часть коллекции – распечатанные фотографии молодых мертвецов, собранные по всему доступному интернету. Третий сундук можно было обнаружить, лишь попав в Хмарь, потому что его содержимое принадлежало Ленинскому душителю. Там бережно хранились конверты с фотографиями повешенных жертв и флэшки с видео. Ролики не отличались друг от друга: сначала Алина Емельяновна снимала убитых девочек на “полароид”, а потом расчленяла их. Вершиной коллекции была розовая шляпная коробка, в которой покоились останки Максима Пряникова: черный похоронный костюм, нетронутые временем очки и кости с черепом, которые Алина Емельяновна отбелила, прокипятив их с перекисью водорода.
Проснувшись утром, Алина Емельяновна покормила Мурку, позавтракала и, зайдя в туалет, вышла оттуда уже в Хмари. Покинув дом, она направилась к гаражу из серых шлакоблоков, над которым нависала одинокая осина. В фарфорово-синем небе сияло солнце. Воспряли примятые ливнем цветы, испарились лужи, высохла почва. В дальнем углу огорода стояли бок о бок два деревца, усыпанные янтарными и рубиновыми бусинами ягод – облепиха и клюква. В бледно-зеленой листве осины каркала ворона. Высоко в воздухе тихо гудели майские жуки.
Выехав за ворота, Алина Емельяновна направила черную "ладу" туда, где она первого числа повесила на березе Дашу Фомину. Грунтовая дорога в той части леса была всего одна. Припарковав машину в березовой роще, Алина Емельяновна взяла с заднего сиденья охотничье ружье, унаследованное от покойного мужа. Она повесила ружье на плечо и пошла по грунтовке направо. Ее окутывала голубоватая зернистость лесополосы, пронизанная теплом полуденного солнца. Тяжелые ботинки взбивали бледно-желтую пыль.
Вдоль грунтовки торчали из земли бетонные фонарные столбы - забытые истуканы, артефакты ушедшей эпохи. Полосатые березы, чуть тронутые синевой Хмари, понемногу сменялись бурыми осинами. Вдали виднелись огромные бетонные опоры по обе стороны железнодорожного полотна - все, что осталось от недостроенной эстакады. На полпути к эстакаде Алину Емельяновну ожидал неприятный сюрприз. Грунтовка раздваивалась.
Озадаченная, Алина Емельяновна решила пойти налево, но быстро об этом пожалела. Грунтовка медленно сужалась, пока не превратилась в лесную тропу, которая окончательно исчезла в зарослях терновника. Следов человеческого присутствия там не было. Тяжело вздохнув, Алина Емельяновна вернулась к развилке, чтобы проверить правое ответвление.
Там ей повезло больше. Минут пятнадцать Алина Емельяновна брела между высоких осин, колючих кустарников и гниющих телеграфных столбов. Грунтовка понемногу превращалась в колею, заросшую травой. Чем дальше продвигалась Алина Емельяновна, тем меньше становилось деревьев, которые уступали место хаотичным волнам сорняков, полыни и молочая. К свободным серым брюкам липли мелкие колючки. Когда вдали забрезжило нечто, похожее на шиферную крышу, Алина Емельяновна улыбнулась. В этом месте её могла ждать удача.
Колея привела Алину Емельяновну в заброшенный дачный поселок. Тут и там росли искривленные яблони, тонули в борщевике остовы деревянных заборов, прятались в зелени дачные домики, оплетенные вьюнком. Обходя их один за другим, Алина Емельяновна находила лишь гниющее от сырости дерево, затхлый запах мышей и сухие осенние листья. Воротник мужской рубашки натирал влажную от пота шею, лямки бюстгальтера впивались в плечи.
Заметив перед одним из домиков следы кострища, Алина Емельяновна поняла, что она близка к цели. Обычный житель Павлозаводска вряд ли оставил бы после себя оплавленные огнем автомобильные шины, пустую канистру из-под бензина и раскиданные по траве человеческие кости. Чуть поодаль валялась лыжная палка, кости были серыми от золы. Отсутствовал лишь череп - его Алине Емельяновне найти не удалось.
Нахмурившись, она огляделась по сторонам. Возле покосившегося забора из лыжных палок росла высокая сосна, окна дачного домика с крестовинами рам были темными от грязи, на приземистом крыльце поблескивали осколки голубого кафеля. Деревянная дверь домика, усеянная пятнами плесени, поскрипывала ржавыми петлями.
Преодолев сомнения, Алина Емельяновна подошла к крыльцу и опасливо заглянула внутрь. Комната не отличалась от тех, которые она уже видела: дощатый пол, присыпанный песком и сухими листьями, стены, испещренные пятнами сырости, и темный дверной проем, ведущий в спальню. Через окно проникал внутрь солнечный свет. Под подоконником валялись обрывки веревки, по углам стояла пара туристических фонарей. В центре комнаты темнело на полу бурое пятно, пропитавшее собой пыльные доски. Пятно напоминало запятую, которая следом волочения тянулась к крыльцу. По бокам от него виднелись отпечатки ботинок - чуть смазанные, с россыпью крестовин. Алина Емельяновна поставила свою ногу рядом с одним из следов. Тот, кто тащил тело на крыльцо, был либо ребенком, либо женщиной с маленьким размером ноги.
"Ничего удивительного. Мать Душегубов сама говорила, что выбирает только необычных маньяков", - подумала Алина Емельяновна. Судя по всему, именно эта женщина сожгла труп и забрала череп. Судя по всему, именно эта женщина была тогда за рулем внедорожника, а сбоку от неё сидел кто-то еще.
Догадка и радовала, и пугала. Справиться с щуплой женщиной Алина Емельяновна могла – если только у той не было помощника.
"Не всегда же они ходят вдвоем", - нахмурилась Алина Емельяновна.
Решив проверить спальню, она заглянула и туда, но комната была совершенно пуста. Ничто в дачном домике на личность неизвестной не указывало.
Обратная дорога до березовой рощи отняла почти час. Ноги Алины Емельяновны гудели от усталости, но левую часть грунтовки, ведущую в сторону города, нужно было тоже изучить пешком, чтобы ничего не упустить.
Левое ответвление вывело Алину Емельяновну в бескрайние луга. Она брела сквозь волны полевых цветов: багровых кровохлебок, белых ромашек, голубых колокольчиков… В озерцах, разбросанных по лугам до самого горизонта, слепящими искрами отражалось желтоватое солнце. Алина Емельяновна знала, куда идти. Вдалеке, возле крохотного озерца, поблескивали окна темно-зеленого внедорожника. Именно его видела Алина Емельяновна в ту ночь, когда вешала Дашу Фомину.
Подойдя ближе, Алина Емельяновна тщательно всё осмотрела. Неизвестная женщина бросила автомобиль возле озерца, заросшего камышом и кувшинками. В багажнике "нивы" личных вещей не оказалось, в салоне тоже. Лишь в бардачке Алина Емельяновна нашла водительские права на имя Буровского Андрея Ивановича, который проживал в Ленинске.
- Бред какой-то… - пробормотала она.
Если помощник неизвестной и она сама были из Ленинска, то им незачем было ехать в такую даль. Тем более, бросать здесь свою машину. Впрочем, нельзя было утверждать, что эта машина принадлежала им. Неизвестная могла проживать в Павлозаводске, угнать машину человека из Ленинска, который приехал сюда по делам, а затем бросить её в первом попавшемся месте. Она могла вообще каждый раз пользоваться новой машиной. Алина Емельяновна была точно уверена лишь в том, что это либо женщина, либо подросток.
"Если это подросток, то пусть он будет похож на Фишера,” - промелькнула у Алины Емельяновны внезапная мысль. Для такого противника она могла сделать исключение и воплотить одну из своих фантазий, переодев его в костюм и задушив в кабинете музыки, где проработала два десятка лет.
Алина Емельяновна отдыхала в тени автомобиля, пока не спала жара. В березняке её дожидалась черная "лада". Вернувшись домой, Алина Емельяновна почистила кроличьи клетки, полила цветы и грядки, протерла в доме пыль. Про следователя Юдина она больше не думала.
Шестое убийство Алина Емельяновна запланировала на четырнадцатое июня – День Сибири. Она наполнила термос теплым кофе, надела медицинские перчатки и кинула на заднее сиденье заряженное ружье – на тот случай, если случайно столкнется в городе с неизвестной женщиной, чьи следы обнаружила на заброшенных дачах. Бледный свет луны заливал Павлозаводск, облизывая шершавые панели домов, острые конусы тополей и прохладный асфальт.
Место охоты, которое Алина Емельяновна выбрала заранее, разочаровало её. Проехав полгорода, она добралась до Химгородков – довольно обширного микрорайона, который она уже посещала, когда подбрасывала на заднее крыльцо роддома отрубленную голову четвертой жертвы - девочки, которая чем-то напоминала сестер Крамер. Кроме роддома, окруженного жуткими слухами о крематории в подвале, где якобы сжигали умерших младенцев, на Химгородках было еще и заброшенное кладбище - оно начиналось прямо за последней линией серых девятиэтажек.
Справа от кладбища тянулась необжитая часть набережной, поросшая камышом, а далеко впереди, под звездным небом, белели бетонные заборы, отливали серебром крыши цехов, тянулись вверх полосатые трубы. Алина Емельяновна знала, что неблагополучные подростки любят проводить свободное время там, где никто не мешает им пить дешевое пиво и курить сигареты. Заброшенное кладбище, камышовые заросли на берегу Ертыса и пустыри вокруг промзон подходили для этих занятий как нельзя лучше.
Припарковавшись у кладбищенского забора, Алина Емельяновна пролезла через дыру на территорию смерти и сорняков.
- Медленно минуты уплывают вдаль, - доносился из-за спины голос крокодила Гены, вздыхала гармошка, - встречи с ними ты уже не жди…
Побродив по заросшему бурьяном кладбищу, Алина Емельяновна заметила вдали призрачный силуэт, от которого веяло теплом жизни. Пройдя по тропе, которая прихотливо вилась среди покосившихся гранитных плит, ржавых советских надгробий и деревянных крестов, Алина Емельяновна задумчиво остановилась, держа в правой руке удавку – бельевую веревку с узлами на концах.
В синеватом полумраке недвижимо лежали пятна лунного света, косо тянулись по земле тени надгробий. Из могильного холма, поросшего сочной травой и одуванчиками, торчали спинка и изножье небольшой кровати, покрытые струпьями облезающей краски. На могильном холме, под которым явно был похоронен ребенок, спала девочка.
Алине Емельяновне хватило одного взгляда, чтобы забыть о желании убивать - его затмила брезгливость. У девочки были сальные волосы, на лице и руках виднелись застарелые разводы грязи. Такими же разводами была покрыта поношенная одежда девочки: мешковатая футболка с Соником, рваные джинсы и линялые кеды.
"Ну уж нет", - поморщилась Алина Емельяновна. Ей не хотелось пачкаться, сдирая мочалкой грязь с мертвого тела.
Брезгливо взглянув на девочку неоново-синими глазами, Алина Емельяновна сунула удавку в карман и решительно зашагала обратно к машине. Место убийства было замечательным, но жертва вызывала лишь отвращение.
Не выключая "Голубой вагон", Алина Емельяновна села за руль и поехала по узкой дороге вдоль набережной. Набережная появилась в Павлозаводске около ста лет назад, в двадцатых годах прошлого века, и её появление было связано с комически-мрачным инцидентом.
Несмотря на то, что каждую весну Ертыс разливался, местные жители хоронили своих покойников на берегу. Обычно до кладбища вода не доходила, и весны проходили без инцидентов, но в середине двадцатых Ертыс вышел из берегов слишком сильно, добравшись наконец до кладбища. По реке поплыли деревянные гробы, и местным жителям пришлось их вылавливать: кто бросался вплавь, кто пытался дотянуться до гробов длинными сучьями. После этого инцидента молодая коммунистическая власть перенесла кладбище в ту часть города, где реки не было, а берег частично забетонировала, чтобы избежать дальнейших казусов. Так появилась павлозаводская набережная, которая постепенно обросла гранитными лестницами, панельными кварталами и фонтанами с подсветкой. Всё это Алина Емельяновна видела сейчас, проезжая по узкой безлюдной дороге. Слева вырастали друг за другом многоэтажки из бледно-рыжих панелей, справа тянулся пологий дикий пляж, где жались друг к другу клены. В синеватом мраке за шевелением веток виднелся грязно-серый остов приземистого заброшенного здания. Там тоже могли коротать время подростки, но Алина Емельяновна решила оставить это место для другого раза.
Клены сменились густыми зарослями камыша и рогоза, среди которых вилась по бугристому склону пляжа узкая тропа. Тропа ползла вперед, пока не окончилась бетонной лестницей с ржавыми перилами, по которой можно было спуститься либо на мраморную набережную, либо на облагороженный пляж, где в серовато-желтом песке стояли под зернистым лунным светом деревянные лежаки с грибами зонтов. Несмотря на праздничный день, Алина Емельяновна не заметила ни одного туманного силуэта – слишком силен был страх горожан перед Ленинским душителем.
Осторожно съехав к набережной по склону, где зимой обычно заливали длинную ледяную горку, Алина Емельяновна медленно повела автомобиль по прогулочной зоне. Слева уходили вверх гранитные лестницы и каскады фонтанов, выключенных на ночь. Справа тянулся широкий мраморный парапет, вдоль которого стояли деревянные лавки и металлические урны в виде пингвинов. За парапетом начинался пляж.
Алина Емельяновна остановила машину и вышла наружу. Слабый порыв ветра коснулся лица, потревожил темные волосы. Алина Емельяновна подошла к парапету и задумчиво посмотрела вниз – туда, где слабо дрожали у влажного берега темные волны Ертыса. Её взгляд отразился синими бликами в коричневом мраморе, скользнул по скошенной бетонной плите, которая отделяла набережную от пляжа, прополз по сероватому песку. Под деревянным зонтом, на лежаке, бледнел туманный силуэт, от которого исходило тепло жизни.
Сосредоточенно вглядевшись в него, Алина Емельяновна поняла – она наконец нашла то, что искала. На лежаке расслабленно валялась девочка лет пятнадцати с бледно-розовым каре, одетая в мешковатую белую рубашку, черную жилетку и рваные джинсы с лакированными берцами. Корни волос были темными, на жилетке поблескивала под лунным светом россыпь значков, справа от лежака валялся на песке серебристый рюкзак с бензиновым отливом. Девочка не спала. Время от времени она шевелила рукой, глотая из бутылки "Диззи" – дешевый алкогольный коктейль ядовито-зеленого цвета. Перед лежаком белела во влажном песке коряга, омываемая слабым ночным прибоем.
Алина Емельяновна огляделась по сторонам. Предыдущий съезд на пляж остался позади. Следующий съезд был слишком далеко, возле деревянного городка – груды пестрых, грубо покрашенных домиков, которые соединяла широкая металлическая труба – в теплое время года по ней ползали маленькие дети. Алина Емельяновна сразу приняла решение. Сделав музыку громче, она взобралась на парапет и спрыгнула на бетонный склон. Спустилась на пляж и достала из кармана удавку. Шуршал под ботинками песок, скользила по пляжу скошенная тень.
Когда до девочки оставалось несколько метров, туманный силуэт дрогнул и стал таким же зернисто-синюшным, как и весь окружающий мир. Девочка замерла с бутылкой в руке. Перемещение в Хмарь застало её врасплох. Девочка поводила головой, оглядывая темные волны, далекий берег с бурой рябью лесополосы и слоистое звездное небо. Затем девочка оглянулась.
Увидев Алину Емельяновну и её глаза, светящиеся синим, она вскочила с лежака. Бутылка упала на землю, коктейль выплеснулся на песок. Девочка рванулась вправо. Алина Емельяновна, оскалив зубы, устремилась за ней. Девочке неудобно было бежать, её берцы вязли в сухом полотне пляжа. Алина Емельяновна, чертыхаясь, неуклюже бежала следом. Её ботинки тонули в ноздреватом песке.
- Помогите! Помогите! – надрывно кричала девочка. К сожалению, рядом не было никого, кто мог бы её услышать.
Алина Емельяновна рванулась вперед. Оказавшись позади девочки, она схватила её за волосы и дернула на себя. Обе повалились на землю, девочка дернула ногой. Голень Алины Емельяновны ударил грубый пинок.
- Да хватит уже дергаться! – раздраженно прошипела она, вдавливая девочку в песок.
- Помогите! Помогите! – кричала девочка, впустую молотя берцами. В её вытаращенных глазах бледными точками отражалась луна.
- Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди… - глухо пел на набережной крокодил Гена.
Алина Емельяновна села на девочку, придавив её руки коленями к земле. На бледной шее затянулась удавка. Девичье лицо, освещенное синеватыми отблесками, исказилось в предсмертной гримасе. Девочка била ногами по песку и истошно хрипела, но уже через несколько минут сильные удары сменились хаотичными судорогами. Хрип стих. Глаза закатались, язык вывалился, лицо налилось багрянцем. Длинный нос отбрасывал на щеку острую тень.
Удовлетворенно выдохнув, Алина Емельяновна встала и убрала удавку в карман брюк. В темной вышине тускло мерцали звезды. Алина Емельяновна посмотрела на труп и толкнула его ногой в бок. Тот не пошевелился. Бледный свет луны заливал пляж, высекая из волн песка острые гребни теней. Задушенная девочка с цианозным лицом лежала, чуть скрючив руки. Алина Емельяновна нахмурилась. Обычно её жертвы принимали после смерти расслабленное состояние.
"Какая теперь разница…" – раздраженно подумала она, переминаясь с ноги на ногу. Даже сквозь носки она чувствовала, как пересыпается в ботинках песок.
Вернувшись к лежаку, Алина Емельяновна села на него и разулась, вытряхнула песок из ботинок. Её уставший взгляд, в котором медленно затухало синее свечение, скользил по вещам девочки. Возле лежака валялась бутылка "Диззи", под её горлышком темнело на песке влажное пятно. Чуть поодаль лежал серебристый рюкзак.
Лениво потянувшись за ним, Алина Емельяновна расстегнула на рюкзаке молнию и высыпала его содержимое себе под ноги. Вещей было немного: мятая пачка сигарет, смартфон с проводными наушниками, пачка сухариков "Болжау" и темные очки. Отбросив рюкзак в сторону, Алина Емельяновна расслабленно оглядела берег. Волны нехотя накатывали на влажный песок, омывая корягу, похожую на большой куриный хрящ.
На периферии зрения что-то шевельнулось. Алина Емельяновна повернула голову. Девочка слабо мотыляла рукой, силясь перекатиться на бок. Алина Емельяновна тяжело вздохнула. Обувшись, она встала с лежака, подошла к девочке и нависла над ней, уперев руки в бока. Девочка, освещенная синеватыми отблесками нечеловеческих глаз, вяло ворочала языком, но не могла сказать ни слова. Она смотрела на Алину Емельяновну мутным, остекленевшим взглядом. Рука бессильно дергалась, вновь и вновь падая на песок.
- Ну и куда ты ползешь? – улыбнулась Алина Емельяновна.
- До… До… - хрипло выдавила девочка.
- Я тебя не понимаю. Попробуй еще раз.
- До…
- Пойдем. Кое-что покажу, - холодно перебила её Алина Емельяновна.
Девочка беззвучно шевелила языком. Кажется, она не понимала, что происходит.
Алина Емельяновна подхватила девочку под мышки и, пыхтя от натуги, поволокла к реке. Ноги в лакированных берцах волочились по песку, оставляя змеящиеся следы. Руки девочки безжизенно свисали, пальцы слабо подергивались. Голова моталась из стороны в сторону, испуская монотонный хрип.
- Я тут не при чем. Ты сама виновата, - сказала Алина Емельяновна. У неё побаливала спина, но река была уже близко.
Утопая ботинками во влажном песке, Алина Емельяновна подтащила девочку к коряге, бросила её беспомощное туловище на мокрый берег и, с облегчением вздохнув, выпрямилась. Повертев торсом из стороны в сторону, чтобы размять мышцы, Алина Емельяновна посмотрела на девочку сверху вниз. Та лежала головой к волнам, на розовые волосы налипли комья песка. Тень от коряги легла на чуть багровое лицо, будто паутина. Алина Емельяновна встала возле девочки на колени. Брюки сразу же намокли, коснулась кожи холодная вода.
- Зря ты меня пнула, мелкая тварь, - мрачно произнесла Алина Емельяновна.
Схватив девочку за волосы, она ударила её головой об корягу. Раздался глухой стук, девочка хрипло застонала.
- Не надо было меня пинать. Ясно тебе, скотина? – прошипела Алина Емельяновна сквозь зубы, вновь ударив девочку.
Лунный свет покрывал серебром далекую лесополосу, вспыхивал в темных волнах Ертыса, заливал серовато-желтый пляж. Алина Емельяновна не останавливалась. Голова девочки глухо стукалась об корягу. Глаза закатились, из горла хрипами вырывался воздух. Кровь стекала по голой древесине, пропитывала розовые волосы, расползалась красноватой вуалью в толще воды.
- Это всё. Сейчас ты умрешь, - глухо сообщила Алина Емельяновна.
Девочка не отреагировала на её слова. Она была в сознании, но её мутный взгляд ничего не выражал. Алина Емельяновна подтащила девочку к речным волнам. Окровавленная голова погрузилась под воду, на волнах вздулись пузыри. Усевшись на девочку, Алина Емельяновна схватила её одной рукой за волосы, а другой за горло. Она грубо вдавила девочку в илистое дно. Розовые волосы, облепленные водорослями, колыхались в зернистой толще воды. Дрожали волны, девочку била судорога. Последний пузырь воздуха всплыл на поверхность и лопнул, исчезнув без следа. Раздраженно скалясь, Алина Емельяновна удерживала девочку под водой.
Она ослабила хватку лишь через десять минут. Затем проверила пульс, приложив пальцы к мокрой, холодной шее. Пульса не было. Ночная прогулка Алины Емельяновны подошла к концу.
Дотащив труп до деревянного городка, Алина Емельяновна вернулась туда с машиной и, собрав оставшиеся силы, уложила труп на заднее сиденье. Тот лег лицом вниз, свесив руку к полу. В мокрых розовых волосах торчал черной колючкой водяной каштан. Когда Алина Емельяновна была ребенком, она называла их "чертиками".
Девочка, которую Алина Емельяновна задушила на пляже Ертыса, напоминала сестер Крамер безнадзорным образом жизни, вредными привычками и любовью к ночным прогулкам в опасных местах. Склонность к риску довела сестер Крамер до совместной кражи и детской колонии, но подробностей Алина Емельяновна не знала – на тот момент ей уже было запрещено общаться с Кариной и Августой. У запрета была причина.
В один из поздних июльских вечеров тринадцатилетняя Алина вновь душила Августу полотенцем на верхнем ярусе горки. Упав в обморок, Августа забилась в судорогах. Впрочем, она быстро пришла в себя, но оставалась в прострации и не понимала, что именно с ней происходит - будто тело Августы временно занял кто-то другой.
Ближе к полуночи Карина все-таки отвела Августу домой. Родители сестер заметили неладное, и Карине пришлось рассказать обо всём: о прогулках в безлюдных местах, о походах в видеосалон, об игре в удушение. Утром про это узнали родители Алины.
Остаток лета и осень Алина провела в квартире, покидая её лишь для того, чтобы отправиться в музыкальную школу или на уроки. Родители считали это суровым наказанием, но Алина едва ли была расстроена. До знакомства с сестрами Крамер она закапывала в кустах секретики, пускала бумажные кораблики по весенним ручьям и ходила зимой на набережную, где обычно возводили ледяной городок. Все эти занятия не требовали компании. Огорчало Алину лишь то, что теперь она не могла смотреть фильмы ужасов, но это легко компенсировалось чтением Шолохова. Медленно надвигалась зима, пропитывая воздух холодом. В конце ноября в Ростове-на-Дону арестовали Андрея Чикатило.
Ближе к Новому Году родители Алины разрешили ей гулять, запретив посещать лишь видеосалоны и Матросовский микрорайон, где проживали сестры Крамер. Но Алину интересовал только ледяной городок, подсвеченный пестрыми всполохами гирлянд.
Синеватым декабрьским вечером Алина вошла в кухню. Мать варила суп, помешивая его поварешкой. На деревянной доске лежали кухонный нож и пучок зеленого лука. Отец сидел за кухонным столом. Он прихлебывал чай из красной кружки в белый горох и читал свежий выпуск "Звезды Павлозаводска".
- Я могу сегодня погулять до восьми? – сонно спросила Алина.
- На Матросова? – посмотрел на неё отец, опустив газету. Алине показалось, что у него дернулось веко.
- На набережной. Хочу покататься, - обиженно буркнула Алина.
Ей совсем не хотелось гулять с сестрами Крамер - она была сильно на них обижена. Иногда у Алины мелькала мысль, что нужно было задушить их по-настоящему, в камышах возле котлована, и бросить там, чтобы никто ни о чем не узнал.
- Как бы ты еще кого-нибудь не душила, доча, - вздохнула мать, не отвлекаясь от готовки. Она взяла нож и застучала им по доске, кромсая укроп.
- Если на набережной, то погуляй, - разрешил отец. – Но в восемь ты должна быть дома.
- Оденься потеплее, а то простудишься! – крикнула мать в спину Алине, которая уже была в коридоре и вытаскивала из шкафа черную шубу из "чебурашки".
Надев пушистую лисью шапку и красные сапоги-дутыши, Алина спрятала ладони в колючих варежках и выскользнула из квартиры в холодный подъезд. С шумом захлопнув дверь, Алина тихо приоткрыла её и вслушалась в приглушенные голоса родителей.
- Когда она часами разглядывала фотографии твоих мертвых родственников, ты находила это забавным, - с укором сказал отец.
- Ты там вообще был? – возмутилась мать. – Это ужас какой-то. Кровь, трупы, отрубленные головы…
- Началось это явно раньше. Помнишь, как она в пять лет хоронила куклу?
Алина заинтересованно слушала, припав ухом к щели между дверью и косяком.
- При чем здесь вообще кукла? Наша дочь копила деньги, чтобы смотреть на эту мерзость! Спуталась с какой-то шантрапой! Душила их!
- Если бы ты отправила Алину в летний лагерь, этого бы не произошло, - мягко возразил отец.
- Она бы и там детей душила! – воскликнула мать, отрывисто стучал нож. – Так хотя бы никто не знает. А то бы директриса мне мозги компостировала. И твой начальник тоже говорил бы, что…
- Римма, не заводись.
- Уже слишком поздно. Это не лечится.
- С чего ты вообще взяла, что это не лечится? – раздраженно возразил отец.
- Вспомни мою мать.
- Твоя мать росла в оккупации. В этом нет ничего странного.
Стук ножа прекратился, голоса умолкли. Алина постояла возле двери еще немного, но разговор не продолжился. Бесшумно притворив за собой дверь, Алина спустилась по лестнице и вышла в заснеженный двор. Желтоватый свет фонарей падал на волны снега, остро сверкающие серебром. В темной вышине, над янтарно-желтыми и ледянисто-голубыми окнами мерцала хрустальная россыпь звезд.
В декабре девяносто первого всё закончилось. Ошарашенные распадом СССР, родители уже не пытались контролировать Алину: отец растерянно пытался спасти краеведческий музей, мать продолжала приносить домой учительскую зарплату, но методично искала другие способы заработка. Когда Алине исполнилось шестнадцать, она поступила в музучилище и съехала из родительской квартиры в неустроенное, но далекое от них общежитие. Отец на тот момент уже работал сторожем, а мать продавала на рынке одежду, привезенную ей же из Турции.
Сокурсников Алина сторонилась, пугаясь их живости и вредных привычек, а на работе скупо общалась лишь с покупателями, хозяином киоска и братками, которые изредка появлялись перед зарешеченным окном, чтобы отовариться бесплатно. Дети покупали жвачки с переводными татуировками, конфеты в виде сигарет и красящие язык чупа-чупсы. Взрослые покупали пиво, уже настоящие сигареты и чай в пакетиках. Братки приходили за водкой, сигаретами подороже и презервативами. Алина, которая носила короткие черные платья, красила губы бордовой помадой и покрывала веки синюшными тенями, поначалу привлекала внимание братков, но всякий раз, когда она смотрела на них из-под завитой челки, интерес пропадал. Алину это не удивляло. Ей уже не раз говорили, что у неё отталкивающий взгляд.
Каждое утро начиналось одинаково. Алина неспешно съедала бутерброд с плавленым сыром, чистила влажной ладонью платье и завивала челку. Затем наносила макияж, обувалась в черные сапоги на платформе и накидывала черный кожаный плащ. В лакированной сумке, которую Алине подарила мать, всегда можно было найти помаду "Кики", тени "Руби Роуз" и плеер с наушниками, к которому обычно прилагались несколько кассет. Как и наказывали родители, музыку Алина слушала отечественную: "Агата Кристи", "Крематорий", "Хуго-Уго"… Иногда, когда у неё было веселое настроение, она слушала "Холодную десятку" братьев Торч – мрачновато-пародийные песни о некрофилии. Шел сентябрь девяносто седьмого года.
Именно в этом месяце Алина, в очередной раз покидая киоск после ночной смены, с удивлением выяснила, что в одном из близлежащих дворов поселились сестры Крамер – до сих пор живые, всё еще дружные. Было раннее утро. Алина шла через дворы к автобусной остановке. Слева, под балконами песочно-серой пятиэтажки, валялся около дерева старый матрас. Торчали из земли облупившиеся турники, заваливалась на бок карусель. Справа, вдоль подъездов грязно-белой пятиэтажки, тянулась узкая асфальтовая дорога. Перед одним из подъездов сидели на деревянной лавке две девушки. Они курили и щелкали семечки: одна оживленно жестикулировала, другая шевелилась медленно, как оживший мертвец. Что-то в их движениях показалось Алине знакомым.
Расстояние до лавки медленно сокращалось. Волосы у обеих девушек были светлые, почти белые. Та, что сидела слева и судорожно дергала руками, была в пестрой олимпийке и ярко-красных лосинах. Другая сонно клевала носом, носила рваные джинсы и турецкий свитер с рынка. Прически девушек, - каре до плеч и длинные волосы, собранные в хвост, - пробудили в Алине старые воспоминания.
Сестры Крамер не замечали, что к ним приближается силуэт в черном плаще. Августа увлеченно о чем-то говорила и размахивала рукой, в которой дымилась сигарета. Под наполовину застегнутой олимпийкой поблескивала серебром майка, в голубых лакированных туфлях на высоком каблуке отражалось пасмурное небо. Карина держала в руке бумажный кулек с семечками и, пытаясь слушать сестру, чуть ли не засыпала. Из-под свитера торчал подол длинной футболки, джинсы и кроссовки были излишне грязными. Объединяло сестер лишь то, что обе были нездорово тощими.
Алина остановилась в метре от лавочки. Заметив упавшую на них тень, Августа резко повернула голову. Разглядев знакомое лицо, она расплылась в улыбке.
- Алина! Алина! - вскочила она с лавки. Тлеющий окурок ударился об асфальт.
Не успела Алина возразить, как Августа повисла на ней. Карина лениво повернула голову. На равнодушном лице вяло изогнулись губы. Почесав ногтями впалую щеку, Карина нехотя встала.
- Вы что, живете здесь? – спросил Алина, вежливо выскальзывая из объятий Августы.
- Ага. Сняли тут квартиру недавно, - пробормотала Карина. – А ты? Тоже теперь здесь?
- Нет. Работаю в киоске.
- Тебе не страшно там сидеть? - округлила Августа светлые глаза. - Я слышала, что когда киоски поджигают, то дверь подпирают снаружи, чтобы продавец не выбежал.
- Густа, хватит, - поморщилась Карина. - Вечно ты со своими историями…
- Да ничего. Все в порядке, - довольно улыбнулась Алина.
Прошло пять лет, детская обида больше не тревожила её. Приятно было встретить тех, с кем она провела много теплых дней в полузаброшенных парках и темных углах Павлозаводска.
В следующее воскресенье, когда Алине после смены не нужно было на учебу, она решила зайти в гости к сестрам, которые снимали квартиру на третьем этаже. Квартира удручала - она состояла из узкого коридора, небольшой кухни и зала. В пустом коридоре, освещенном мутной лампочкой, Алина вытерла подошвы сапог о коврик, который покрывала присохшая слякоть. Сквозняк из подъезда протащил по дощатому полу хлопья пыли.
- Если хочешь помыть руки, то иди в ванную, а я пока чай заварю, - скороговоркой произнесла Августа и скрылась в кухне. Глухо зашипела в кране вода.
Найдя вопрос странным, Алина разулась и аккуратно поставила сапоги в угол. Стараясь не наступать на пыль, она повесила плащ на крючок и прошла в ванную - совмещенный санузел, видавший лучшие дни. Стены покрывал голубой кафель в трещинах, на полу возле унитаза щетинилась окурками банка из-под кофе. Стена над пожелтевшей ванной была выложена зеркальной плиткой: мутной от прикосновений и засохших мыльных капель, испещренной полустертыми наклейками с американскими женщинами в купальниках.
Удивившись неожиданному следу былой роскоши, Алина покрутила кран, дождалась, чтобы протекла ржавая вода, и помыла руки без мыла - его поблизости не оказалось.
- Пошли в зал. На кухне воняет, - сонно сказала Карина, когда Алина вышла из ванной.
Зал выглядел бедно, но опрятно. Мебели было мало: двуспальная кровать, накрытая пледом с тигром, изодранный кошками диван и покосившийся платяной шкаф. На подоконнике, за пеленой сероватого тюля стоял магнитофон, возле него горкой были свалены кассеты. Алина села на диван, хоть тот и не выглядел чистым.
Алина Емельяновна с мрачным видом ужинала на кухне, вылавливая из томатного соуса макароны. День, мягко говоря, не задался. Утром Алине Емельяновне пришлось явиться на допрос к следователю Юдину, который за последние двадцать лет поймал в Ленинской области двух серийных убийц, прославившихся на государственном уровне. Алина Емельяновна даже не сомневалась, что Юдин заметил её испуг, вызванный одним лишь видом искусственной гвоздики. Вопрос был в том, сможет ли он что-нибудь доказать.
"Не сможет, конечно. Даже если за мной сейчас следят, что они увидят? Что я езжу из дома на работу, а потом с работы домой?" – рассудила Алина Емельяновна и немного успокоилась.
Она решила обойтись без убийства Юдина, хотя у неё имелись для этого все возможности. Даже наоборот, гораздо лучше было оставить его в живых.
"Убедится, что я никуда по ночам не езжу, и переключится на кого-нибудь еще", - решила Алина Емельяновна.
Бояться было нечего. Единственное, что она теперь не могла делать, так это пользоваться калейдоскопом вне дома и перед окнами, чтобы никто не увидел, как она растворяется в воздухе.
"Буду заходить в туалет", - приняла Алина Емельяновна еще одно разумное решение.
К тому же, в городе были другие враги, которые представляли куда большую опасность – три загадочных кандидата, которых Мать Душегубов упоминала в прошлом месяце. Алина Емельяновна была уверена, что именно один из них находился во внедорожнике, который прибыл на место пятого убийства, застав Алину Емельяновну врасплох. В отличие от Юдина, этот человек действительно мог лишить её всего - даже жизни. Узнать его имя было делом первой необходимости.
Алина Емельяновна сомневалась, что Мать Душегубов расстроится, узнав о смерти этого человека: та обожала развлечения, и такой поворот событий мог её даже развеселить. Но ехать за уликами в такой дождь было рискованно. Алина Емельяновна решила подождать до утра.
Заснуть удалось не сразу. Где-то час Алина Емельяновна, надев очки, читала в кровати "Некрофила" Витткоп - наиболее любимый предмет её книжной коллекции, которая хранилась под кроватью в специальном сундуке. Там же лежали диски с фильмами, которые Алина Емельяновна купила онлайн и даже начала учить ради них английский. В другом сундуке, поменьше, хранилась непристойная часть коллекции – распечатанные фотографии молодых мертвецов, собранные по всему доступному интернету. Третий сундук можно было обнаружить, лишь попав в Хмарь, потому что его содержимое принадлежало Ленинскому душителю. Там бережно хранились конверты с фотографиями повешенных жертв и флэшки с видео. Ролики не отличались друг от друга: сначала Алина Емельяновна снимала убитых девочек на “полароид”, а потом расчленяла их. Вершиной коллекции была розовая шляпная коробка, в которой покоились останки Максима Пряникова: черный похоронный костюм, нетронутые временем очки и кости с черепом, которые Алина Емельяновна отбелила, прокипятив их с перекисью водорода.
Проснувшись утром, Алина Емельяновна покормила Мурку, позавтракала и, зайдя в туалет, вышла оттуда уже в Хмари. Покинув дом, она направилась к гаражу из серых шлакоблоков, над которым нависала одинокая осина. В фарфорово-синем небе сияло солнце. Воспряли примятые ливнем цветы, испарились лужи, высохла почва. В дальнем углу огорода стояли бок о бок два деревца, усыпанные янтарными и рубиновыми бусинами ягод – облепиха и клюква. В бледно-зеленой листве осины каркала ворона. Высоко в воздухе тихо гудели майские жуки.
Выехав за ворота, Алина Емельяновна направила черную "ладу" туда, где она первого числа повесила на березе Дашу Фомину. Грунтовая дорога в той части леса была всего одна. Припарковав машину в березовой роще, Алина Емельяновна взяла с заднего сиденья охотничье ружье, унаследованное от покойного мужа. Она повесила ружье на плечо и пошла по грунтовке направо. Ее окутывала голубоватая зернистость лесополосы, пронизанная теплом полуденного солнца. Тяжелые ботинки взбивали бледно-желтую пыль.
Вдоль грунтовки торчали из земли бетонные фонарные столбы - забытые истуканы, артефакты ушедшей эпохи. Полосатые березы, чуть тронутые синевой Хмари, понемногу сменялись бурыми осинами. Вдали виднелись огромные бетонные опоры по обе стороны железнодорожного полотна - все, что осталось от недостроенной эстакады. На полпути к эстакаде Алину Емельяновну ожидал неприятный сюрприз. Грунтовка раздваивалась.
Озадаченная, Алина Емельяновна решила пойти налево, но быстро об этом пожалела. Грунтовка медленно сужалась, пока не превратилась в лесную тропу, которая окончательно исчезла в зарослях терновника. Следов человеческого присутствия там не было. Тяжело вздохнув, Алина Емельяновна вернулась к развилке, чтобы проверить правое ответвление.
Там ей повезло больше. Минут пятнадцать Алина Емельяновна брела между высоких осин, колючих кустарников и гниющих телеграфных столбов. Грунтовка понемногу превращалась в колею, заросшую травой. Чем дальше продвигалась Алина Емельяновна, тем меньше становилось деревьев, которые уступали место хаотичным волнам сорняков, полыни и молочая. К свободным серым брюкам липли мелкие колючки. Когда вдали забрезжило нечто, похожее на шиферную крышу, Алина Емельяновна улыбнулась. В этом месте её могла ждать удача.
Колея привела Алину Емельяновну в заброшенный дачный поселок. Тут и там росли искривленные яблони, тонули в борщевике остовы деревянных заборов, прятались в зелени дачные домики, оплетенные вьюнком. Обходя их один за другим, Алина Емельяновна находила лишь гниющее от сырости дерево, затхлый запах мышей и сухие осенние листья. Воротник мужской рубашки натирал влажную от пота шею, лямки бюстгальтера впивались в плечи.
Заметив перед одним из домиков следы кострища, Алина Емельяновна поняла, что она близка к цели. Обычный житель Павлозаводска вряд ли оставил бы после себя оплавленные огнем автомобильные шины, пустую канистру из-под бензина и раскиданные по траве человеческие кости. Чуть поодаль валялась лыжная палка, кости были серыми от золы. Отсутствовал лишь череп - его Алине Емельяновне найти не удалось.
Нахмурившись, она огляделась по сторонам. Возле покосившегося забора из лыжных палок росла высокая сосна, окна дачного домика с крестовинами рам были темными от грязи, на приземистом крыльце поблескивали осколки голубого кафеля. Деревянная дверь домика, усеянная пятнами плесени, поскрипывала ржавыми петлями.
Преодолев сомнения, Алина Емельяновна подошла к крыльцу и опасливо заглянула внутрь. Комната не отличалась от тех, которые она уже видела: дощатый пол, присыпанный песком и сухими листьями, стены, испещренные пятнами сырости, и темный дверной проем, ведущий в спальню. Через окно проникал внутрь солнечный свет. Под подоконником валялись обрывки веревки, по углам стояла пара туристических фонарей. В центре комнаты темнело на полу бурое пятно, пропитавшее собой пыльные доски. Пятно напоминало запятую, которая следом волочения тянулась к крыльцу. По бокам от него виднелись отпечатки ботинок - чуть смазанные, с россыпью крестовин. Алина Емельяновна поставила свою ногу рядом с одним из следов. Тот, кто тащил тело на крыльцо, был либо ребенком, либо женщиной с маленьким размером ноги.
"Ничего удивительного. Мать Душегубов сама говорила, что выбирает только необычных маньяков", - подумала Алина Емельяновна. Судя по всему, именно эта женщина сожгла труп и забрала череп. Судя по всему, именно эта женщина была тогда за рулем внедорожника, а сбоку от неё сидел кто-то еще.
Догадка и радовала, и пугала. Справиться с щуплой женщиной Алина Емельяновна могла – если только у той не было помощника.
"Не всегда же они ходят вдвоем", - нахмурилась Алина Емельяновна.
Решив проверить спальню, она заглянула и туда, но комната была совершенно пуста. Ничто в дачном домике на личность неизвестной не указывало.
Обратная дорога до березовой рощи отняла почти час. Ноги Алины Емельяновны гудели от усталости, но левую часть грунтовки, ведущую в сторону города, нужно было тоже изучить пешком, чтобы ничего не упустить.
Левое ответвление вывело Алину Емельяновну в бескрайние луга. Она брела сквозь волны полевых цветов: багровых кровохлебок, белых ромашек, голубых колокольчиков… В озерцах, разбросанных по лугам до самого горизонта, слепящими искрами отражалось желтоватое солнце. Алина Емельяновна знала, куда идти. Вдалеке, возле крохотного озерца, поблескивали окна темно-зеленого внедорожника. Именно его видела Алина Емельяновна в ту ночь, когда вешала Дашу Фомину.
Подойдя ближе, Алина Емельяновна тщательно всё осмотрела. Неизвестная женщина бросила автомобиль возле озерца, заросшего камышом и кувшинками. В багажнике "нивы" личных вещей не оказалось, в салоне тоже. Лишь в бардачке Алина Емельяновна нашла водительские права на имя Буровского Андрея Ивановича, который проживал в Ленинске.
- Бред какой-то… - пробормотала она.
Если помощник неизвестной и она сама были из Ленинска, то им незачем было ехать в такую даль. Тем более, бросать здесь свою машину. Впрочем, нельзя было утверждать, что эта машина принадлежала им. Неизвестная могла проживать в Павлозаводске, угнать машину человека из Ленинска, который приехал сюда по делам, а затем бросить её в первом попавшемся месте. Она могла вообще каждый раз пользоваться новой машиной. Алина Емельяновна была точно уверена лишь в том, что это либо женщина, либо подросток.
"Если это подросток, то пусть он будет похож на Фишера,” - промелькнула у Алины Емельяновны внезапная мысль. Для такого противника она могла сделать исключение и воплотить одну из своих фантазий, переодев его в костюм и задушив в кабинете музыки, где проработала два десятка лет.
Алина Емельяновна отдыхала в тени автомобиля, пока не спала жара. В березняке её дожидалась черная "лада". Вернувшись домой, Алина Емельяновна почистила кроличьи клетки, полила цветы и грядки, протерла в доме пыль. Про следователя Юдина она больше не думала.
Шестое убийство Алина Емельяновна запланировала на четырнадцатое июня – День Сибири. Она наполнила термос теплым кофе, надела медицинские перчатки и кинула на заднее сиденье заряженное ружье – на тот случай, если случайно столкнется в городе с неизвестной женщиной, чьи следы обнаружила на заброшенных дачах. Бледный свет луны заливал Павлозаводск, облизывая шершавые панели домов, острые конусы тополей и прохладный асфальт.
Место охоты, которое Алина Емельяновна выбрала заранее, разочаровало её. Проехав полгорода, она добралась до Химгородков – довольно обширного микрорайона, который она уже посещала, когда подбрасывала на заднее крыльцо роддома отрубленную голову четвертой жертвы - девочки, которая чем-то напоминала сестер Крамер. Кроме роддома, окруженного жуткими слухами о крематории в подвале, где якобы сжигали умерших младенцев, на Химгородках было еще и заброшенное кладбище - оно начиналось прямо за последней линией серых девятиэтажек.
Справа от кладбища тянулась необжитая часть набережной, поросшая камышом, а далеко впереди, под звездным небом, белели бетонные заборы, отливали серебром крыши цехов, тянулись вверх полосатые трубы. Алина Емельяновна знала, что неблагополучные подростки любят проводить свободное время там, где никто не мешает им пить дешевое пиво и курить сигареты. Заброшенное кладбище, камышовые заросли на берегу Ертыса и пустыри вокруг промзон подходили для этих занятий как нельзя лучше.
Припарковавшись у кладбищенского забора, Алина Емельяновна пролезла через дыру на территорию смерти и сорняков.
- Медленно минуты уплывают вдаль, - доносился из-за спины голос крокодила Гены, вздыхала гармошка, - встречи с ними ты уже не жди…
Побродив по заросшему бурьяном кладбищу, Алина Емельяновна заметила вдали призрачный силуэт, от которого веяло теплом жизни. Пройдя по тропе, которая прихотливо вилась среди покосившихся гранитных плит, ржавых советских надгробий и деревянных крестов, Алина Емельяновна задумчиво остановилась, держа в правой руке удавку – бельевую веревку с узлами на концах.
В синеватом полумраке недвижимо лежали пятна лунного света, косо тянулись по земле тени надгробий. Из могильного холма, поросшего сочной травой и одуванчиками, торчали спинка и изножье небольшой кровати, покрытые струпьями облезающей краски. На могильном холме, под которым явно был похоронен ребенок, спала девочка.
Алине Емельяновне хватило одного взгляда, чтобы забыть о желании убивать - его затмила брезгливость. У девочки были сальные волосы, на лице и руках виднелись застарелые разводы грязи. Такими же разводами была покрыта поношенная одежда девочки: мешковатая футболка с Соником, рваные джинсы и линялые кеды.
"Ну уж нет", - поморщилась Алина Емельяновна. Ей не хотелось пачкаться, сдирая мочалкой грязь с мертвого тела.
Брезгливо взглянув на девочку неоново-синими глазами, Алина Емельяновна сунула удавку в карман и решительно зашагала обратно к машине. Место убийства было замечательным, но жертва вызывала лишь отвращение.
Не выключая "Голубой вагон", Алина Емельяновна села за руль и поехала по узкой дороге вдоль набережной. Набережная появилась в Павлозаводске около ста лет назад, в двадцатых годах прошлого века, и её появление было связано с комически-мрачным инцидентом.
Несмотря на то, что каждую весну Ертыс разливался, местные жители хоронили своих покойников на берегу. Обычно до кладбища вода не доходила, и весны проходили без инцидентов, но в середине двадцатых Ертыс вышел из берегов слишком сильно, добравшись наконец до кладбища. По реке поплыли деревянные гробы, и местным жителям пришлось их вылавливать: кто бросался вплавь, кто пытался дотянуться до гробов длинными сучьями. После этого инцидента молодая коммунистическая власть перенесла кладбище в ту часть города, где реки не было, а берег частично забетонировала, чтобы избежать дальнейших казусов. Так появилась павлозаводская набережная, которая постепенно обросла гранитными лестницами, панельными кварталами и фонтанами с подсветкой. Всё это Алина Емельяновна видела сейчас, проезжая по узкой безлюдной дороге. Слева вырастали друг за другом многоэтажки из бледно-рыжих панелей, справа тянулся пологий дикий пляж, где жались друг к другу клены. В синеватом мраке за шевелением веток виднелся грязно-серый остов приземистого заброшенного здания. Там тоже могли коротать время подростки, но Алина Емельяновна решила оставить это место для другого раза.
Клены сменились густыми зарослями камыша и рогоза, среди которых вилась по бугристому склону пляжа узкая тропа. Тропа ползла вперед, пока не окончилась бетонной лестницей с ржавыми перилами, по которой можно было спуститься либо на мраморную набережную, либо на облагороженный пляж, где в серовато-желтом песке стояли под зернистым лунным светом деревянные лежаки с грибами зонтов. Несмотря на праздничный день, Алина Емельяновна не заметила ни одного туманного силуэта – слишком силен был страх горожан перед Ленинским душителем.
Осторожно съехав к набережной по склону, где зимой обычно заливали длинную ледяную горку, Алина Емельяновна медленно повела автомобиль по прогулочной зоне. Слева уходили вверх гранитные лестницы и каскады фонтанов, выключенных на ночь. Справа тянулся широкий мраморный парапет, вдоль которого стояли деревянные лавки и металлические урны в виде пингвинов. За парапетом начинался пляж.
Алина Емельяновна остановила машину и вышла наружу. Слабый порыв ветра коснулся лица, потревожил темные волосы. Алина Емельяновна подошла к парапету и задумчиво посмотрела вниз – туда, где слабо дрожали у влажного берега темные волны Ертыса. Её взгляд отразился синими бликами в коричневом мраморе, скользнул по скошенной бетонной плите, которая отделяла набережную от пляжа, прополз по сероватому песку. Под деревянным зонтом, на лежаке, бледнел туманный силуэт, от которого исходило тепло жизни.
Сосредоточенно вглядевшись в него, Алина Емельяновна поняла – она наконец нашла то, что искала. На лежаке расслабленно валялась девочка лет пятнадцати с бледно-розовым каре, одетая в мешковатую белую рубашку, черную жилетку и рваные джинсы с лакированными берцами. Корни волос были темными, на жилетке поблескивала под лунным светом россыпь значков, справа от лежака валялся на песке серебристый рюкзак с бензиновым отливом. Девочка не спала. Время от времени она шевелила рукой, глотая из бутылки "Диззи" – дешевый алкогольный коктейль ядовито-зеленого цвета. Перед лежаком белела во влажном песке коряга, омываемая слабым ночным прибоем.
Алина Емельяновна огляделась по сторонам. Предыдущий съезд на пляж остался позади. Следующий съезд был слишком далеко, возле деревянного городка – груды пестрых, грубо покрашенных домиков, которые соединяла широкая металлическая труба – в теплое время года по ней ползали маленькие дети. Алина Емельяновна сразу приняла решение. Сделав музыку громче, она взобралась на парапет и спрыгнула на бетонный склон. Спустилась на пляж и достала из кармана удавку. Шуршал под ботинками песок, скользила по пляжу скошенная тень.
Когда до девочки оставалось несколько метров, туманный силуэт дрогнул и стал таким же зернисто-синюшным, как и весь окружающий мир. Девочка замерла с бутылкой в руке. Перемещение в Хмарь застало её врасплох. Девочка поводила головой, оглядывая темные волны, далекий берег с бурой рябью лесополосы и слоистое звездное небо. Затем девочка оглянулась.
Увидев Алину Емельяновну и её глаза, светящиеся синим, она вскочила с лежака. Бутылка упала на землю, коктейль выплеснулся на песок. Девочка рванулась вправо. Алина Емельяновна, оскалив зубы, устремилась за ней. Девочке неудобно было бежать, её берцы вязли в сухом полотне пляжа. Алина Емельяновна, чертыхаясь, неуклюже бежала следом. Её ботинки тонули в ноздреватом песке.
- Помогите! Помогите! – надрывно кричала девочка. К сожалению, рядом не было никого, кто мог бы её услышать.
Алина Емельяновна рванулась вперед. Оказавшись позади девочки, она схватила её за волосы и дернула на себя. Обе повалились на землю, девочка дернула ногой. Голень Алины Емельяновны ударил грубый пинок.
- Да хватит уже дергаться! – раздраженно прошипела она, вдавливая девочку в песок.
- Помогите! Помогите! – кричала девочка, впустую молотя берцами. В её вытаращенных глазах бледными точками отражалась луна.
- Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди… - глухо пел на набережной крокодил Гена.
Алина Емельяновна села на девочку, придавив её руки коленями к земле. На бледной шее затянулась удавка. Девичье лицо, освещенное синеватыми отблесками, исказилось в предсмертной гримасе. Девочка била ногами по песку и истошно хрипела, но уже через несколько минут сильные удары сменились хаотичными судорогами. Хрип стих. Глаза закатались, язык вывалился, лицо налилось багрянцем. Длинный нос отбрасывал на щеку острую тень.
Удовлетворенно выдохнув, Алина Емельяновна встала и убрала удавку в карман брюк. В темной вышине тускло мерцали звезды. Алина Емельяновна посмотрела на труп и толкнула его ногой в бок. Тот не пошевелился. Бледный свет луны заливал пляж, высекая из волн песка острые гребни теней. Задушенная девочка с цианозным лицом лежала, чуть скрючив руки. Алина Емельяновна нахмурилась. Обычно её жертвы принимали после смерти расслабленное состояние.
"Какая теперь разница…" – раздраженно подумала она, переминаясь с ноги на ногу. Даже сквозь носки она чувствовала, как пересыпается в ботинках песок.
Вернувшись к лежаку, Алина Емельяновна села на него и разулась, вытряхнула песок из ботинок. Её уставший взгляд, в котором медленно затухало синее свечение, скользил по вещам девочки. Возле лежака валялась бутылка "Диззи", под её горлышком темнело на песке влажное пятно. Чуть поодаль лежал серебристый рюкзак.
Лениво потянувшись за ним, Алина Емельяновна расстегнула на рюкзаке молнию и высыпала его содержимое себе под ноги. Вещей было немного: мятая пачка сигарет, смартфон с проводными наушниками, пачка сухариков "Болжау" и темные очки. Отбросив рюкзак в сторону, Алина Емельяновна расслабленно оглядела берег. Волны нехотя накатывали на влажный песок, омывая корягу, похожую на большой куриный хрящ.
На периферии зрения что-то шевельнулось. Алина Емельяновна повернула голову. Девочка слабо мотыляла рукой, силясь перекатиться на бок. Алина Емельяновна тяжело вздохнула. Обувшись, она встала с лежака, подошла к девочке и нависла над ней, уперев руки в бока. Девочка, освещенная синеватыми отблесками нечеловеческих глаз, вяло ворочала языком, но не могла сказать ни слова. Она смотрела на Алину Емельяновну мутным, остекленевшим взглядом. Рука бессильно дергалась, вновь и вновь падая на песок.
- Ну и куда ты ползешь? – улыбнулась Алина Емельяновна.
- До… До… - хрипло выдавила девочка.
- Я тебя не понимаю. Попробуй еще раз.
- До…
- Пойдем. Кое-что покажу, - холодно перебила её Алина Емельяновна.
Девочка беззвучно шевелила языком. Кажется, она не понимала, что происходит.
Алина Емельяновна подхватила девочку под мышки и, пыхтя от натуги, поволокла к реке. Ноги в лакированных берцах волочились по песку, оставляя змеящиеся следы. Руки девочки безжизенно свисали, пальцы слабо подергивались. Голова моталась из стороны в сторону, испуская монотонный хрип.
- Я тут не при чем. Ты сама виновата, - сказала Алина Емельяновна. У неё побаливала спина, но река была уже близко.
Утопая ботинками во влажном песке, Алина Емельяновна подтащила девочку к коряге, бросила её беспомощное туловище на мокрый берег и, с облегчением вздохнув, выпрямилась. Повертев торсом из стороны в сторону, чтобы размять мышцы, Алина Емельяновна посмотрела на девочку сверху вниз. Та лежала головой к волнам, на розовые волосы налипли комья песка. Тень от коряги легла на чуть багровое лицо, будто паутина. Алина Емельяновна встала возле девочки на колени. Брюки сразу же намокли, коснулась кожи холодная вода.
- Зря ты меня пнула, мелкая тварь, - мрачно произнесла Алина Емельяновна.
Схватив девочку за волосы, она ударила её головой об корягу. Раздался глухой стук, девочка хрипло застонала.
- Не надо было меня пинать. Ясно тебе, скотина? – прошипела Алина Емельяновна сквозь зубы, вновь ударив девочку.
Лунный свет покрывал серебром далекую лесополосу, вспыхивал в темных волнах Ертыса, заливал серовато-желтый пляж. Алина Емельяновна не останавливалась. Голова девочки глухо стукалась об корягу. Глаза закатились, из горла хрипами вырывался воздух. Кровь стекала по голой древесине, пропитывала розовые волосы, расползалась красноватой вуалью в толще воды.
- Это всё. Сейчас ты умрешь, - глухо сообщила Алина Емельяновна.
Девочка не отреагировала на её слова. Она была в сознании, но её мутный взгляд ничего не выражал. Алина Емельяновна подтащила девочку к речным волнам. Окровавленная голова погрузилась под воду, на волнах вздулись пузыри. Усевшись на девочку, Алина Емельяновна схватила её одной рукой за волосы, а другой за горло. Она грубо вдавила девочку в илистое дно. Розовые волосы, облепленные водорослями, колыхались в зернистой толще воды. Дрожали волны, девочку била судорога. Последний пузырь воздуха всплыл на поверхность и лопнул, исчезнув без следа. Раздраженно скалясь, Алина Емельяновна удерживала девочку под водой.
Она ослабила хватку лишь через десять минут. Затем проверила пульс, приложив пальцы к мокрой, холодной шее. Пульса не было. Ночная прогулка Алины Емельяновны подошла к концу.
Дотащив труп до деревянного городка, Алина Емельяновна вернулась туда с машиной и, собрав оставшиеся силы, уложила труп на заднее сиденье. Тот лег лицом вниз, свесив руку к полу. В мокрых розовых волосах торчал черной колючкой водяной каштан. Когда Алина Емельяновна была ребенком, она называла их "чертиками".
Девочка, которую Алина Емельяновна задушила на пляже Ертыса, напоминала сестер Крамер безнадзорным образом жизни, вредными привычками и любовью к ночным прогулкам в опасных местах. Склонность к риску довела сестер Крамер до совместной кражи и детской колонии, но подробностей Алина Емельяновна не знала – на тот момент ей уже было запрещено общаться с Кариной и Августой. У запрета была причина.
В один из поздних июльских вечеров тринадцатилетняя Алина вновь душила Августу полотенцем на верхнем ярусе горки. Упав в обморок, Августа забилась в судорогах. Впрочем, она быстро пришла в себя, но оставалась в прострации и не понимала, что именно с ней происходит - будто тело Августы временно занял кто-то другой.
Ближе к полуночи Карина все-таки отвела Августу домой. Родители сестер заметили неладное, и Карине пришлось рассказать обо всём: о прогулках в безлюдных местах, о походах в видеосалон, об игре в удушение. Утром про это узнали родители Алины.
Остаток лета и осень Алина провела в квартире, покидая её лишь для того, чтобы отправиться в музыкальную школу или на уроки. Родители считали это суровым наказанием, но Алина едва ли была расстроена. До знакомства с сестрами Крамер она закапывала в кустах секретики, пускала бумажные кораблики по весенним ручьям и ходила зимой на набережную, где обычно возводили ледяной городок. Все эти занятия не требовали компании. Огорчало Алину лишь то, что теперь она не могла смотреть фильмы ужасов, но это легко компенсировалось чтением Шолохова. Медленно надвигалась зима, пропитывая воздух холодом. В конце ноября в Ростове-на-Дону арестовали Андрея Чикатило.
Ближе к Новому Году родители Алины разрешили ей гулять, запретив посещать лишь видеосалоны и Матросовский микрорайон, где проживали сестры Крамер. Но Алину интересовал только ледяной городок, подсвеченный пестрыми всполохами гирлянд.
Синеватым декабрьским вечером Алина вошла в кухню. Мать варила суп, помешивая его поварешкой. На деревянной доске лежали кухонный нож и пучок зеленого лука. Отец сидел за кухонным столом. Он прихлебывал чай из красной кружки в белый горох и читал свежий выпуск "Звезды Павлозаводска".
- Я могу сегодня погулять до восьми? – сонно спросила Алина.
- На Матросова? – посмотрел на неё отец, опустив газету. Алине показалось, что у него дернулось веко.
- На набережной. Хочу покататься, - обиженно буркнула Алина.
Ей совсем не хотелось гулять с сестрами Крамер - она была сильно на них обижена. Иногда у Алины мелькала мысль, что нужно было задушить их по-настоящему, в камышах возле котлована, и бросить там, чтобы никто ни о чем не узнал.
- Как бы ты еще кого-нибудь не душила, доча, - вздохнула мать, не отвлекаясь от готовки. Она взяла нож и застучала им по доске, кромсая укроп.
- Если на набережной, то погуляй, - разрешил отец. – Но в восемь ты должна быть дома.
- Оденься потеплее, а то простудишься! – крикнула мать в спину Алине, которая уже была в коридоре и вытаскивала из шкафа черную шубу из "чебурашки".
Надев пушистую лисью шапку и красные сапоги-дутыши, Алина спрятала ладони в колючих варежках и выскользнула из квартиры в холодный подъезд. С шумом захлопнув дверь, Алина тихо приоткрыла её и вслушалась в приглушенные голоса родителей.
- Когда она часами разглядывала фотографии твоих мертвых родственников, ты находила это забавным, - с укором сказал отец.
- Ты там вообще был? – возмутилась мать. – Это ужас какой-то. Кровь, трупы, отрубленные головы…
- Началось это явно раньше. Помнишь, как она в пять лет хоронила куклу?
Алина заинтересованно слушала, припав ухом к щели между дверью и косяком.
- При чем здесь вообще кукла? Наша дочь копила деньги, чтобы смотреть на эту мерзость! Спуталась с какой-то шантрапой! Душила их!
- Если бы ты отправила Алину в летний лагерь, этого бы не произошло, - мягко возразил отец.
- Она бы и там детей душила! – воскликнула мать, отрывисто стучал нож. – Так хотя бы никто не знает. А то бы директриса мне мозги компостировала. И твой начальник тоже говорил бы, что…
- Римма, не заводись.
- Уже слишком поздно. Это не лечится.
- С чего ты вообще взяла, что это не лечится? – раздраженно возразил отец.
- Вспомни мою мать.
- Твоя мать росла в оккупации. В этом нет ничего странного.
Стук ножа прекратился, голоса умолкли. Алина постояла возле двери еще немного, но разговор не продолжился. Бесшумно притворив за собой дверь, Алина спустилась по лестнице и вышла в заснеженный двор. Желтоватый свет фонарей падал на волны снега, остро сверкающие серебром. В темной вышине, над янтарно-желтыми и ледянисто-голубыми окнами мерцала хрустальная россыпь звезд.
В декабре девяносто первого всё закончилось. Ошарашенные распадом СССР, родители уже не пытались контролировать Алину: отец растерянно пытался спасти краеведческий музей, мать продолжала приносить домой учительскую зарплату, но методично искала другие способы заработка. Когда Алине исполнилось шестнадцать, она поступила в музучилище и съехала из родительской квартиры в неустроенное, но далекое от них общежитие. Отец на тот момент уже работал сторожем, а мать продавала на рынке одежду, привезенную ей же из Турции.
Сокурсников Алина сторонилась, пугаясь их живости и вредных привычек, а на работе скупо общалась лишь с покупателями, хозяином киоска и братками, которые изредка появлялись перед зарешеченным окном, чтобы отовариться бесплатно. Дети покупали жвачки с переводными татуировками, конфеты в виде сигарет и красящие язык чупа-чупсы. Взрослые покупали пиво, уже настоящие сигареты и чай в пакетиках. Братки приходили за водкой, сигаретами подороже и презервативами. Алина, которая носила короткие черные платья, красила губы бордовой помадой и покрывала веки синюшными тенями, поначалу привлекала внимание братков, но всякий раз, когда она смотрела на них из-под завитой челки, интерес пропадал. Алину это не удивляло. Ей уже не раз говорили, что у неё отталкивающий взгляд.
Каждое утро начиналось одинаково. Алина неспешно съедала бутерброд с плавленым сыром, чистила влажной ладонью платье и завивала челку. Затем наносила макияж, обувалась в черные сапоги на платформе и накидывала черный кожаный плащ. В лакированной сумке, которую Алине подарила мать, всегда можно было найти помаду "Кики", тени "Руби Роуз" и плеер с наушниками, к которому обычно прилагались несколько кассет. Как и наказывали родители, музыку Алина слушала отечественную: "Агата Кристи", "Крематорий", "Хуго-Уго"… Иногда, когда у неё было веселое настроение, она слушала "Холодную десятку" братьев Торч – мрачновато-пародийные песни о некрофилии. Шел сентябрь девяносто седьмого года.
Именно в этом месяце Алина, в очередной раз покидая киоск после ночной смены, с удивлением выяснила, что в одном из близлежащих дворов поселились сестры Крамер – до сих пор живые, всё еще дружные. Было раннее утро. Алина шла через дворы к автобусной остановке. Слева, под балконами песочно-серой пятиэтажки, валялся около дерева старый матрас. Торчали из земли облупившиеся турники, заваливалась на бок карусель. Справа, вдоль подъездов грязно-белой пятиэтажки, тянулась узкая асфальтовая дорога. Перед одним из подъездов сидели на деревянной лавке две девушки. Они курили и щелкали семечки: одна оживленно жестикулировала, другая шевелилась медленно, как оживший мертвец. Что-то в их движениях показалось Алине знакомым.
Расстояние до лавки медленно сокращалось. Волосы у обеих девушек были светлые, почти белые. Та, что сидела слева и судорожно дергала руками, была в пестрой олимпийке и ярко-красных лосинах. Другая сонно клевала носом, носила рваные джинсы и турецкий свитер с рынка. Прически девушек, - каре до плеч и длинные волосы, собранные в хвост, - пробудили в Алине старые воспоминания.
Сестры Крамер не замечали, что к ним приближается силуэт в черном плаще. Августа увлеченно о чем-то говорила и размахивала рукой, в которой дымилась сигарета. Под наполовину застегнутой олимпийкой поблескивала серебром майка, в голубых лакированных туфлях на высоком каблуке отражалось пасмурное небо. Карина держала в руке бумажный кулек с семечками и, пытаясь слушать сестру, чуть ли не засыпала. Из-под свитера торчал подол длинной футболки, джинсы и кроссовки были излишне грязными. Объединяло сестер лишь то, что обе были нездорово тощими.
Алина остановилась в метре от лавочки. Заметив упавшую на них тень, Августа резко повернула голову. Разглядев знакомое лицо, она расплылась в улыбке.
- Алина! Алина! - вскочила она с лавки. Тлеющий окурок ударился об асфальт.
Не успела Алина возразить, как Августа повисла на ней. Карина лениво повернула голову. На равнодушном лице вяло изогнулись губы. Почесав ногтями впалую щеку, Карина нехотя встала.
- Вы что, живете здесь? – спросил Алина, вежливо выскальзывая из объятий Августы.
- Ага. Сняли тут квартиру недавно, - пробормотала Карина. – А ты? Тоже теперь здесь?
- Нет. Работаю в киоске.
- Тебе не страшно там сидеть? - округлила Августа светлые глаза. - Я слышала, что когда киоски поджигают, то дверь подпирают снаружи, чтобы продавец не выбежал.
- Густа, хватит, - поморщилась Карина. - Вечно ты со своими историями…
- Да ничего. Все в порядке, - довольно улыбнулась Алина.
Прошло пять лет, детская обида больше не тревожила её. Приятно было встретить тех, с кем она провела много теплых дней в полузаброшенных парках и темных углах Павлозаводска.
В следующее воскресенье, когда Алине после смены не нужно было на учебу, она решила зайти в гости к сестрам, которые снимали квартиру на третьем этаже. Квартира удручала - она состояла из узкого коридора, небольшой кухни и зала. В пустом коридоре, освещенном мутной лампочкой, Алина вытерла подошвы сапог о коврик, который покрывала присохшая слякоть. Сквозняк из подъезда протащил по дощатому полу хлопья пыли.
- Если хочешь помыть руки, то иди в ванную, а я пока чай заварю, - скороговоркой произнесла Августа и скрылась в кухне. Глухо зашипела в кране вода.
Найдя вопрос странным, Алина разулась и аккуратно поставила сапоги в угол. Стараясь не наступать на пыль, она повесила плащ на крючок и прошла в ванную - совмещенный санузел, видавший лучшие дни. Стены покрывал голубой кафель в трещинах, на полу возле унитаза щетинилась окурками банка из-под кофе. Стена над пожелтевшей ванной была выложена зеркальной плиткой: мутной от прикосновений и засохших мыльных капель, испещренной полустертыми наклейками с американскими женщинами в купальниках.
Удивившись неожиданному следу былой роскоши, Алина покрутила кран, дождалась, чтобы протекла ржавая вода, и помыла руки без мыла - его поблизости не оказалось.
- Пошли в зал. На кухне воняет, - сонно сказала Карина, когда Алина вышла из ванной.
Зал выглядел бедно, но опрятно. Мебели было мало: двуспальная кровать, накрытая пледом с тигром, изодранный кошками диван и покосившийся платяной шкаф. На подоконнике, за пеленой сероватого тюля стоял магнитофон, возле него горкой были свалены кассеты. Алина села на диван, хоть тот и не выглядел чистым.
Сестры Крамер оказались на удивление честными. Они даже не пытались скрывать то, что и так было очевидно. Августа сидела на винте, о чем говориле её поблескивающие, черные от зрачков глаза - она курила трясущимися пальцами по несколько пачек в день и спала лишь тогда, когда заканчивался винт. Карина тоже торчала, но успела перейти на героин. В её голубых глазах с трудом можно было разглядеть зрачки, на ничего не выражающем лице печально изгибались губы. Алина не спрашивала, каким образом сестры Крамер зарабатывают на жизнь, но была уверена, что заработки эти нелегальные.
Обычно проявления наркомании вызвали у Алины брезгливость, но в квартиру сестер её неудержимо тянуло. Она ходила к ним в гости, словно в кунсткамеру. Ей казалось, будто она наблюдает добровольный, донельзя замедленный прыжок в могильную яму.
Сестры не стеснялись Алины. Иногда Августа ставилась при ней в исколотые руки, покрытые красной сыпью и желтеющими синяками, а затем сразу же впадала в оживленное состояние. Карина меланхолично варила героин в закопченной ложке, медленно вводила раствор в вену, закусив обветренную губу, и откидывалась на спинку дивана, чтобы погрузиться в вязкую дрему. Исполненная радости, Августа включала магнитофон и хаотично танцевала под бодрые популярные песни. Иногда Алина ставила свои кассеты и наблюдала, как Августа танцует под “Агату Кристи”, “Крематорий” или Линду. Карина дремала на диване, на полу валялись её стоптанные тапочки. Возбужденная Августа рвано покачивала корпусом, не в такт шевелила руками, хаотично топталась на месте, делая шаги то вправо, то влево. Надрывно играла музыка, скрипел дощатый пол, бился об серебристую майку кулон с голографическим глазом. Алина сидела справа от спящей Карины и изучала Августу оценивающим взглядом. Она понимала, что может задушить сначала Августу, а потом и Карину. После этого она могла спокойно уйти.
“Если я это сделаю, никто не будет меня искать, - рассуждала Алина, хищно улыбась Августе в овет. - Подумают на маньяка или барыгу…”
Натанцевавшись до одышки, раскрасневшаяся Августа садилась рядом с Алиной и пускалась в долгие рассказы о своих снах, неадекватных мужчинах, которые встречались ей на жизненном пути, и прочитанных любовных романах. Алина молча улыбалась и слушала - Августе этого было более чем достаточно.
Когда Августа начинала заинтересованно поглядывать на Алину и как бы невзначай прикасаться к ней, та вежливо ссылалась на неотложные дела и уходила, испытывая при этом легкое злорадство. Она вела здоровый образ жизни, но знала, как действует винт. Впрочем, была и другая причина, из-за которой Алина не желала сталкиваться с похотью Августы. Живые люди, - и мужчины, и женщины, - не вызывали у нее ничего, кроме скуки. Идеальным партнером она считала любого мертвого брюнета в очках: Герберта Уэста из "Реаниматора", Дэвида Самнера из "Соломенных псов", Игона Шпенглера из "Охотников за привидениями"… И хотя в фильмах эти персонажи не умирали, Алина легко могла представить такой поворот событий. Герберта Уэста убивало обезглавленное тело доктора Хилла, в Дэвида Самнера стреляли на охоте неприветливые жители английского городка, а Игон Шпенглер становился жертвой ограбления и истекал кровью в темном переулке. Все эти образы действовали на Алину гипнотически, вызывая нарастающее волнение в солнечном сплетении.
Месяцы сменяли друг друга, как кадры диафильма, осыпая Павлозаводск холодной снежной крупой, оглашая воздух хрустальным звоном капели, расползаясь по нагревшейся почве узлами сорняков. Пока Алина училась и работала, сестры Крамер всё сильнее погружались на дно. Алина продолжала ходить к ним в гости, представляя удушение сначала Августы, а затем и Карины, но со временем болезненное любопытство стало сменяться отвращением. Если раньше Алина наблюдала за сестрами Крамер, как за трупом собаки, который медленно разлагался в кустах дачного поселка, то теперь метафорический труп сестер разбух и был близок к тому, чтобы превратиться в дурно пахнущее месиво. Следы от уколов на руках сестер стали гноящимися ранами, с которых они, чтобы уколоться еще раз, сдирали коросту. На землистых лицах разбухали красные прыщи, кожа липла к ребрам, как влажная бумага.
Несвежих мертвецов Алина не любила. Когда Августа вскрыла пах, Алина перестала навещать сестер. Те в свою очередь даже не позвонили ей, чтобы проверить, в порядке ли она. Ничего неожданного в этом не было.
Всякий раз, когда Алина шла после смены на автобусную остановку и пересекала двор, где сестры до сих пор снимали квартиру, она видела свет в их окнах, видела, как шевелятся за грязным тюлем знакомые силуэты. От сестер Крамер остались лишь туманные грезы о двух наркоманках, задушенных бельевой веревкой в грязной съемной квартире, перекинутых через бортик ванной, над которой отражались в зеркальной плитке черное платье Алины, широкий лакированный пояс и темный от помады рот. Под неподвижным слоем воды виднелась пара затылков с белыми волосами, в каждый из них впивалась рука в кожаной перчатке, похожая на паука. Волосы неспешно колыхались, будто речные водоросли.
Спустя год Алина окончила музучилище. Она не сменила место работы, оставшись в киоске, но сменила место жительства, переехав в квартиру на улице Матросова. В те годы улица Матросова, соседствующая с промзоной, была известна среди гулящих мужчин Павлозаводска тем, что там можно было дешево снять проститутку. Ярко накрашенные, одетые даже зимой в короткие юбки, они стояли по обе стороны дороги - на узком тротуаре возле проходной закрывшегося завода и на пятачке около труб теплотрассы. Трубы напоминали серебристых гусениц, кое-где из-под металла торчали клочья стекловаты.
Увидев однажды на пятачке Августу, Алина ничуть не удивилась - этого следовало ожидать. Удивило её, впрочем, состояние Августы. У той не было левой ноги, и передвигалась Августа, наваливаясь на деревянные костыли. Возможно, отстутствие ноги поднимало цену Августы, компенсируя её нетоварный внешний вид: излишне костлявое телосложение, землисто-серое лицо и потускневший взгляд. Кожаная куртка, леопардовая мини-юбка, под которой скрывалась культя, и голубая туфля напомнили Алине измятый конфетный фантик.
“Снять бы ее и задушить в лесополосе, - отрешенно подумала Алина. - Она от меня не убежит, с одной-то ногой…".
Но женщина, снимающая проститутку, привлекла бы слишком много внимания, так что Алина быстро забыла об этой идее.
Августа и Карина поочередно умерли от передозировки, не дожив до миллениума. Об этом Алина узнала от родителей Августы, которые до сих пор проживали в Матросовском микрорайоне и тихо спивались. Вслед за сестрами Крамер умерла и эпоха, которая их породила, а Алина вышла замуж и нашла более спокойную работу, став учительницей музыки в школе №24, где могла безнаказанно проявлять свои садистские наклонности. С возрастом они лишь усугубились.
Вернувшись с набережной домой, Алина Емельяновна перетащила в подпол труп девочки, которую она утопила в накатывающих речных волнах. На штативе моргнула красным видеокамера. Переодев коченеющий труп в пионерскую форму, Алина Емельяновна уложила его на голубую клеенку с ромашками и расстегнула на нем белоснежную рубашку. Полы рубашки лежали на прохладных руках мертвой девочки, показывая бледному свету лампы впалый живот, мягко очерченные ребра и небольшую грудь. На бледной коже синели трупные пятна.
Алина Емельяновна достала из серванта поварской нож. Резким движением вспоров мягкий живот, она запустила руки в брюшную полость, в скользкое, серовато-розовое сплетение кишок. Остаточное тепло чувствовалось даже через медицинские перчатки. Алина Емельяновна потеряла счет времени. Сидя на коленях возле трупа, она по-паучьи двигала пальцами, ощупывая петли кишечника, беззвучно шевелила пересохшими губами, ползала сонным взглядом по вскрытому животу. Кожу вокруг разреза пятнали темные мазки сгустившейся крови. В слизистых тканях мелкой россыпью бликов отражался бледный свет лампы.
Наконец Алина Емельяновна пришла в себя. Вытерев грязные перчатки об расстегнутую рубашку девочки, она встала. Хрустнули затекшие колени. Алина Емельяновна взяла с полки серванта "полароид". На стол под лестницей один за другим ложились снимки: худые ноги в белых гольфах и лакированных ботинках, бледное лицо с цианозно-синими губами, вскрытая брюшная полость с клубком кишок…
Когда Алина Емельяновна подвесила труп в петле, одна из кишок выпала наружу и улеглась на клеенке аккуратным завитком. Щелкал затвор “полароида”, поблескивали на столе фотографии. Ноги девочки отбрасывали на пол острые тени.
Испробовав все возможные ракурсы, Алина Емельяновна начала мумификацию. Через рваный разрез в животе она извлекла остывшие органы. Те с чавкающим звуком упали в подставленное ведро. Небольшим топором Алина Емельяновна отсекла трупу правую руку, оставив лишь огрызок плеча, пронумеровала её через трафарет и привязала к ней траурной лентой искусственную гвоздику.
Через два часа мумия была готова. Завернув отрубленную руку в старый выпуск "Звезды Павлозаводска", Алина Емельяновна села в машину и вновь поехала на набережную. Впрочем, ехать до благоустроенной части набережной ей не хотелось. Не интересовала её и старая набережная, главной достопримечательностью которой было трехэтажное заброшенное здание - когда-то давно оно должно было стать то ли особняком, то ли детским кафе. Теперь там обитали подростки: на первом этаже, скрытом за густыми кустами, неформалы пили алкоголь, купленный в ближайшей пивной без названия, а в подвале собирались начинающие сатанисты - они жгли костры, расписывали стены эзотерическими символами и убивали кошек. Это заброшенное здание могло бы стать хорошим местом убийства, но подкидывать туда останки задушенной жертвы было бессмысленно – неблагополучные подростки, которые обычно посещали это место, вряд ли обратились бы в полицию, чтобы не объяснять взрослым, что они вообще там забыли.
Поэтому Алина Емельяновна поехала в самую крайнюю точку набережной – Речной вокзал. В теплое время года там можно было купить билет на белый теплоход советского производства, украшенный разноцветными флажками, и отправиться в речную прогулку по Ертысу. В прошлом веке, когда Ертыс еще не обмелел, там можно было купить билет на быстроходный теплоход "Ракета" и за десять часов добраться до Омска.
Припарковавшись у здания вокзала, Алина Емельяновна обошла его и оказалась на причале. По бокам выстроились темные киоски с фастфудом и кофе, закрытая закусочная и тир. Чуть в стороне виднелся приземистый, ярко раскрашенный контейнер с вывеской "7D-кинотеатр". Передний край причала занимали деревянные скамейки и кованое дерево, на которое обычно вешали замки и ленточки молодожены. В центе причала сидела на камне бронзовая русалка с ракушками на груди. Если с русалкой фотографировалась молодежь, они обычно хватали её за грудь – и парни, и девушки. Два раза памятник таинственным образом воровали. Первый вариант русалки, целомудренно одетый в бюстгальтер, так и не нашли. Второй вариант, с ракушками, обнаружили через несколько дней в старой части набережной и вернули на место.
Подойдя к русалке, Алина Емельяновна положила отрубленную руку ей на колени. Русалка загадочно улыбалась и смотрела сквозь Алину Емельяновну чуть раскосыми глазами.
Ночь выдалась хлопотная. Уставшая, но полная впечатлений, Алина Емельяновна не могла уснуть. Шторы с васильками были плотно задернуты. Над кроватью темнела в фоторамке кровь Фишера на носовом платке. Алина Емельяновна, освещенная мягким светом настенной лампы, полулежала в кровати под мягким одеялом. У неё в ногах спала, свернувшись полосатым клубком, Мурка. Мечтательно улыбаясь, Алина Емельяновна неспешно перебирала полароидные снимки, на которых была запечатлена её двуспальная кровать, застеленная коричневым пледом с белыми бутонами. На пледе, повторяя силуэт человеческого тела, лежали отбеленные кости Максима Пряникова, присыпанные лепестками тигровых лилий и красных роз из огорода. Рядом со скелетом, восторженно улыбаясь в камеру, лежала Алина Емельяновна в черной кружевной блузке. Она прижимала к груди берцовые кости Пряникова, загадочно косилась на его желтовато-белый череп, целовала его в твердые зубы, отбеленные перекисью водорода…
Наконец подступила дремота. Алина Емельяновна аккуратно сложила фотографии в конверт и спрятала его под подушку. Погас свет. Алина Емельяновна закрыла глаза. Перед веками замельтешили обрывки снов и непрошеные мысли. Если бы Алина Емельяновна умела бальзамировать людей, сохраняя их прижизненную красоту или хотя бы красоту первых посмертных минут, можно было бы постараться и все-таки умертвить Фишера, пока тот не повзрослел окончательно. Однако ничего из этого Алина Емельяновна сделать не могла. В подполе труп Фишера хранился бы максимум день. В старом холодильнике "Бирюса", который сейчас пылился на чердаке, он сохранял бы свою красоту чуть дольше – несколько дней. Холодильник морга мог продлить этот срок до нескольких месяцев. Итог оставался неизменным: если бы Алина Емельяновна задушила Фишера, он бы неизбежно разложился и скелетировался, уместившись, как и Максим Пряников, в шляпную коробку. Все эти варианты Алину Емельяновну не устраивали. Не стоило убивать такого интересного мужчину ради нескольких месяцев с его ледяным трупом. Нескольких месяцев было недостаточно.
Труп Фишера, втиснутый в холодильник “Бирюса”, скрылся под волной сновидений. Стайка девочек в коричневой школьной форме наваливалась на кого-то, кого Алина Емельяновна не могла рассмотреть. Глаза девочек хищно горели желтым, на темных косах вязко звенели бубенчики. В жирном черноземе дергались отрубленные куриные лапы, на кухонном столе сохли кошачьи хребты. Алину Емельяновну не покидало чувство, будто на неё медленно опрокидывается пасмурное осеннее небо.
Обычно проявления наркомании вызвали у Алины брезгливость, но в квартиру сестер её неудержимо тянуло. Она ходила к ним в гости, словно в кунсткамеру. Ей казалось, будто она наблюдает добровольный, донельзя замедленный прыжок в могильную яму.
Сестры не стеснялись Алины. Иногда Августа ставилась при ней в исколотые руки, покрытые красной сыпью и желтеющими синяками, а затем сразу же впадала в оживленное состояние. Карина меланхолично варила героин в закопченной ложке, медленно вводила раствор в вену, закусив обветренную губу, и откидывалась на спинку дивана, чтобы погрузиться в вязкую дрему. Исполненная радости, Августа включала магнитофон и хаотично танцевала под бодрые популярные песни. Иногда Алина ставила свои кассеты и наблюдала, как Августа танцует под “Агату Кристи”, “Крематорий” или Линду. Карина дремала на диване, на полу валялись её стоптанные тапочки. Возбужденная Августа рвано покачивала корпусом, не в такт шевелила руками, хаотично топталась на месте, делая шаги то вправо, то влево. Надрывно играла музыка, скрипел дощатый пол, бился об серебристую майку кулон с голографическим глазом. Алина сидела справа от спящей Карины и изучала Августу оценивающим взглядом. Она понимала, что может задушить сначала Августу, а потом и Карину. После этого она могла спокойно уйти.
“Если я это сделаю, никто не будет меня искать, - рассуждала Алина, хищно улыбась Августе в овет. - Подумают на маньяка или барыгу…”
Натанцевавшись до одышки, раскрасневшаяся Августа садилась рядом с Алиной и пускалась в долгие рассказы о своих снах, неадекватных мужчинах, которые встречались ей на жизненном пути, и прочитанных любовных романах. Алина молча улыбалась и слушала - Августе этого было более чем достаточно.
Когда Августа начинала заинтересованно поглядывать на Алину и как бы невзначай прикасаться к ней, та вежливо ссылалась на неотложные дела и уходила, испытывая при этом легкое злорадство. Она вела здоровый образ жизни, но знала, как действует винт. Впрочем, была и другая причина, из-за которой Алина не желала сталкиваться с похотью Августы. Живые люди, - и мужчины, и женщины, - не вызывали у нее ничего, кроме скуки. Идеальным партнером она считала любого мертвого брюнета в очках: Герберта Уэста из "Реаниматора", Дэвида Самнера из "Соломенных псов", Игона Шпенглера из "Охотников за привидениями"… И хотя в фильмах эти персонажи не умирали, Алина легко могла представить такой поворот событий. Герберта Уэста убивало обезглавленное тело доктора Хилла, в Дэвида Самнера стреляли на охоте неприветливые жители английского городка, а Игон Шпенглер становился жертвой ограбления и истекал кровью в темном переулке. Все эти образы действовали на Алину гипнотически, вызывая нарастающее волнение в солнечном сплетении.
Месяцы сменяли друг друга, как кадры диафильма, осыпая Павлозаводск холодной снежной крупой, оглашая воздух хрустальным звоном капели, расползаясь по нагревшейся почве узлами сорняков. Пока Алина училась и работала, сестры Крамер всё сильнее погружались на дно. Алина продолжала ходить к ним в гости, представляя удушение сначала Августы, а затем и Карины, но со временем болезненное любопытство стало сменяться отвращением. Если раньше Алина наблюдала за сестрами Крамер, как за трупом собаки, который медленно разлагался в кустах дачного поселка, то теперь метафорический труп сестер разбух и был близок к тому, чтобы превратиться в дурно пахнущее месиво. Следы от уколов на руках сестер стали гноящимися ранами, с которых они, чтобы уколоться еще раз, сдирали коросту. На землистых лицах разбухали красные прыщи, кожа липла к ребрам, как влажная бумага.
Несвежих мертвецов Алина не любила. Когда Августа вскрыла пах, Алина перестала навещать сестер. Те в свою очередь даже не позвонили ей, чтобы проверить, в порядке ли она. Ничего неожданного в этом не было.
Всякий раз, когда Алина шла после смены на автобусную остановку и пересекала двор, где сестры до сих пор снимали квартиру, она видела свет в их окнах, видела, как шевелятся за грязным тюлем знакомые силуэты. От сестер Крамер остались лишь туманные грезы о двух наркоманках, задушенных бельевой веревкой в грязной съемной квартире, перекинутых через бортик ванной, над которой отражались в зеркальной плитке черное платье Алины, широкий лакированный пояс и темный от помады рот. Под неподвижным слоем воды виднелась пара затылков с белыми волосами, в каждый из них впивалась рука в кожаной перчатке, похожая на паука. Волосы неспешно колыхались, будто речные водоросли.
Спустя год Алина окончила музучилище. Она не сменила место работы, оставшись в киоске, но сменила место жительства, переехав в квартиру на улице Матросова. В те годы улица Матросова, соседствующая с промзоной, была известна среди гулящих мужчин Павлозаводска тем, что там можно было дешево снять проститутку. Ярко накрашенные, одетые даже зимой в короткие юбки, они стояли по обе стороны дороги - на узком тротуаре возле проходной закрывшегося завода и на пятачке около труб теплотрассы. Трубы напоминали серебристых гусениц, кое-где из-под металла торчали клочья стекловаты.
Увидев однажды на пятачке Августу, Алина ничуть не удивилась - этого следовало ожидать. Удивило её, впрочем, состояние Августы. У той не было левой ноги, и передвигалась Августа, наваливаясь на деревянные костыли. Возможно, отстутствие ноги поднимало цену Августы, компенсируя её нетоварный внешний вид: излишне костлявое телосложение, землисто-серое лицо и потускневший взгляд. Кожаная куртка, леопардовая мини-юбка, под которой скрывалась культя, и голубая туфля напомнили Алине измятый конфетный фантик.
“Снять бы ее и задушить в лесополосе, - отрешенно подумала Алина. - Она от меня не убежит, с одной-то ногой…".
Но женщина, снимающая проститутку, привлекла бы слишком много внимания, так что Алина быстро забыла об этой идее.
Августа и Карина поочередно умерли от передозировки, не дожив до миллениума. Об этом Алина узнала от родителей Августы, которые до сих пор проживали в Матросовском микрорайоне и тихо спивались. Вслед за сестрами Крамер умерла и эпоха, которая их породила, а Алина вышла замуж и нашла более спокойную работу, став учительницей музыки в школе №24, где могла безнаказанно проявлять свои садистские наклонности. С возрастом они лишь усугубились.
Вернувшись с набережной домой, Алина Емельяновна перетащила в подпол труп девочки, которую она утопила в накатывающих речных волнах. На штативе моргнула красным видеокамера. Переодев коченеющий труп в пионерскую форму, Алина Емельяновна уложила его на голубую клеенку с ромашками и расстегнула на нем белоснежную рубашку. Полы рубашки лежали на прохладных руках мертвой девочки, показывая бледному свету лампы впалый живот, мягко очерченные ребра и небольшую грудь. На бледной коже синели трупные пятна.
Алина Емельяновна достала из серванта поварской нож. Резким движением вспоров мягкий живот, она запустила руки в брюшную полость, в скользкое, серовато-розовое сплетение кишок. Остаточное тепло чувствовалось даже через медицинские перчатки. Алина Емельяновна потеряла счет времени. Сидя на коленях возле трупа, она по-паучьи двигала пальцами, ощупывая петли кишечника, беззвучно шевелила пересохшими губами, ползала сонным взглядом по вскрытому животу. Кожу вокруг разреза пятнали темные мазки сгустившейся крови. В слизистых тканях мелкой россыпью бликов отражался бледный свет лампы.
Наконец Алина Емельяновна пришла в себя. Вытерев грязные перчатки об расстегнутую рубашку девочки, она встала. Хрустнули затекшие колени. Алина Емельяновна взяла с полки серванта "полароид". На стол под лестницей один за другим ложились снимки: худые ноги в белых гольфах и лакированных ботинках, бледное лицо с цианозно-синими губами, вскрытая брюшная полость с клубком кишок…
Когда Алина Емельяновна подвесила труп в петле, одна из кишок выпала наружу и улеглась на клеенке аккуратным завитком. Щелкал затвор “полароида”, поблескивали на столе фотографии. Ноги девочки отбрасывали на пол острые тени.
Испробовав все возможные ракурсы, Алина Емельяновна начала мумификацию. Через рваный разрез в животе она извлекла остывшие органы. Те с чавкающим звуком упали в подставленное ведро. Небольшим топором Алина Емельяновна отсекла трупу правую руку, оставив лишь огрызок плеча, пронумеровала её через трафарет и привязала к ней траурной лентой искусственную гвоздику.
Через два часа мумия была готова. Завернув отрубленную руку в старый выпуск "Звезды Павлозаводска", Алина Емельяновна села в машину и вновь поехала на набережную. Впрочем, ехать до благоустроенной части набережной ей не хотелось. Не интересовала её и старая набережная, главной достопримечательностью которой было трехэтажное заброшенное здание - когда-то давно оно должно было стать то ли особняком, то ли детским кафе. Теперь там обитали подростки: на первом этаже, скрытом за густыми кустами, неформалы пили алкоголь, купленный в ближайшей пивной без названия, а в подвале собирались начинающие сатанисты - они жгли костры, расписывали стены эзотерическими символами и убивали кошек. Это заброшенное здание могло бы стать хорошим местом убийства, но подкидывать туда останки задушенной жертвы было бессмысленно – неблагополучные подростки, которые обычно посещали это место, вряд ли обратились бы в полицию, чтобы не объяснять взрослым, что они вообще там забыли.
Поэтому Алина Емельяновна поехала в самую крайнюю точку набережной – Речной вокзал. В теплое время года там можно было купить билет на белый теплоход советского производства, украшенный разноцветными флажками, и отправиться в речную прогулку по Ертысу. В прошлом веке, когда Ертыс еще не обмелел, там можно было купить билет на быстроходный теплоход "Ракета" и за десять часов добраться до Омска.
Припарковавшись у здания вокзала, Алина Емельяновна обошла его и оказалась на причале. По бокам выстроились темные киоски с фастфудом и кофе, закрытая закусочная и тир. Чуть в стороне виднелся приземистый, ярко раскрашенный контейнер с вывеской "7D-кинотеатр". Передний край причала занимали деревянные скамейки и кованое дерево, на которое обычно вешали замки и ленточки молодожены. В центе причала сидела на камне бронзовая русалка с ракушками на груди. Если с русалкой фотографировалась молодежь, они обычно хватали её за грудь – и парни, и девушки. Два раза памятник таинственным образом воровали. Первый вариант русалки, целомудренно одетый в бюстгальтер, так и не нашли. Второй вариант, с ракушками, обнаружили через несколько дней в старой части набережной и вернули на место.
Подойдя к русалке, Алина Емельяновна положила отрубленную руку ей на колени. Русалка загадочно улыбалась и смотрела сквозь Алину Емельяновну чуть раскосыми глазами.
Ночь выдалась хлопотная. Уставшая, но полная впечатлений, Алина Емельяновна не могла уснуть. Шторы с васильками были плотно задернуты. Над кроватью темнела в фоторамке кровь Фишера на носовом платке. Алина Емельяновна, освещенная мягким светом настенной лампы, полулежала в кровати под мягким одеялом. У неё в ногах спала, свернувшись полосатым клубком, Мурка. Мечтательно улыбаясь, Алина Емельяновна неспешно перебирала полароидные снимки, на которых была запечатлена её двуспальная кровать, застеленная коричневым пледом с белыми бутонами. На пледе, повторяя силуэт человеческого тела, лежали отбеленные кости Максима Пряникова, присыпанные лепестками тигровых лилий и красных роз из огорода. Рядом со скелетом, восторженно улыбаясь в камеру, лежала Алина Емельяновна в черной кружевной блузке. Она прижимала к груди берцовые кости Пряникова, загадочно косилась на его желтовато-белый череп, целовала его в твердые зубы, отбеленные перекисью водорода…
Наконец подступила дремота. Алина Емельяновна аккуратно сложила фотографии в конверт и спрятала его под подушку. Погас свет. Алина Емельяновна закрыла глаза. Перед веками замельтешили обрывки снов и непрошеные мысли. Если бы Алина Емельяновна умела бальзамировать людей, сохраняя их прижизненную красоту или хотя бы красоту первых посмертных минут, можно было бы постараться и все-таки умертвить Фишера, пока тот не повзрослел окончательно. Однако ничего из этого Алина Емельяновна сделать не могла. В подполе труп Фишера хранился бы максимум день. В старом холодильнике "Бирюса", который сейчас пылился на чердаке, он сохранял бы свою красоту чуть дольше – несколько дней. Холодильник морга мог продлить этот срок до нескольких месяцев. Итог оставался неизменным: если бы Алина Емельяновна задушила Фишера, он бы неизбежно разложился и скелетировался, уместившись, как и Максим Пряников, в шляпную коробку. Все эти варианты Алину Емельяновну не устраивали. Не стоило убивать такого интересного мужчину ради нескольких месяцев с его ледяным трупом. Нескольких месяцев было недостаточно.
Труп Фишера, втиснутый в холодильник “Бирюса”, скрылся под волной сновидений. Стайка девочек в коричневой школьной форме наваливалась на кого-то, кого Алина Емельяновна не могла рассмотреть. Глаза девочек хищно горели желтым, на темных косах вязко звенели бубенчики. В жирном черноземе дергались отрубленные куриные лапы, на кухонном столе сохли кошачьи хребты. Алину Емельяновну не покидало чувство, будто на неё медленно опрокидывается пасмурное осеннее небо.
