2018-2019
Павлодар-петербург-медельин
Павлодар-петербург-медельин
Производственный роман
Оглавление
ЧАСТЬ I
Но страннее всего происшествия, случающиеся на Невском проспекте. О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется! Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде.
Н. В. Гоголь, «Невский проспект»
Н. В. Гоголь, «Невский проспект»
Глава 1
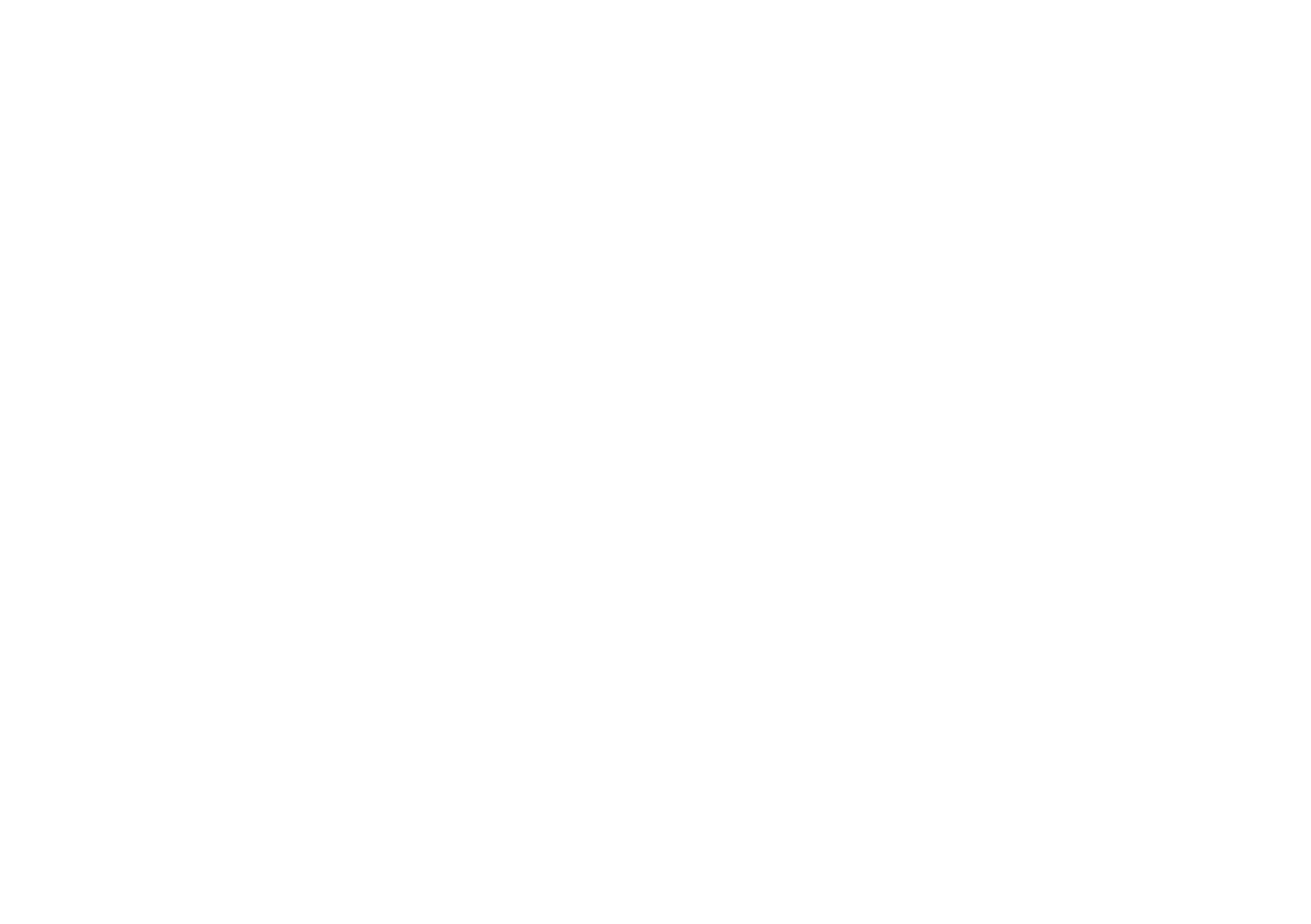
Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень.
Ф. М. Достоевский, «Записки из подполья»
Ф. М. Достоевский, «Записки из подполья»
июнь, 2030 год
В одну из теплых июньских суббот в помещение Балтийского вокзала неторопливо вошел молодой человек девятнадцати лет. Проходя через выключенную рамку металлоискателя, он даже не поставил на ленту сканера пятикилограммовый черный рюкзак, в котором, приглядевшись, можно было узнать жесткий кофр для баяна.
В лучшие времена его можно было назвать привлекательным – обладатели подобных лиц годам к тридцати обычно превращаются из вечных мальчишек в мужчин интеллигентного вида, однако сейчас времена были не лучшие. На курносом носу зрел розовый прыщ с белой сердцевиной, ввалившиеся щеки придавали овалу лица некоторую грубость, которой прежде не было, а под глубоко посаженными карими глазами темнели бледно-фиолетовые синяки, следы постоянного недосыпа. В тени высоких скул и на подбородке виднелись красноватые кластеры мелкой сыпи. Отталкивающее впечатление усугубляла врожденная кисло-озлобленная мина – неуловимая печать, оставленная то ли не очень сытым провинциальным детством, то ли склонностью нарушать закон как уголовно, так и административно. Косой пробор делил густые, но жесткие светлые волосы на две неравные части, одна из которых, более длинная, была зачесана назад. Пять минут назад молодой человек - на голову выше среднего роста, нескладный фигурой и худой, как палочник - приехал на электричке, следующей через Новый Петергоф. Звали его Матвей Грязев.
Вокзальные часы, появившиеся вместе с вокзалом и сохранившиеся до сих пор, белели на фоне синеватых стекол полукруглого витража, который нависал над Матвеем, и показывали полдень. Матвей не видел их, потому что стоял к ним спиной, но хорошо понимал, сколько сейчас времени. Приезжать сюда днем он не любил - слишком уж мало было людей: те, кто по утрам ездил в Петербург на работу, уже морально готовились к обеденному перерыву, а те, кому ездить на работу было не нужно, только просыпались. Нахмурившись, Матвей окинул взглядом вокзал, напоминающий скорее торговый центр. Слева от металлоискателя, в самом углу, прятался от человеческого потока газетный киоск. Краем глаза Матвей видел за прилавком равнодушную женщину лет сорока, сонно клюющую носом над портативным радио, а краем уха улавливал бодрую мелодию, которой было больше двадцати лет.
Там цветут цветы и сладкие ночи,
Там твои, мои, любые мечты...
Петербуржцы и приезжие, которых угораздило оказаться здесь в такой час, перемещались между билетными кассами, ларьками с едой, расположенными по периметру помещения, и залом ожидания, словно деловитые черные муравьи, огибали длинный прямоугольник фонтана, находящийся в самом центре. В обрамлении чернильного мрамора дрожала огненно-прозрачная водная гладь, подсвеченная со дна яркими лампами, а из массивного черного куба вырвались струи, они изгибались крутой дугой и разбивались об трепещущую поверхность воды. Мягкое журчание фонтана сливалось с гулким эхом человеческих голосов и приглушенным грохотом Петербурга, который доносился с привокзальной площади и из утробы метро. Официальные вывески и объявления повторялись на английском, вывески некоторых частных заведений – еще и на китайском, что, по мнению Матвея, было излишне: китайские туристы вряд ли могли появиться на вокзале, уехать с которого можно было только в пригород.
По ту сторону фонтана, над турникетами, горело зеленым табло отправления поездов, а над ним мерцали голографические портреты святой троицы советского пантеона: настоящий человек Маресьев, лишившийся в великой отечественной обеих ног, юная висельница Космодемьянская и асур от атеизма Аркадий Гайдар. Справа от табло, возле входа в столовую лениво прохаживался из стороны в сторону казачий патруль – один приказный и два рядовых казака, одетые в зеленые кафтаны, доходящие до колен, и черные шаровары с зелеными лампасами. Над двумя фуражками и одной кубанкой, под самым потолком жужжала едва различимая точка дрона.
Взгляд Матвея скользнул по прозрачной витрине с сувенирами, пункту обмена валют, где можно было обменять рубли на доллары, евро или юани, и наконец остановился на оранжевом киви-терминале. Улыбнувшись уголками рта, Матвей достал из кармана джинсов купюру в тысячу рублей и подошел к терминалу. Можно было задаться вопросом, какую цель преследует болезненно худой молодой человек и кому он собирается переводить деньги, и это было бы совсем не глупо – у него могла быть на это масса причин. Но задаваться вопросом, кому собирается переводить деньги молодой человек, руки которого до самых запястий скрывают длинные рукава, под клетчатой рубашкой которого виднеется черная футболка с надписью «Россия живет скоростями», не имеющая к РЖД никакого отношения, было бы уже излишне.
Пока Матвей, закусив губу, выстукивал на экране терминала нужный номер, его заметил приказный Епифанов, патрулирующий вокзал. Это был щуплый, но важный мужчина лет сорока с бронзово-желтым загаром, полученным на берегу Черного моря, жидкими усами и красными погонами с одной лычкой. Поигрывая свернутой в петлю нагайкой, которую он держал в левой руке, приказный Епифанов довольно ощерился, отделился от патруля и, поскрипывая начищенными сапогами, непринужденно зашагал в сторону Матвея. Поглощенный делом, которое сейчас было для него намного важнее приказного, вокзала и Петербурга вообще, Матвей заметил приближающийся зеленый кафтан лишь тогда, когда купюра исчезла в приемнике терминала.
- Привет, Грязев, - сказал Епифанов, похлопав Матвея по спине, - рано ты сегодня.
- Так уж вышло, - пожал плечами Матвей. Голос у него был гнусавый и немного отрешенный, а говорил Матвей резковато, обрубая фразу в самом конце. Торопливо запустив руку в карман, он протянул Епифанову пятьсот рублей – засаленные сотенные купюры. Удовлетворенно кивнув, тот сжал деньги в загорелом кулаке и отошел от Матвея, как ни в чем не бывало, будто и не было скупого обмена репликами. Матвей покосился на торчащий из терминала чек. Взвесив все за и против, он на всякий случай убрал его в нагрудный карман рубашки. Платежи не всегда проходили гладко, и лучше было подстраховаться, хоть многие и не считали чек об оплате весомым доказательством. К счастью, Лариса была не из таких. С ней можно было договориться.
Надеясь, что Лариса сдержит обещание и выйдет из дома сразу же, как до нее дойдет платеж, Матвей уселся на широкий бортик фонтана и ощутил сквозь джинсы прохладу влажного мрамора. Стоически поморщившись, он поставил перед собой открытый и совершенно пустой кофр, продел руки под кожаные ремни баяна и медленно растянул меха. Перламутрово-синий баян, доставшийся Матвею от отца, издал тоскливый протяжный стон.
На Балтийском вокзале Матвей играл уже полгода, с тех пор, как его уволили с должности официанта. В хорошие дни, которые наступали редко, но приносили с собой душевную и телесную радость, Матвей зарабатывал вплоть до четырех тысяч рублей. Найти его на вокзале можно было с пяти до восьми вечера, и за эти три часа Матвей каждый день платил по пятьсот рублей казачьему патрулю, который, получив деньги и заключив негласный договор, обязывался защищать одинокого музыканта от нетрезвых личностей и просто агрессивных хулиганов. Закон на территории Балтийского вокзала был довольно эфемерным понятием, потому что снаружи время от времени парковались разных марок автомобили с тонированными стеклами, из которых продавали героин. Это был общеизвестный факт, и автомобили стояли у привокзальной площади по полчаса, притягивая к себе не самых радостных и не самых опрятных людей, чей вид красноречиво говорил сам за себя, однако казачьи патрули и полицейские, проезжающие мимо в черных бобиках, тактично делали вид, что это не в их компетенции.
Длинная стрелка часов неумолимо медленно отсчитывала минуты. Деньги в кофр кидали неохотно. Меха сжимались и разжимались, словно тельце гусеницы, блестела черно-белая россыпь клавиш, по которой быстро бегали то вверх, то вниз татуированные пальцы Матвея. На пальцах его правой руки, начиная с указательного и заканчивая мизинцем, виднелись неказистые черные татуировки, набитые спонтанно в гостях у малознакомых людей: алхимический символ Сатурна, знак, которым подписывал свои письма серийник Зодиак, астрологический символ Черной Луны и звезда Хаоса. Притопывая в такт переливам аккордов ногой, обутой в порванную кроссовку, Матвей давил на гладкие пуговки клавиш. Репертуар у него был широкий: от русских народных песен и романсов Вертинского, выученных еще в школе при помощи учительницы музыки, до поп-хитов нулевых и блатняка, которые он подбирал уже сам и на слух. Растягивая меха баяна, Матвей искал взглядом Ларису, которая должна была подойти два часа назад. Ему не терпелось сменить инструмент. Однако Ларисы не было, настроение Матвея с каждой секундой становилось все мрачнее, и «Хоп, мусорок» плавно сменилась «Кольщиком».
Матвей родился и вырос в Мордовии, под Саранском. Его малая родина, город Офтонь, мог похвастать градообразующим алюминиевым заводом и населением в восемь тысяч человек. Воспитывала его Елена Алексеевна Грязева, надломленного телосложения женщина, которая почти все время страдала от головной боли неясного генеза и заглушала ее травяными настойками, святой водой и молитвами. Их приземистый частный дом с огородом и палисадником располагался в частном секторе, на окраине Офтони. Елена Алексеевна родила поздно, после тридцати, однако в заботе о Матвее уделяла внимание лишь первой ступени пирамиды Маслоу. Возможно, это было даже к лучшему. Иногда к ней в гости захаживала ее лучшая подруга – боевитая кассирша из «Пятерочки», которая приносила к чаю пряники и добродушно трепала Матвея по голове. Что касается отца, то формально у Матвея его не было. В свидетельстве о рождении вместо отца был указан прочерк, однако отчество все же присутствовало – Германович. Мать говорила, что это настоящее отчество. С пятого по одиннадцатый класс Матвей ходил в пришкольный музыкальный кружок, который вела учительница музыки, Вероника Николаевна. Его часто освобождали от занятий, когда на школьном мероприятии требовался музыкант, и происходило это довольно часто. Матвей пропускал уроки, играя в актовом зале на баяне, каждый год участвовал в «Русском медвежонке» и к своему положению относился флегматично.
Так и прошло его отрочество. Спокойно, почти без происшествий, если не считать примитивные наркоэксперименты, типичные для подростков с ограниченным бюджетом: мускатный орех, от земляного привкуса которого хотелось блевать еще во время приема, ипомея, от которой ровно через час тоже тянуло блевать – в этом случае организм Матвея работал, как часы - и разовая проба тропикамида в нос. Экспериментировал Матвей не один, а с приятелем по имени Глеб, беззлобным хулиганом, который был на четыре года старше. В общем-то, больше их ничего не связывало.
В одиннадцатом классе Матвей обрел какую-никакую, но все же самостоятельность. Во-первых, государство в обязательном порядке отправило выпускников на совершенно бесполезные курсы в автошколе, которые Матвей с горем пополам осилил и получил такие же бесполезные водительские права. Во-вторых, Матвей, озадаченный надвигающимся совершеннолетием, подсуетился, нашел подработку и купил белый билет. Как и следовало ожидать, призывник, страдающий от частых приступов мигрени с аурой, военкомату не понадобился. Девять лет назад минорно отгремели финальные аккорды вялотекущей сирийской войны, которая выплюнула на территорию России вереницу цинковых гробов, свежие надгробья средней паршивости, оплаченные государством, и молодых ветеранов с ПТСР, которые, конечно же, мало кому теперь были нужны. Резко изменившийся политический вектор новых войн пока не обещал, однако Матвей не расслаблялся и переселяться в два квадратных метра, если у родины вдруг случится приступ патриотической горячки, не желал.
Окончив школу, он уехал в Петербург - Северную Пальмиру, где архитектура имперской России смешалась со стеклом небоскребов, крупный портовый город и, как следствие, наркостолицу России. С собой Матвей взял отцовский баян и золотое кольцо матери. Сложно делать выбор, когда в одной стране налог на тунеядство, в другой затянувшаяся гражданская война, а в третьей поднимает голову православие, и Матвей выбрал меньшее из зол. Город встретил его Невским проспектом, искрящимся обелиском Лахта Центра и свинцово-темными каналами Невы, над которыми возвышалась Адмиралтейская игла.
Оборвав «Кольщика» на полуноте, Матвей нащупал кончиком языка дырку в зубе и ощутил легкий привкус железа. Радовало то, что этот зуб хотя бы снаружи выглядел здоровым, потому что от соседнего зуба остались только обломки. Матвей старался улыбаться не слишком широко, потому что останки больных зубов находились за левым клыком.
Вздохнув, Матвей высвободил правую руку. Настало время звонить Марату - уже в который раз. Марат был весьма неприятным типом, чудом дожившим до тридцати, и Матвей уже несколько месяцев его избегал. Почти все время тощий и желтоватый Марат, одетый в неизменные рваные джинсы и свитер на несколько размеров больше, или торчал дома, или валялся на диване, скрывшись от мира за очками виртуальной реальности, или совмещал первое занятие со вторым. Уже больше года он безответно любил Ладу – юную наркоманку и по совместительству вебкам-модель, которая еще не потеряла шарм и стойко удерживалась в рамках героинового шика, однако признаваться в чувствах ей даже не пытался, дуясь на весь свет, как мышь на крупу. Иногда Марата было очень тяжело понять. А еще Марат был барыгой, и Матвей задолжал ему шесть тысяч.
Если говорить точнее, Марат, отучившийся в свое время на фармацевта, был варщиком, получал с этого определенную выгоду и содержал притон, в котором собиралась крайне сомнительная публика. Варил Марат свежесть – удачную комбинацию эфедрина и флукортина, которую в неотбитом виде можно было найти в рецептурном антидепрессанте с поэтичным названием «Свежесть-32». Матвей варить не умел и в химии не разбирался даже на уровне школьной программы. Его мозги были насквозь гуманитарными.
Опытный Марат подбирал такие пропорции компонентов, что его свежесть била по голове, словно кувалда, обеспечивая от нескольких минут до нескольких часов полного невменоза. Добиться такого результата было тяжело, за это Марата и ценили. В квартире Марата, больше напоминающей проходной двор, Матвей побывал всего один раз, и этот раз затянулся на две недели. Именно за эти две недели Матвей и ушел в минус. Большую часть событий он так и не вспомнил. Судя по размеру долга, из памяти выпали двенадцать кубов свежести и, наверное, двенадцать вмазок. Иногда Матвей даже спал, один из гостей порывался воткнуть себе нож в голень, а в поле зрения то и дело маячила мрачная рожа Марата. Кажется, в одну из ночей, когда Матвей вполглаза дремал на матрасе, кого-то выволакивали в подъезд, но это воспоминание могло оказаться сном или галлюцинацией напряженного ума.
Окончательно протрезвев и придя в себя, Матвей обнаружил себя в жару температуры. Тело болело так, словно он с кем-то дрался. В квартире не нашлось никого, кроме незнакомой женщины. Это был самый подходящий момент, чтобы свалить до возвращения Марата, что Матвей и сделал. Задерживаться в этом гадюшнике не следовало. Матвей очень надеялся, что он никого не ограбил и не убил. Судя по тому, что никто не стал его разыскивать, так оно и было.
«Если и сегодня бросит трубку, выкуплю кольцо. Пусть идет на хер, раз сам морозится», - подумал Матвей, набирая номер Марата. Трубку тот не бросил – его телефон был отключен.
Свежесть Ларисы, молчаливой женщины себе на уме, которая знала химию не так хорошо, как Марат, была на порядок мягче, зато дольше держала, избавляя от необходимости каждый час догоняться. Да и сама Лариса в общении была куда приятнее Марата, который даже под ширкой сохранял некоторую угрюмость.
Лариса пришла как раз вовремя, когда Матвей нутром почуял подступающую нахлобучку, которая холодным комом засела в животе, отдаваясь мелкой бисерной дрожью в пальцы и челюсть. Завидев в рамке металлоискателя широкие полы распахнутого белого плаща, Матвей издал резкий смешок, освободился от ремней и спрятал баян в кофр, поставив его поверх серебристых монет – скудного заработка, который он решил даже не пересчитывать. Когда Лариса остановилась рядом с Матвеем, он был уже в боевой готовности. По белому винилу ее плаща ручьями растекался искусственный свет, распущенные темные волосы дымными струями спускались на плечи и рукава, а глаза, густо обведенные черным, мерцали, как шарики ртути. На пальце правой руки переливалась серебром массивная печатка с изображением колеса сансары.
Лариса пристально посмотрела на Матвея и улыбнулась, не размыкая губ. Она похлопала его по плечу, как давнего знакомого, взяла за руку, и разгоряченной ладони Матвея коснулось прохладное стекло. Сжав фурик из-под валерьянки, в котором были два куба свежести, Матвей закинул кофр на плечо и приготовился наконец отыскать укромное место, где его никто не потревожит. В боковом кармашке кофра ждал своей очереди другой баян – размером поменьше. Однако следовало кое в чем разобраться.
- Что случилось с Маратом? – вполголоса спросил Матвей. - Я уже три дня пытаюсь его вызвонить, а он то сбрасывает, то вообще не берет трубку.
- Марат задолжал.
- Кому?
- Тем, кто его защищает, - ответила Лариса после задумчивой паузы, переведя взгляд куда-то за плечо Матвея, - опять. В последнее время он у них на плохом счету.
Памятуя, что многие знания умножают скорбь, Матвей не стал расспрашивать, откуда ей это известно, и озадаченно почесал в затылке. Ничего не прояснилось. Ситуация становилась все страннее. В таком щекотливом положении Марат должен был радоваться объявившемуся через три месяца должнику, который назойливо пытается вернуть деньги.
- Еще он из-за Лады подавлен. Уже четыре дня марафонит, как в последний раз.
- Это многое объясняет, - буркнул Матвей. С одной стороны, чисто по-человечески Марата было, наверное, даже жаль. С другой стороны, узнать, что барыга, которому ты должен, уверенно движется к госпитализации и тоже в долгах…
Скомканно попрощавшись с Ларисой, Матвей размашисто пошагал к железнодорожному терминалу – первым делом нужно было купить обратный билет. Предъявив его женщине, сидящей в тамбуре перед туалетом, Матвей прошел бесплатно. Конечно, можно было поступить проще и зайти в туалет, расположенный прямо напротив, который был бесплатным для всех, но он относился к столовой, а администрация столовой наркоманов не жаловала.
Прислушавшись к тишине кафельных стен, залитых подрагивающим желтоватым светом, Матвей с долей облегчения отметил, что больше тут никого нет, и толкнул первую попавшуюся дверь кабинки. Он закрылся на щеколду, поудобнее устроился на крышке унитаза и поставил перед собой кофр, призванный в походных условиях служить лабораторным столиком. Держа в зубах горлышко хрупкого фурика, Матвей достал из бокового кармашка медицинский жгут и свежий, ни разу не использованный шприц. Чтобы избегать больших соблазнов и не перебарщивать, он всегда пользовался инсулинками, в которые как раз умещался необходимый ему куб.
Сдерживая несущийся вперед тела мозг, который уже предвосхищал приход и симулировал признаки нервного возбуждения, Матвей бережно открыл пузырек, на донышке которого виднелась бледно-желтая свежесть и так же бережно, медленно оттягивая поршень, заполнил шприц. Дело оставалось за малым.
Матвей спрятал остаток свежести в кармашек кофра и закатал левый рукав. По тощей руке, пересекая локтевой сгиб, бежали выпуклые вены, проступающие под кожей синеватыми росчерками. Поверх центральной вены красовались синяки разной степени давности – от темно-серого до желто-зеленого. Матвей перетянул руку жгутом чуть выше локтя. Процедура была отработана не один раз и стала уже знакомой, хотя пока не бытовой. Матвей сжал зубами конец жгута, затянув его потуже, погрузил в вену комариное острие иглы и потянул поршень немного на себя. В бледно-желтую свежесть выплеснулась кровь, и контроль расцвел алым цветком, перекатываясь крошечными дымчатыми волнами.
- Тиха-а-а… - процедил сквозь зубы Матвей, обращаясь к самому себе – он ощутил желание вогнать всю свежесть разом, которое появлялось всякий раз, когда наступал последний момент. Медленно надавливая на поршень, он почти дошел до конца и вдруг – это было ожидаемо, но всегда неожиданно – ощутил, как бьется сердце, как пульсирует кровь, как неприятно липнет к зубам резина. Он успел выплюнуть жгут, и челюсти сжались. Приход накрыл его с головой, затопил до самой макушки. Обессиленный, Матвей томно простонал сквозь стиснутые зубы, откинулся назад и уронил затылок на бачок унитаза. Краем сознания Матвей вспомнил, что не успел вытащить шприц из вены, но не придал этому никакого значения. Давление загудело в ушах, словно набирающий высоту самолет, потолок перед глазами вспыхнул неестественно яркой белизной, а желтый прямоугольник потолочной лампы расцвел золотистыми искрами, сверкающими на узорчатом рельефе стекла, налился теплой гаммой осенних оттенков.
В распахнутых глазах Матвея, будто капли чернил, упавшие на влажную бумагу, расплылись черные зрачки, задрожала наконец стряхнувшая с себя оцепенение нижняя челюсть. Размазавшись по унитазу, не сдерживая дробное щелканье зубов, Матвей дышал полной грудью и таращился в потолок, где в лучах света кружили, не сталкиваясь друг с другом, горящие золотом мелкие пылинки.
За дверью раздался оглушительный стук каблуков по кафелю, в котором хоть и подрагивал хрустальный звон, вызывающий в душе шевеление чего-то давно забытого, однако звуки постепенно возвращались к нормальной громкости и теряли богатство полутонов, неслышимое обычным ухом. В расширенных зрачках Матвея отражался желтый прямоугольник лампы. Заклокотала вода над раковиной, кто-то с плеском вымыл руки.
- Алло, ты там живой? – раздался женский голос, сочащийся волей к жизни и решимостью действовать.
«С кем она говорит?» - подумал Матвей.
- Блин, ты там помер, что ли? – продолжила женщина, словно прочитав его мысли. – Я с тобой говорю, торчок.
- Со мной? – вслух удивился Матвей, мелко клацая зубами, услышал свой сдавленный блаженством голос, и зачем-то добавил. – Нет, я не умер. Я живой.
- Вот и ладненько, - женщина довольно хрустнула костяшками пальцев, - закругляйся давай. Уже двадцать минут валяешься.
«Я созерцал красоту мира», - сказал про себя Матвей, но женщине решил об этом не сообщать. Собрав свой нехитрый скарб, Матвей вышел обратно к фонтану. Мир, как бывало всегда после вмазки, преобразился в лучшую сторону, будто невидимый ретушер подкрутил яркость, контраст и четкость контуров. И без того трехмерные портреты советских героев приобрели дополнительную трехмерность, темно-зеленые казачьи кафтаны стали ярко-зелеными, а в журчании фонтана проявились обволакивающие подшумы, которым Матвей прежде не придавал значения.
Ближайшие шесть часов обещали быть прекрасными – без всякого преувеличения.
До прибытия электрички оставалось сорок минут. Снедаемый жаждой физической активности, Матвей сначала наматывал круги по вокзалу, а потом, поймав на себе неодобрительный взгляд приказного Епифанова, на всякий случай отправился совершать зацикленный моцион по привокзальной площади, напротив которой был разбит непримечательный парк.
Обоняние улавливало еле ощутимую дымную горечь, щекочущую нос – где-то под Петербургом снова горели торфяные болота. В высоких конических клумбах мерцали фиолетовым и розовым граммофонные трубы петуний, и Матвей проходя мимо них, неизбежно терялся взглядом в цветочной бездне. Над выходом из метро висел рекламный щит Газпрома – крупный план стилизованной «G» с язычком синего пламени, которая напоминала скорее о масонстве, чем о газовой промышленности, а на крыше бизнеc-центра «Адмирал» пылал алый веер Huawei.
Перешагнув трафаретную надпись на асфальте – квадратный штамп с номером телефона, подписью «Соня» и кокетливым сердечком, Матвей остановился, закурил и выдохнул дым в пронзительно-синее небо. Ноги привели его к трехгранной рекламной тумбе, на которой соседствовали изображение хохочущей фотомодели, накрашенной красной помадой Revlon, и пасторальное фото золотых куполов с кириллическим слоганом «2030 год – год православной культуры». Возле тумбы еще полчаса назад припарковался похожий на каплю электромобиль: темно-синий, с тонированными стеклами и надчеркнутой «Т» на бампере – явно дорогой и явно беспилотный. Время от времени к тесле подходили хмурые люди, и над приоткрытым окном на миг показывалась чья-то бледная кисть с короткими пальцами – сначала, чтобы забрать деньги, потом, чтобы отдать требуемое.
Первый опыт Матвея, связанный со свежестью, оказался неудачным: он отправился на Апрашку, самый дешевый рынок города, где торговля шла даже в павильонах, у которых уже давно закончился срок аренды, а некоторые продавцы, приехавшие из бывших союзных республик, плохо понимали по-русски. Каким-то чудом Матвей отыскал ноги – щуплого паренька с колким взглядом. Паренек взял деньги, пообещал отвести его к барыге и бесследно исчез. Помня про характерную черту профессии – непунктуальность, Матвей с интересом осматривал рынок, навсегда застрявший в девяностых, которые уже давно стали историей. Над нестройным лабиринтом павильонов, заваленных дешевой одеждой, над решетчатыми баррикадами стендов с копеечными темными очками трепыхалась на ветру растяжка со скупым, но емким словом - Норникель. Ноги, конечно же, не вернулись. В дальнейшем Матвей таких ошибок не повторял. Ему помогла Лада, которая свела его с надежными варщиками – Маратом и Ларисой.
- На хуй вас всех! Просто на хуй!
По ту сторону рекламной тумбы хлопнула дверца теслы, и в поле зрения Матвея оказался приземистый мужчина в спортивном костюме, который выглядел очень даже прилично. Именно ему принадлежала отнимающая и дающая рука.
- Попустись уже, - глухо попросил кто-то с водительского места.
- Я на такое не подписывался! – надрывно кричал мужчина, порываясь попятиться, но почему-то боясь это сделать. – Почему именно я должен к нему идти?
- Заткнись и сядь в машину, идиот.
- Я другим занимаюсь, я… - снова заголосил мужчина, но заметил Матвея и, наметанным взглядом идентифицировав в нем потенциального клиента, вмиг натянул привычную презрительную маску. – Чего уставился? Заняться нечем? Вали отсюда.
Естественно, возражать Матвей не стал и остаток времени провел на перроне, под внушительным билбордом с портретом президента – Михаила Платоновича Громова, уже давно немолодого преемника Ельцина. Зимой ему исполнилось семьдесят, однако его ботоксно-фотошопный профиль, снятый на фоне Вечного огня, вопреки годам выглядел мужественно.
В лучшие времена его можно было назвать привлекательным – обладатели подобных лиц годам к тридцати обычно превращаются из вечных мальчишек в мужчин интеллигентного вида, однако сейчас времена были не лучшие. На курносом носу зрел розовый прыщ с белой сердцевиной, ввалившиеся щеки придавали овалу лица некоторую грубость, которой прежде не было, а под глубоко посаженными карими глазами темнели бледно-фиолетовые синяки, следы постоянного недосыпа. В тени высоких скул и на подбородке виднелись красноватые кластеры мелкой сыпи. Отталкивающее впечатление усугубляла врожденная кисло-озлобленная мина – неуловимая печать, оставленная то ли не очень сытым провинциальным детством, то ли склонностью нарушать закон как уголовно, так и административно. Косой пробор делил густые, но жесткие светлые волосы на две неравные части, одна из которых, более длинная, была зачесана назад. Пять минут назад молодой человек - на голову выше среднего роста, нескладный фигурой и худой, как палочник - приехал на электричке, следующей через Новый Петергоф. Звали его Матвей Грязев.
Вокзальные часы, появившиеся вместе с вокзалом и сохранившиеся до сих пор, белели на фоне синеватых стекол полукруглого витража, который нависал над Матвеем, и показывали полдень. Матвей не видел их, потому что стоял к ним спиной, но хорошо понимал, сколько сейчас времени. Приезжать сюда днем он не любил - слишком уж мало было людей: те, кто по утрам ездил в Петербург на работу, уже морально готовились к обеденному перерыву, а те, кому ездить на работу было не нужно, только просыпались. Нахмурившись, Матвей окинул взглядом вокзал, напоминающий скорее торговый центр. Слева от металлоискателя, в самом углу, прятался от человеческого потока газетный киоск. Краем глаза Матвей видел за прилавком равнодушную женщину лет сорока, сонно клюющую носом над портативным радио, а краем уха улавливал бодрую мелодию, которой было больше двадцати лет.
Там цветут цветы и сладкие ночи,
Там твои, мои, любые мечты...
Петербуржцы и приезжие, которых угораздило оказаться здесь в такой час, перемещались между билетными кассами, ларьками с едой, расположенными по периметру помещения, и залом ожидания, словно деловитые черные муравьи, огибали длинный прямоугольник фонтана, находящийся в самом центре. В обрамлении чернильного мрамора дрожала огненно-прозрачная водная гладь, подсвеченная со дна яркими лампами, а из массивного черного куба вырвались струи, они изгибались крутой дугой и разбивались об трепещущую поверхность воды. Мягкое журчание фонтана сливалось с гулким эхом человеческих голосов и приглушенным грохотом Петербурга, который доносился с привокзальной площади и из утробы метро. Официальные вывески и объявления повторялись на английском, вывески некоторых частных заведений – еще и на китайском, что, по мнению Матвея, было излишне: китайские туристы вряд ли могли появиться на вокзале, уехать с которого можно было только в пригород.
По ту сторону фонтана, над турникетами, горело зеленым табло отправления поездов, а над ним мерцали голографические портреты святой троицы советского пантеона: настоящий человек Маресьев, лишившийся в великой отечественной обеих ног, юная висельница Космодемьянская и асур от атеизма Аркадий Гайдар. Справа от табло, возле входа в столовую лениво прохаживался из стороны в сторону казачий патруль – один приказный и два рядовых казака, одетые в зеленые кафтаны, доходящие до колен, и черные шаровары с зелеными лампасами. Над двумя фуражками и одной кубанкой, под самым потолком жужжала едва различимая точка дрона.
Взгляд Матвея скользнул по прозрачной витрине с сувенирами, пункту обмена валют, где можно было обменять рубли на доллары, евро или юани, и наконец остановился на оранжевом киви-терминале. Улыбнувшись уголками рта, Матвей достал из кармана джинсов купюру в тысячу рублей и подошел к терминалу. Можно было задаться вопросом, какую цель преследует болезненно худой молодой человек и кому он собирается переводить деньги, и это было бы совсем не глупо – у него могла быть на это масса причин. Но задаваться вопросом, кому собирается переводить деньги молодой человек, руки которого до самых запястий скрывают длинные рукава, под клетчатой рубашкой которого виднеется черная футболка с надписью «Россия живет скоростями», не имеющая к РЖД никакого отношения, было бы уже излишне.
Пока Матвей, закусив губу, выстукивал на экране терминала нужный номер, его заметил приказный Епифанов, патрулирующий вокзал. Это был щуплый, но важный мужчина лет сорока с бронзово-желтым загаром, полученным на берегу Черного моря, жидкими усами и красными погонами с одной лычкой. Поигрывая свернутой в петлю нагайкой, которую он держал в левой руке, приказный Епифанов довольно ощерился, отделился от патруля и, поскрипывая начищенными сапогами, непринужденно зашагал в сторону Матвея. Поглощенный делом, которое сейчас было для него намного важнее приказного, вокзала и Петербурга вообще, Матвей заметил приближающийся зеленый кафтан лишь тогда, когда купюра исчезла в приемнике терминала.
- Привет, Грязев, - сказал Епифанов, похлопав Матвея по спине, - рано ты сегодня.
- Так уж вышло, - пожал плечами Матвей. Голос у него был гнусавый и немного отрешенный, а говорил Матвей резковато, обрубая фразу в самом конце. Торопливо запустив руку в карман, он протянул Епифанову пятьсот рублей – засаленные сотенные купюры. Удовлетворенно кивнув, тот сжал деньги в загорелом кулаке и отошел от Матвея, как ни в чем не бывало, будто и не было скупого обмена репликами. Матвей покосился на торчащий из терминала чек. Взвесив все за и против, он на всякий случай убрал его в нагрудный карман рубашки. Платежи не всегда проходили гладко, и лучше было подстраховаться, хоть многие и не считали чек об оплате весомым доказательством. К счастью, Лариса была не из таких. С ней можно было договориться.
Надеясь, что Лариса сдержит обещание и выйдет из дома сразу же, как до нее дойдет платеж, Матвей уселся на широкий бортик фонтана и ощутил сквозь джинсы прохладу влажного мрамора. Стоически поморщившись, он поставил перед собой открытый и совершенно пустой кофр, продел руки под кожаные ремни баяна и медленно растянул меха. Перламутрово-синий баян, доставшийся Матвею от отца, издал тоскливый протяжный стон.
На Балтийском вокзале Матвей играл уже полгода, с тех пор, как его уволили с должности официанта. В хорошие дни, которые наступали редко, но приносили с собой душевную и телесную радость, Матвей зарабатывал вплоть до четырех тысяч рублей. Найти его на вокзале можно было с пяти до восьми вечера, и за эти три часа Матвей каждый день платил по пятьсот рублей казачьему патрулю, который, получив деньги и заключив негласный договор, обязывался защищать одинокого музыканта от нетрезвых личностей и просто агрессивных хулиганов. Закон на территории Балтийского вокзала был довольно эфемерным понятием, потому что снаружи время от времени парковались разных марок автомобили с тонированными стеклами, из которых продавали героин. Это был общеизвестный факт, и автомобили стояли у привокзальной площади по полчаса, притягивая к себе не самых радостных и не самых опрятных людей, чей вид красноречиво говорил сам за себя, однако казачьи патрули и полицейские, проезжающие мимо в черных бобиках, тактично делали вид, что это не в их компетенции.
Длинная стрелка часов неумолимо медленно отсчитывала минуты. Деньги в кофр кидали неохотно. Меха сжимались и разжимались, словно тельце гусеницы, блестела черно-белая россыпь клавиш, по которой быстро бегали то вверх, то вниз татуированные пальцы Матвея. На пальцах его правой руки, начиная с указательного и заканчивая мизинцем, виднелись неказистые черные татуировки, набитые спонтанно в гостях у малознакомых людей: алхимический символ Сатурна, знак, которым подписывал свои письма серийник Зодиак, астрологический символ Черной Луны и звезда Хаоса. Притопывая в такт переливам аккордов ногой, обутой в порванную кроссовку, Матвей давил на гладкие пуговки клавиш. Репертуар у него был широкий: от русских народных песен и романсов Вертинского, выученных еще в школе при помощи учительницы музыки, до поп-хитов нулевых и блатняка, которые он подбирал уже сам и на слух. Растягивая меха баяна, Матвей искал взглядом Ларису, которая должна была подойти два часа назад. Ему не терпелось сменить инструмент. Однако Ларисы не было, настроение Матвея с каждой секундой становилось все мрачнее, и «Хоп, мусорок» плавно сменилась «Кольщиком».
Матвей родился и вырос в Мордовии, под Саранском. Его малая родина, город Офтонь, мог похвастать градообразующим алюминиевым заводом и населением в восемь тысяч человек. Воспитывала его Елена Алексеевна Грязева, надломленного телосложения женщина, которая почти все время страдала от головной боли неясного генеза и заглушала ее травяными настойками, святой водой и молитвами. Их приземистый частный дом с огородом и палисадником располагался в частном секторе, на окраине Офтони. Елена Алексеевна родила поздно, после тридцати, однако в заботе о Матвее уделяла внимание лишь первой ступени пирамиды Маслоу. Возможно, это было даже к лучшему. Иногда к ней в гости захаживала ее лучшая подруга – боевитая кассирша из «Пятерочки», которая приносила к чаю пряники и добродушно трепала Матвея по голове. Что касается отца, то формально у Матвея его не было. В свидетельстве о рождении вместо отца был указан прочерк, однако отчество все же присутствовало – Германович. Мать говорила, что это настоящее отчество. С пятого по одиннадцатый класс Матвей ходил в пришкольный музыкальный кружок, который вела учительница музыки, Вероника Николаевна. Его часто освобождали от занятий, когда на школьном мероприятии требовался музыкант, и происходило это довольно часто. Матвей пропускал уроки, играя в актовом зале на баяне, каждый год участвовал в «Русском медвежонке» и к своему положению относился флегматично.
Так и прошло его отрочество. Спокойно, почти без происшествий, если не считать примитивные наркоэксперименты, типичные для подростков с ограниченным бюджетом: мускатный орех, от земляного привкуса которого хотелось блевать еще во время приема, ипомея, от которой ровно через час тоже тянуло блевать – в этом случае организм Матвея работал, как часы - и разовая проба тропикамида в нос. Экспериментировал Матвей не один, а с приятелем по имени Глеб, беззлобным хулиганом, который был на четыре года старше. В общем-то, больше их ничего не связывало.
В одиннадцатом классе Матвей обрел какую-никакую, но все же самостоятельность. Во-первых, государство в обязательном порядке отправило выпускников на совершенно бесполезные курсы в автошколе, которые Матвей с горем пополам осилил и получил такие же бесполезные водительские права. Во-вторых, Матвей, озадаченный надвигающимся совершеннолетием, подсуетился, нашел подработку и купил белый билет. Как и следовало ожидать, призывник, страдающий от частых приступов мигрени с аурой, военкомату не понадобился. Девять лет назад минорно отгремели финальные аккорды вялотекущей сирийской войны, которая выплюнула на территорию России вереницу цинковых гробов, свежие надгробья средней паршивости, оплаченные государством, и молодых ветеранов с ПТСР, которые, конечно же, мало кому теперь были нужны. Резко изменившийся политический вектор новых войн пока не обещал, однако Матвей не расслаблялся и переселяться в два квадратных метра, если у родины вдруг случится приступ патриотической горячки, не желал.
Окончив школу, он уехал в Петербург - Северную Пальмиру, где архитектура имперской России смешалась со стеклом небоскребов, крупный портовый город и, как следствие, наркостолицу России. С собой Матвей взял отцовский баян и золотое кольцо матери. Сложно делать выбор, когда в одной стране налог на тунеядство, в другой затянувшаяся гражданская война, а в третьей поднимает голову православие, и Матвей выбрал меньшее из зол. Город встретил его Невским проспектом, искрящимся обелиском Лахта Центра и свинцово-темными каналами Невы, над которыми возвышалась Адмиралтейская игла.
Оборвав «Кольщика» на полуноте, Матвей нащупал кончиком языка дырку в зубе и ощутил легкий привкус железа. Радовало то, что этот зуб хотя бы снаружи выглядел здоровым, потому что от соседнего зуба остались только обломки. Матвей старался улыбаться не слишком широко, потому что останки больных зубов находились за левым клыком.
Вздохнув, Матвей высвободил правую руку. Настало время звонить Марату - уже в который раз. Марат был весьма неприятным типом, чудом дожившим до тридцати, и Матвей уже несколько месяцев его избегал. Почти все время тощий и желтоватый Марат, одетый в неизменные рваные джинсы и свитер на несколько размеров больше, или торчал дома, или валялся на диване, скрывшись от мира за очками виртуальной реальности, или совмещал первое занятие со вторым. Уже больше года он безответно любил Ладу – юную наркоманку и по совместительству вебкам-модель, которая еще не потеряла шарм и стойко удерживалась в рамках героинового шика, однако признаваться в чувствах ей даже не пытался, дуясь на весь свет, как мышь на крупу. Иногда Марата было очень тяжело понять. А еще Марат был барыгой, и Матвей задолжал ему шесть тысяч.
Если говорить точнее, Марат, отучившийся в свое время на фармацевта, был варщиком, получал с этого определенную выгоду и содержал притон, в котором собиралась крайне сомнительная публика. Варил Марат свежесть – удачную комбинацию эфедрина и флукортина, которую в неотбитом виде можно было найти в рецептурном антидепрессанте с поэтичным названием «Свежесть-32». Матвей варить не умел и в химии не разбирался даже на уровне школьной программы. Его мозги были насквозь гуманитарными.
Опытный Марат подбирал такие пропорции компонентов, что его свежесть била по голове, словно кувалда, обеспечивая от нескольких минут до нескольких часов полного невменоза. Добиться такого результата было тяжело, за это Марата и ценили. В квартире Марата, больше напоминающей проходной двор, Матвей побывал всего один раз, и этот раз затянулся на две недели. Именно за эти две недели Матвей и ушел в минус. Большую часть событий он так и не вспомнил. Судя по размеру долга, из памяти выпали двенадцать кубов свежести и, наверное, двенадцать вмазок. Иногда Матвей даже спал, один из гостей порывался воткнуть себе нож в голень, а в поле зрения то и дело маячила мрачная рожа Марата. Кажется, в одну из ночей, когда Матвей вполглаза дремал на матрасе, кого-то выволакивали в подъезд, но это воспоминание могло оказаться сном или галлюцинацией напряженного ума.
Окончательно протрезвев и придя в себя, Матвей обнаружил себя в жару температуры. Тело болело так, словно он с кем-то дрался. В квартире не нашлось никого, кроме незнакомой женщины. Это был самый подходящий момент, чтобы свалить до возвращения Марата, что Матвей и сделал. Задерживаться в этом гадюшнике не следовало. Матвей очень надеялся, что он никого не ограбил и не убил. Судя по тому, что никто не стал его разыскивать, так оно и было.
«Если и сегодня бросит трубку, выкуплю кольцо. Пусть идет на хер, раз сам морозится», - подумал Матвей, набирая номер Марата. Трубку тот не бросил – его телефон был отключен.
Свежесть Ларисы, молчаливой женщины себе на уме, которая знала химию не так хорошо, как Марат, была на порядок мягче, зато дольше держала, избавляя от необходимости каждый час догоняться. Да и сама Лариса в общении была куда приятнее Марата, который даже под ширкой сохранял некоторую угрюмость.
Лариса пришла как раз вовремя, когда Матвей нутром почуял подступающую нахлобучку, которая холодным комом засела в животе, отдаваясь мелкой бисерной дрожью в пальцы и челюсть. Завидев в рамке металлоискателя широкие полы распахнутого белого плаща, Матвей издал резкий смешок, освободился от ремней и спрятал баян в кофр, поставив его поверх серебристых монет – скудного заработка, который он решил даже не пересчитывать. Когда Лариса остановилась рядом с Матвеем, он был уже в боевой готовности. По белому винилу ее плаща ручьями растекался искусственный свет, распущенные темные волосы дымными струями спускались на плечи и рукава, а глаза, густо обведенные черным, мерцали, как шарики ртути. На пальце правой руки переливалась серебром массивная печатка с изображением колеса сансары.
Лариса пристально посмотрела на Матвея и улыбнулась, не размыкая губ. Она похлопала его по плечу, как давнего знакомого, взяла за руку, и разгоряченной ладони Матвея коснулось прохладное стекло. Сжав фурик из-под валерьянки, в котором были два куба свежести, Матвей закинул кофр на плечо и приготовился наконец отыскать укромное место, где его никто не потревожит. В боковом кармашке кофра ждал своей очереди другой баян – размером поменьше. Однако следовало кое в чем разобраться.
- Что случилось с Маратом? – вполголоса спросил Матвей. - Я уже три дня пытаюсь его вызвонить, а он то сбрасывает, то вообще не берет трубку.
- Марат задолжал.
- Кому?
- Тем, кто его защищает, - ответила Лариса после задумчивой паузы, переведя взгляд куда-то за плечо Матвея, - опять. В последнее время он у них на плохом счету.
Памятуя, что многие знания умножают скорбь, Матвей не стал расспрашивать, откуда ей это известно, и озадаченно почесал в затылке. Ничего не прояснилось. Ситуация становилась все страннее. В таком щекотливом положении Марат должен был радоваться объявившемуся через три месяца должнику, который назойливо пытается вернуть деньги.
- Еще он из-за Лады подавлен. Уже четыре дня марафонит, как в последний раз.
- Это многое объясняет, - буркнул Матвей. С одной стороны, чисто по-человечески Марата было, наверное, даже жаль. С другой стороны, узнать, что барыга, которому ты должен, уверенно движется к госпитализации и тоже в долгах…
Скомканно попрощавшись с Ларисой, Матвей размашисто пошагал к железнодорожному терминалу – первым делом нужно было купить обратный билет. Предъявив его женщине, сидящей в тамбуре перед туалетом, Матвей прошел бесплатно. Конечно, можно было поступить проще и зайти в туалет, расположенный прямо напротив, который был бесплатным для всех, но он относился к столовой, а администрация столовой наркоманов не жаловала.
Прислушавшись к тишине кафельных стен, залитых подрагивающим желтоватым светом, Матвей с долей облегчения отметил, что больше тут никого нет, и толкнул первую попавшуюся дверь кабинки. Он закрылся на щеколду, поудобнее устроился на крышке унитаза и поставил перед собой кофр, призванный в походных условиях служить лабораторным столиком. Держа в зубах горлышко хрупкого фурика, Матвей достал из бокового кармашка медицинский жгут и свежий, ни разу не использованный шприц. Чтобы избегать больших соблазнов и не перебарщивать, он всегда пользовался инсулинками, в которые как раз умещался необходимый ему куб.
Сдерживая несущийся вперед тела мозг, который уже предвосхищал приход и симулировал признаки нервного возбуждения, Матвей бережно открыл пузырек, на донышке которого виднелась бледно-желтая свежесть и так же бережно, медленно оттягивая поршень, заполнил шприц. Дело оставалось за малым.
Матвей спрятал остаток свежести в кармашек кофра и закатал левый рукав. По тощей руке, пересекая локтевой сгиб, бежали выпуклые вены, проступающие под кожей синеватыми росчерками. Поверх центральной вены красовались синяки разной степени давности – от темно-серого до желто-зеленого. Матвей перетянул руку жгутом чуть выше локтя. Процедура была отработана не один раз и стала уже знакомой, хотя пока не бытовой. Матвей сжал зубами конец жгута, затянув его потуже, погрузил в вену комариное острие иглы и потянул поршень немного на себя. В бледно-желтую свежесть выплеснулась кровь, и контроль расцвел алым цветком, перекатываясь крошечными дымчатыми волнами.
- Тиха-а-а… - процедил сквозь зубы Матвей, обращаясь к самому себе – он ощутил желание вогнать всю свежесть разом, которое появлялось всякий раз, когда наступал последний момент. Медленно надавливая на поршень, он почти дошел до конца и вдруг – это было ожидаемо, но всегда неожиданно – ощутил, как бьется сердце, как пульсирует кровь, как неприятно липнет к зубам резина. Он успел выплюнуть жгут, и челюсти сжались. Приход накрыл его с головой, затопил до самой макушки. Обессиленный, Матвей томно простонал сквозь стиснутые зубы, откинулся назад и уронил затылок на бачок унитаза. Краем сознания Матвей вспомнил, что не успел вытащить шприц из вены, но не придал этому никакого значения. Давление загудело в ушах, словно набирающий высоту самолет, потолок перед глазами вспыхнул неестественно яркой белизной, а желтый прямоугольник потолочной лампы расцвел золотистыми искрами, сверкающими на узорчатом рельефе стекла, налился теплой гаммой осенних оттенков.
В распахнутых глазах Матвея, будто капли чернил, упавшие на влажную бумагу, расплылись черные зрачки, задрожала наконец стряхнувшая с себя оцепенение нижняя челюсть. Размазавшись по унитазу, не сдерживая дробное щелканье зубов, Матвей дышал полной грудью и таращился в потолок, где в лучах света кружили, не сталкиваясь друг с другом, горящие золотом мелкие пылинки.
За дверью раздался оглушительный стук каблуков по кафелю, в котором хоть и подрагивал хрустальный звон, вызывающий в душе шевеление чего-то давно забытого, однако звуки постепенно возвращались к нормальной громкости и теряли богатство полутонов, неслышимое обычным ухом. В расширенных зрачках Матвея отражался желтый прямоугольник лампы. Заклокотала вода над раковиной, кто-то с плеском вымыл руки.
- Алло, ты там живой? – раздался женский голос, сочащийся волей к жизни и решимостью действовать.
«С кем она говорит?» - подумал Матвей.
- Блин, ты там помер, что ли? – продолжила женщина, словно прочитав его мысли. – Я с тобой говорю, торчок.
- Со мной? – вслух удивился Матвей, мелко клацая зубами, услышал свой сдавленный блаженством голос, и зачем-то добавил. – Нет, я не умер. Я живой.
- Вот и ладненько, - женщина довольно хрустнула костяшками пальцев, - закругляйся давай. Уже двадцать минут валяешься.
«Я созерцал красоту мира», - сказал про себя Матвей, но женщине решил об этом не сообщать. Собрав свой нехитрый скарб, Матвей вышел обратно к фонтану. Мир, как бывало всегда после вмазки, преобразился в лучшую сторону, будто невидимый ретушер подкрутил яркость, контраст и четкость контуров. И без того трехмерные портреты советских героев приобрели дополнительную трехмерность, темно-зеленые казачьи кафтаны стали ярко-зелеными, а в журчании фонтана проявились обволакивающие подшумы, которым Матвей прежде не придавал значения.
Ближайшие шесть часов обещали быть прекрасными – без всякого преувеличения.
До прибытия электрички оставалось сорок минут. Снедаемый жаждой физической активности, Матвей сначала наматывал круги по вокзалу, а потом, поймав на себе неодобрительный взгляд приказного Епифанова, на всякий случай отправился совершать зацикленный моцион по привокзальной площади, напротив которой был разбит непримечательный парк.
Обоняние улавливало еле ощутимую дымную горечь, щекочущую нос – где-то под Петербургом снова горели торфяные болота. В высоких конических клумбах мерцали фиолетовым и розовым граммофонные трубы петуний, и Матвей проходя мимо них, неизбежно терялся взглядом в цветочной бездне. Над выходом из метро висел рекламный щит Газпрома – крупный план стилизованной «G» с язычком синего пламени, которая напоминала скорее о масонстве, чем о газовой промышленности, а на крыше бизнеc-центра «Адмирал» пылал алый веер Huawei.
Перешагнув трафаретную надпись на асфальте – квадратный штамп с номером телефона, подписью «Соня» и кокетливым сердечком, Матвей остановился, закурил и выдохнул дым в пронзительно-синее небо. Ноги привели его к трехгранной рекламной тумбе, на которой соседствовали изображение хохочущей фотомодели, накрашенной красной помадой Revlon, и пасторальное фото золотых куполов с кириллическим слоганом «2030 год – год православной культуры». Возле тумбы еще полчаса назад припарковался похожий на каплю электромобиль: темно-синий, с тонированными стеклами и надчеркнутой «Т» на бампере – явно дорогой и явно беспилотный. Время от времени к тесле подходили хмурые люди, и над приоткрытым окном на миг показывалась чья-то бледная кисть с короткими пальцами – сначала, чтобы забрать деньги, потом, чтобы отдать требуемое.
Первый опыт Матвея, связанный со свежестью, оказался неудачным: он отправился на Апрашку, самый дешевый рынок города, где торговля шла даже в павильонах, у которых уже давно закончился срок аренды, а некоторые продавцы, приехавшие из бывших союзных республик, плохо понимали по-русски. Каким-то чудом Матвей отыскал ноги – щуплого паренька с колким взглядом. Паренек взял деньги, пообещал отвести его к барыге и бесследно исчез. Помня про характерную черту профессии – непунктуальность, Матвей с интересом осматривал рынок, навсегда застрявший в девяностых, которые уже давно стали историей. Над нестройным лабиринтом павильонов, заваленных дешевой одеждой, над решетчатыми баррикадами стендов с копеечными темными очками трепыхалась на ветру растяжка со скупым, но емким словом - Норникель. Ноги, конечно же, не вернулись. В дальнейшем Матвей таких ошибок не повторял. Ему помогла Лада, которая свела его с надежными варщиками – Маратом и Ларисой.
- На хуй вас всех! Просто на хуй!
По ту сторону рекламной тумбы хлопнула дверца теслы, и в поле зрения Матвея оказался приземистый мужчина в спортивном костюме, который выглядел очень даже прилично. Именно ему принадлежала отнимающая и дающая рука.
- Попустись уже, - глухо попросил кто-то с водительского места.
- Я на такое не подписывался! – надрывно кричал мужчина, порываясь попятиться, но почему-то боясь это сделать. – Почему именно я должен к нему идти?
- Заткнись и сядь в машину, идиот.
- Я другим занимаюсь, я… - снова заголосил мужчина, но заметил Матвея и, наметанным взглядом идентифицировав в нем потенциального клиента, вмиг натянул привычную презрительную маску. – Чего уставился? Заняться нечем? Вали отсюда.
Естественно, возражать Матвей не стал и остаток времени провел на перроне, под внушительным билбордом с портретом президента – Михаила Платоновича Громова, уже давно немолодого преемника Ельцина. Зимой ему исполнилось семьдесят, однако его ботоксно-фотошопный профиль, снятый на фоне Вечного огня, вопреки годам выглядел мужественно.
☸
За окнами электрички мелькали асфальтовые изгибы дорог, крохотные частные дома и помпезные коттеджи, набухшая соком летняя зелень. Матвей ехал, прислонившись виском к окну, и крепко обнимал кофр. В воздухе моргало голубоватое вагонное освещение.
- Сталин, Троцкий… - бубнил возле тамбура бомжеватого вида старик, что-то доказывая самому себе. – Они же рептилии…
Когда электричка доехала до Нового Петергофа, стал накрапывать мелкий дождь, и синее небо наполнилось летней свежестью. Держа между пальцами дымящуюся сигарету, Матвей шел по протоптанной дорожке к двухэтажному дому на улице Юты Бондаровской, где уже год снимал комнату. В шелестящей листве берез горел освещенный солнцем рыжий, почти красный кирпич, состаренный временем, а в стеклах узких окон, окруженных грубым рельефом обрамления, отражались ползущие над станцией облака. Пройдя чуть дальше, миновав круглосуточный ларек, можно было увидеть кладбище – одно из тех, что расширили во время войны.
Возле станции Матвею встретился еще один патруль. Один из рядовых казаков нес в руке выключенный дрон. Казачьим патрулям предоставляли не очень хорошую технику: их дроны не распознавали лица, качество изображения было плохим, а на морозе дроны не летали и часто падали. Естественно, казаки не хотели лишний раз напрягаться, хоть этого и требовали правила безопасности, поэтому они или выключали функцию записи, отправляя дроны летать вхолостую, или не запускали их вовсе.
Не доходя до угла дома, Матвей повернул совсем не в ту сторону, куда обычно, и углубился в тенистый переулок, ведущий к неоновой вывеске круглосуточного ломбарда. Предъявив согбенному старику паспорт и залоговый билет, Матвей в очередной раз выкупил кольцо матери – тяжелое, золотое, с темно-фиолетовым аметистом, тянущее на пять тысяч. Равнодушно посмотрев в расширенные зрачки Матвея, старик кивнул и забрал шесть тысяч, которые следовало вернуть Марату.
Нырнув в парадную, на стенах которой висели горшки с красной геранью, Матвей поднялся по деревянной лестнице на второй этаж, где располагалась коммуналка из четырех комнат. Дверь, как и всегда, была открыта. Матвей вступил в коридор, застеленный годы клетчатым линолеумом, который давно поистрепался, и сразу же направился в ванную. Нужно было помыть руки.
В ванной горел свет, но дверь не была закрыта изнутри: за ней что-то бубнила Соня, которая жила через стену от Матвея. Он предупредительно постучал, но Соня оставила его вежливость без внимания.
- Соня, я вхожу, - громко сообщил Матвей и потянул дверь на себя. Влажно блестел каплями синий кафель. Соня сидела на стиральной машинке, закинув ногу на ногу, и покачивала висящей на кончиках пальцев массивной туфлей, похожей на копыто. Видимо, Соня недавно пришла с работы, потому что выглядела явно не по-домашнему: длинные черные волосы покачивались на затылке лоснящимся конским хвостом, черные брови заострялись у висков, а характерные стимуляторные скулы были подкрашены румянами. Белое платье в мелкую сетку заканчивалось, не доходя до колен.
Пожалуй, если бы Матвея попросили описать Соню одним фактом, он без раздумий сообщил бы, что в центральную вену ее руки вшит катетер. Соня принимала мефедрон так часто, что не хотела каждый раз копаться в венах иглой и доводить дело до флебитов, поэтому решила проблему кардинально.
- Что за херню ты мне продал? – угрожающе отчитывала Соня собеседника. - Полторы тысячи за два грамма, надо было сразу догадаться. Чего, чего – ничего. Сердце колотилось и пальцы онемели. Думала, что сдохну.
Взмахнув ногами, будто лезвиями ножниц, она перекинула их на другую сторону стиральной машинки, чтобы пропустить Матвея к раковине, и вернулась к разговору.
- Клиент скорую вызвал, а я с болтами. Не знал ты, ну и что? Мне от этого легче? Паническая атака стала от этого менее панической? Ты дебил, Сашечка. Хочешь, чтобы с тобой поговорил мой сутенер?
Вытерев руки, Матвей оставил ее наедине с провинившимся дилером и наконец вернулся домой – в комнату с высоким потолком, светодиодной люстрой в виде морской звезды и бледно-желтыми обоями. Пол скрипел светлым рассохшимся паркетом, уложенным елочкой, в щелях которого скапливалась пыль. Несколько деревянных сегментов в самом углу отошли до такой степени, что, подняв их, можно было увидеть неглубокую полость с залежами строительной крошки. Напротив двери зияло небесной синью окно, на широком подоконнике которого стояли электрический чайник и кружка недопитого чая. Справа от окна располагалась непонятного назначения ниша, в которую помещался комод. Над ними, под самым потолком проходила довольно толстая и крепкая труба отопления, выкрашенная белой эмалевой краской. К ней была привязана бельевая веревка, которая, когда Матвей сушил одежду, была протянута до гвоздя над дверью, но сейчас она висела, спускаясь на комод неряшливым витком. Завершали бытовой минимализм небольшой холодильник и стоящая на нем микроволновка.
По левую стену размещался стол с красной лава-лампой и фигуркой Смеющегося Будды. Над ним висела совершенно ненужная Матвею книжная полка, потому что его скромная бумажная библиотечка занимала слишком мало места. На полке было только две книги: «Шатуны» Мамлеева и «Бардо Тхёдол», тибетская книга мертвых.
Матвей поставил кофр на разложенный диван и невольно увяз вниманием в ковре с оленями, возраст которого определять даже не хотелось. Почему-то в такие моменты ковер терял всю неказистость и окрашивался в оттенки детской ностальгии, а олени начинали смотреть на Матвея мудрыми сочувственными глазами. Сверху ковер венчала выключенная гирлянда.
Умиротворенно вздохнув, Матвей вытащил баян из кофра. Вот-вот должна была нахлынуть вторая волна прихода, которая, конечно, не могла сравниться с самой первой, однако настроение стало достаточно хорошим, чтобы пообщаться с соседями.
Он вооружился баяном и отправился на скудно обставленную кухню. Стол, украшенный безысходным, но бытовым натюрмортом – початая бутылка водки, наполненная рюмка и тарелка с соленой селедкой, усыпанной колечками лука – почему-то был тускло освещен включенным бра с белым шарообразным плафоном.
«Разве сейчас вечер? – задумался Матвей, покосившись на неестественно яркое небо в узкой раме окна. – А ведь возможно, что и вечер…»
За столом, налегая то на селедку, то на водку, сидел Евгений Львович Копейкин: сухопарый ветеран Сирии с протезами вместо двух конечностей, темными волосами, присыпанными пеплом седины, и золотым крестиком поверх майки. Вернувшись с войны, где ему оторвало левые ногу и руку, Копейкин попал в больницу, ему за счет государства поставили бионические конечности не самого лучшего качества, и выписался он с намерением добиться выплаты ветеранского пособия. Однако пособие выплачивать отказались, сославшись на то, что положено оно тем, у кого конечностей нет, а грубоватые протезы Копейкина с заедающими сочленениями юридически считались рабочими конечностями.
Поиск справедливости и бюрократическая волокита привели его к Сильванову, депутату петербургского Заксобрания, и Копейкин пытался пробиться к нему в приемную три раза, но дальше секретарши не прошел. Административный аппарат оказался неумолимее сирийских боевиков – тех хотя бы можно было законно убивать, а ненависть их была логически объяснима. Третья попытка закончилась тем, что Евгений Копейкин вышел на улицу и напал на проходящего мимо полицейского. Конечно, его протезы были не самыми рабочими конечностями, но отказать им в тяжести было трудно. Отсидев три года за нападение на представителя власти, Евгений Копейкин пошел в попрошайки и в итоге осел на Балтийском вокзале. Ему даже не нужно было придумывать историю, ведь она была настоящей: ветеран, калека, сиделец – все, что нужно для народной жалости. В общем-то, он был честным попрошайкой и никогда о себе не врал.
Поставив стул в центр кухни, Матвей сел на него и без предупреждения принялся играть на баяне. Мелодия выходила неопределенная, протяжная и дрожащая. Вдохновенно прикрыв глаза, погрузившись в могучее эхо аккордов, отражающееся от стен, Матвей иногда вспоминал, что его слушают, приходил в себя и кидал на Копейкина быстрый взгляд, но снова отвлекался на музыку. Копейкин сжимал рюмку темно-серыми искусственными пальцами, закусывал селедкой и сплевывал прозрачные кости на тарелку – его все устраивало.
В дверном проеме показался плотно сбитый Женя в темном халате поверх спортивных штанов. Недавно вылетевший из вуза Женя, чью широкую голову негармонично покрывали жидкие волосы и скудная щетина, был единственным квартирантом, который работал официально, хоть и консультантом в «Евросети». В руках он держал кастрюлю, из которой торчали пачка макарон и бутылка с подсолнечным маслом.
- Опять этот нарик вмазался? – недовольно спросил Женя, привычно обойдя Матвея, стараясь его не касаться. - Каждую субботу одно и тоже.
– Не твое дело, - блаженно выдохнул Матвей, не открывая глаз и не сбиваясь с ритма, словно его пальцы и речевой аппарат жили отдельной жизнью. Улыбнувшись, уже нетрезвый Копейкин решил вступиться за него.
- Не трогай человека, он никому не мешает, - миролюбиво сказал он и подцепил бионическими пальцами луковое колечко.
- И мне теперь слушать его шесть часов подряд? – фыркнул Женя, набирая в кастрюлю воду, однако возмущаться перестал. В конце концов, находиться на кухне ему предстояло не дольше сорока минут. Утешало еще и то, что иногда Матвей сбивался с музыки на разговоры, которые обычно вел с Копейкиным.
Растягивая пружинистые меха, Матвей поймал себя на том, что пальцы шевелятся сами, мысли текут в направлении, совсем не связанном с музыкой, а взгляд блуждает самовольно. Вечернее небо за окном вдруг показалось ему настолько синим, что он даже зажмурился. Взгляд Матвея переполз на тусклый белый плафон.
Мысли возникали одновременно, наслаиваясь друг на друга, мчались наперегонки и стекались к одному человеку – Марату.
«Ничего страшного не случится, если я не верну ему деньги, - подумал Матвей с несвойственной ему смелостью, - на хер Марата».
- Сталин, Троцкий… - бубнил возле тамбура бомжеватого вида старик, что-то доказывая самому себе. – Они же рептилии…
Когда электричка доехала до Нового Петергофа, стал накрапывать мелкий дождь, и синее небо наполнилось летней свежестью. Держа между пальцами дымящуюся сигарету, Матвей шел по протоптанной дорожке к двухэтажному дому на улице Юты Бондаровской, где уже год снимал комнату. В шелестящей листве берез горел освещенный солнцем рыжий, почти красный кирпич, состаренный временем, а в стеклах узких окон, окруженных грубым рельефом обрамления, отражались ползущие над станцией облака. Пройдя чуть дальше, миновав круглосуточный ларек, можно было увидеть кладбище – одно из тех, что расширили во время войны.
Возле станции Матвею встретился еще один патруль. Один из рядовых казаков нес в руке выключенный дрон. Казачьим патрулям предоставляли не очень хорошую технику: их дроны не распознавали лица, качество изображения было плохим, а на морозе дроны не летали и часто падали. Естественно, казаки не хотели лишний раз напрягаться, хоть этого и требовали правила безопасности, поэтому они или выключали функцию записи, отправляя дроны летать вхолостую, или не запускали их вовсе.
Не доходя до угла дома, Матвей повернул совсем не в ту сторону, куда обычно, и углубился в тенистый переулок, ведущий к неоновой вывеске круглосуточного ломбарда. Предъявив согбенному старику паспорт и залоговый билет, Матвей в очередной раз выкупил кольцо матери – тяжелое, золотое, с темно-фиолетовым аметистом, тянущее на пять тысяч. Равнодушно посмотрев в расширенные зрачки Матвея, старик кивнул и забрал шесть тысяч, которые следовало вернуть Марату.
Нырнув в парадную, на стенах которой висели горшки с красной геранью, Матвей поднялся по деревянной лестнице на второй этаж, где располагалась коммуналка из четырех комнат. Дверь, как и всегда, была открыта. Матвей вступил в коридор, застеленный годы клетчатым линолеумом, который давно поистрепался, и сразу же направился в ванную. Нужно было помыть руки.
В ванной горел свет, но дверь не была закрыта изнутри: за ней что-то бубнила Соня, которая жила через стену от Матвея. Он предупредительно постучал, но Соня оставила его вежливость без внимания.
- Соня, я вхожу, - громко сообщил Матвей и потянул дверь на себя. Влажно блестел каплями синий кафель. Соня сидела на стиральной машинке, закинув ногу на ногу, и покачивала висящей на кончиках пальцев массивной туфлей, похожей на копыто. Видимо, Соня недавно пришла с работы, потому что выглядела явно не по-домашнему: длинные черные волосы покачивались на затылке лоснящимся конским хвостом, черные брови заострялись у висков, а характерные стимуляторные скулы были подкрашены румянами. Белое платье в мелкую сетку заканчивалось, не доходя до колен.
Пожалуй, если бы Матвея попросили описать Соню одним фактом, он без раздумий сообщил бы, что в центральную вену ее руки вшит катетер. Соня принимала мефедрон так часто, что не хотела каждый раз копаться в венах иглой и доводить дело до флебитов, поэтому решила проблему кардинально.
- Что за херню ты мне продал? – угрожающе отчитывала Соня собеседника. - Полторы тысячи за два грамма, надо было сразу догадаться. Чего, чего – ничего. Сердце колотилось и пальцы онемели. Думала, что сдохну.
Взмахнув ногами, будто лезвиями ножниц, она перекинула их на другую сторону стиральной машинки, чтобы пропустить Матвея к раковине, и вернулась к разговору.
- Клиент скорую вызвал, а я с болтами. Не знал ты, ну и что? Мне от этого легче? Паническая атака стала от этого менее панической? Ты дебил, Сашечка. Хочешь, чтобы с тобой поговорил мой сутенер?
Вытерев руки, Матвей оставил ее наедине с провинившимся дилером и наконец вернулся домой – в комнату с высоким потолком, светодиодной люстрой в виде морской звезды и бледно-желтыми обоями. Пол скрипел светлым рассохшимся паркетом, уложенным елочкой, в щелях которого скапливалась пыль. Несколько деревянных сегментов в самом углу отошли до такой степени, что, подняв их, можно было увидеть неглубокую полость с залежами строительной крошки. Напротив двери зияло небесной синью окно, на широком подоконнике которого стояли электрический чайник и кружка недопитого чая. Справа от окна располагалась непонятного назначения ниша, в которую помещался комод. Над ними, под самым потолком проходила довольно толстая и крепкая труба отопления, выкрашенная белой эмалевой краской. К ней была привязана бельевая веревка, которая, когда Матвей сушил одежду, была протянута до гвоздя над дверью, но сейчас она висела, спускаясь на комод неряшливым витком. Завершали бытовой минимализм небольшой холодильник и стоящая на нем микроволновка.
По левую стену размещался стол с красной лава-лампой и фигуркой Смеющегося Будды. Над ним висела совершенно ненужная Матвею книжная полка, потому что его скромная бумажная библиотечка занимала слишком мало места. На полке было только две книги: «Шатуны» Мамлеева и «Бардо Тхёдол», тибетская книга мертвых.
Матвей поставил кофр на разложенный диван и невольно увяз вниманием в ковре с оленями, возраст которого определять даже не хотелось. Почему-то в такие моменты ковер терял всю неказистость и окрашивался в оттенки детской ностальгии, а олени начинали смотреть на Матвея мудрыми сочувственными глазами. Сверху ковер венчала выключенная гирлянда.
Умиротворенно вздохнув, Матвей вытащил баян из кофра. Вот-вот должна была нахлынуть вторая волна прихода, которая, конечно, не могла сравниться с самой первой, однако настроение стало достаточно хорошим, чтобы пообщаться с соседями.
Он вооружился баяном и отправился на скудно обставленную кухню. Стол, украшенный безысходным, но бытовым натюрмортом – початая бутылка водки, наполненная рюмка и тарелка с соленой селедкой, усыпанной колечками лука – почему-то был тускло освещен включенным бра с белым шарообразным плафоном.
«Разве сейчас вечер? – задумался Матвей, покосившись на неестественно яркое небо в узкой раме окна. – А ведь возможно, что и вечер…»
За столом, налегая то на селедку, то на водку, сидел Евгений Львович Копейкин: сухопарый ветеран Сирии с протезами вместо двух конечностей, темными волосами, присыпанными пеплом седины, и золотым крестиком поверх майки. Вернувшись с войны, где ему оторвало левые ногу и руку, Копейкин попал в больницу, ему за счет государства поставили бионические конечности не самого лучшего качества, и выписался он с намерением добиться выплаты ветеранского пособия. Однако пособие выплачивать отказались, сославшись на то, что положено оно тем, у кого конечностей нет, а грубоватые протезы Копейкина с заедающими сочленениями юридически считались рабочими конечностями.
Поиск справедливости и бюрократическая волокита привели его к Сильванову, депутату петербургского Заксобрания, и Копейкин пытался пробиться к нему в приемную три раза, но дальше секретарши не прошел. Административный аппарат оказался неумолимее сирийских боевиков – тех хотя бы можно было законно убивать, а ненависть их была логически объяснима. Третья попытка закончилась тем, что Евгений Копейкин вышел на улицу и напал на проходящего мимо полицейского. Конечно, его протезы были не самыми рабочими конечностями, но отказать им в тяжести было трудно. Отсидев три года за нападение на представителя власти, Евгений Копейкин пошел в попрошайки и в итоге осел на Балтийском вокзале. Ему даже не нужно было придумывать историю, ведь она была настоящей: ветеран, калека, сиделец – все, что нужно для народной жалости. В общем-то, он был честным попрошайкой и никогда о себе не врал.
Поставив стул в центр кухни, Матвей сел на него и без предупреждения принялся играть на баяне. Мелодия выходила неопределенная, протяжная и дрожащая. Вдохновенно прикрыв глаза, погрузившись в могучее эхо аккордов, отражающееся от стен, Матвей иногда вспоминал, что его слушают, приходил в себя и кидал на Копейкина быстрый взгляд, но снова отвлекался на музыку. Копейкин сжимал рюмку темно-серыми искусственными пальцами, закусывал селедкой и сплевывал прозрачные кости на тарелку – его все устраивало.
В дверном проеме показался плотно сбитый Женя в темном халате поверх спортивных штанов. Недавно вылетевший из вуза Женя, чью широкую голову негармонично покрывали жидкие волосы и скудная щетина, был единственным квартирантом, который работал официально, хоть и консультантом в «Евросети». В руках он держал кастрюлю, из которой торчали пачка макарон и бутылка с подсолнечным маслом.
- Опять этот нарик вмазался? – недовольно спросил Женя, привычно обойдя Матвея, стараясь его не касаться. - Каждую субботу одно и тоже.
– Не твое дело, - блаженно выдохнул Матвей, не открывая глаз и не сбиваясь с ритма, словно его пальцы и речевой аппарат жили отдельной жизнью. Улыбнувшись, уже нетрезвый Копейкин решил вступиться за него.
- Не трогай человека, он никому не мешает, - миролюбиво сказал он и подцепил бионическими пальцами луковое колечко.
- И мне теперь слушать его шесть часов подряд? – фыркнул Женя, набирая в кастрюлю воду, однако возмущаться перестал. В конце концов, находиться на кухне ему предстояло не дольше сорока минут. Утешало еще и то, что иногда Матвей сбивался с музыки на разговоры, которые обычно вел с Копейкиным.
Растягивая пружинистые меха, Матвей поймал себя на том, что пальцы шевелятся сами, мысли текут в направлении, совсем не связанном с музыкой, а взгляд блуждает самовольно. Вечернее небо за окном вдруг показалось ему настолько синим, что он даже зажмурился. Взгляд Матвея переполз на тусклый белый плафон.
Мысли возникали одновременно, наслаиваясь друг на друга, мчались наперегонки и стекались к одному человеку – Марату.
«Ничего страшного не случится, если я не верну ему деньги, - подумал Матвей с несвойственной ему смелостью, - на хер Марата».
Глава 2
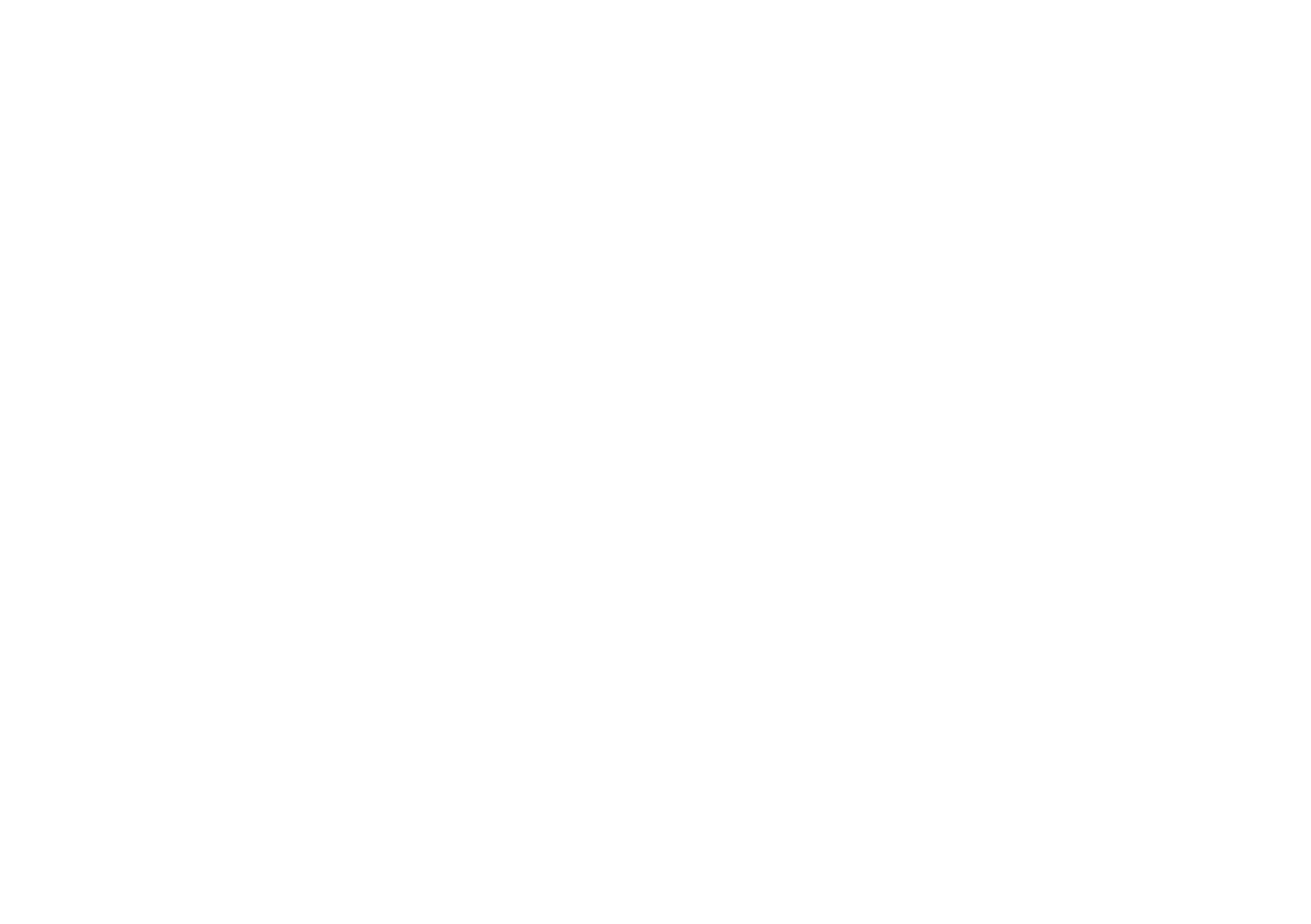
Обладание нарушает мир в душе. Это непроизвольная разрушительная реакция, порождающая мучение.
Дугпа Ринпоче, «Жизненные наставления далай-ламы»
Дугпа Ринпоче, «Жизненные наставления далай-ламы»
июнь, 2030 год
Анемично-бледная рука с резко очерченными костяшками и крупными суставами длинных пальцев потянулась к полке с консервами, и в продуктовую корзину, где уже лежали полкило растворимого кофе и килограмм овсянки, упала, громко звякнув о прутья, консервная банка с сайрой в масле.
- Ну чего ты швыряешь? - назидательно проворчала Матвею корпулентная женщина лет тридцати в красном жилете «Пятерочки», которая расставляла неподалеку зеленый горошек. - Один утром уже швырнул и манку рассыпал, за ним подметать пришлось.
Скорчив консервам гадливую гримасу, Матвей подумал, что жилет женщины мешковатостью своих очертаний напоминает ватник с отрезанными рукавами. Женщина же, проводя визуальную инспекцию, задержалась взглядом на черной футболке Матвея с двусмысленным посылом.
- Хочу и швыряю, - меланхолично отозвался он, печально изогнув губы, - вам-то какое дело?
Как и следовало ожидать, действие свежести закончилось в полночь, и звенящая голова, подернувшись туманом дремы, стала превращаться в тяжелую тыкву. Ближе к вечеру воскресенья, в четыре часа дня Матвей вынырнул из сна - прямиком в отходняк, неизменно следующий после радостных суббот.
- Старшим не хами, машинист, - фыркнула женщина в кроваво-красном ватнике, - на фронт бы тебя, там быстро рога обламывают.
Сообразив, что женщина хронологически застала не только синтетику десятых годов, но и сирийскую войну, Матвей кисло усмехнулся. Пожалуй, если бы не Вероника Николаевна, учившая его играть на баяне, он бы так и не понял, что бросает людей в патриотический угар, но объяснения непосредственных участников очень доходчивы. Впрочем, Вероника Николаевна была бывшей непосредственной участницей. В Сирию она поехала добровольно в качестве медсестры, да и вернулась тоже добровольно – с титановой пластиной в затылке.
Матвей был единственным, кто пропускал музыкальный кружок редко, поэтому часто случалось, что они с Вероникой Николаевной оставались одни в кабинете, и она, сухо кашляя в изящно-нежный кулак, рассказывала Матвею вещи, которые будущим защитникам государства рассказывать уж точно не следовало.
- Когда человек теряет сознание, он еще тяжелее становится. И пока я его тащила, у него совсем нога оторвалась, потерялась где-то в дыму, - медитативно, напрягшись всем телом, рассказывала Вероника Николаевна, пока Матвей вглядывался в ноты. Тон ее был сухим, как жесть.
- А потом? – спросил семнадцатилетний Матвей, косясь на нее распахнутым глазом.
Так же напряженно улыбнувшись, Вероника Николаевна постучала по мягким волосам, скрывающим титановую пластину в ее черепе, и раздался глухой стук, словно ударили палкой по чугунку.
- Суп с котом, - хмыкнула она, - к счастью, на армию тогда тратились, постоянно был морфин. Пока шили, больно не было. Мой муж пьет, и всё ему хорошо. Любовь к родине действует примерно так же.
Не найдя ответа, Матвей неуверенно растянул меха, и баян издал долгую ноту, угасшую на исходе.
- Зачем тебе бряцать оружием? Это всего лишь чья-то фаллометрия, чьи-то амбиции. Оно тебе надо? Не отдавай свою жизнь в чужие руки.
Вероника Николаевна была права, донельзя права, и Матвей, твердо решив никому свою жизнь не отдавать, нашел подработку: сфотографировался с паспортом и отправил заявку в магазин «Килотонна».
Закладчиком Матвей пробыл недолго, чуть больше двух месяцев. В конце концов, у него была определенная цель – купить белый билет, и к концу второго месяца он успешно ее достиг, перейдя в статус ненужного армии мигренозника. Подработка прошла практически без инцидентов: флегматичная натура не давала нежелательным эмоциям проступать на лице, а находчивость помогала в неожиданных и настолько же неприятных ситуациях. Да и бегал Матвей быстро. Впрочем, ему было проще работать, чем многим его ровесникам, у которых на лбу было написано, что они имеют к наркотикам самое прямое отношение, и казачьи патрули обращали на него внимание всего три раза.
Деньги, оставшиеся после приобретения белого билета, Матвей отложил на переезд в Петербург, чтобы сносно пережить хотя бы первые дни на новом месте. Захотев подстраховаться на совсем уж крайний случай, Матвей рассудил, что религиозную мать, судя по слою пыли на деревянной шкатулке, не очень-то волнует мирское, и прихватил с собой ее золотое кольцо. Как выяснилось уже через несколько месяцев жизни в Петербурге, ломбарды оценивали его примерно в пять тысяч рублей.
Эти несколько месяцев Матвей работал в затрапезном кафе на Садовой, куда его взяли официантом. Свободное время он проводил в курилке, окна которой выходили на скругленную арку. За ее резными воротами виднелся сумрак тесного двора-колодца. Крупные ярко-желтые кирпичи вокруг арки пестрели розовыми объявлениями с мобильными телефонами и звучными именами: Катюша, Анжела, Лолита, Доминика… Когда поднимался влажный ветер, розовые листки дрожали, как отстающая чешуя.
Часть объявлений вела на Сенную площадь, с которой соседствовала Садовая улица, и проститутку там мог снять даже бюджетник, не боящийся играть с Венерой в русскую рулетку. Мало что изменилось со времен Достоевского и Крестовского, петербургские трущобы не утратили своей внутренней сути, да и внешне остались почти такими же. Изменились лишь крой одежды, лексика и формы опьянения.
Период, когда криминалом занималась организованная преступность, живущая по тюремному укладу, уже давно миновал: в начале девяностых проституция и наркоторговля стали вотчиной находчивых сотрудников МВД, а спустя тридцать лет сеть наркоторговцев попала в руки высших лиц государства, некогда служащих в ФСБ. Логистика стала более упорядоченной, масштабы увеличились, а доход, само собой, вырос – как у распространителей, так и у правительства.
Большую часть действующих дилеров, исключая особенно хитрых и тех, кто пока не попал в поле зрения влиятельных лиц, контролировал невский синдикат, скрывающийся за казенным тетраграмматоном - ФСКН. Истоки ФСКН брали начало в нулевых, когда Интерпол, сотрудничая с европейскими странами и надеясь выйти на явно серьезного заказчика, отслеживал маршрут тонны кокаина. Грузовик километр за километром приближался к конечному адресату, но на российской границе пропал и больше не объявлялся, а российские власти сообщили Интерполу, что никакой кокаин через таможню не провозили. Одним из людей, давшим добро и пропустившим грузовик с «пекинской капустой», был Алексей Петров, доверенное лицо тогда еще нестарого президента, а ныне – глава ФСКН.
До Матвея доходили сомнительные слухи о том, что достаточно крупные или сообразительные дилеры формально числятся в ФСКН «внешними сотрудниками», что у них даже есть корочка, которой в случае конфликта можно тыкать в недовольное лицо собеседника, явно не желающего бодаться с силовыми структурами. Новое руководство предпочитало решать конфликты с холодной вежливостью власть имущего, хватаясь за оружие лишь в тех случаях, когда вежливость не срабатывала.
Матвей не знал, кто из его знакомых был «внешним сотрудником». Открыто об этом не говорили, и оставалось лишь строить предположения. Представить в этой роли можно было и Ларису, и Марата. В пользу Ларисы говорил тот факт, что она была излишне осведомленной и спокойно продавала из рук в руки – уже год. Марат же сам жаловался некоторым клиентам, что опять подходит срок платежа, а нужной суммы у него нет. Жалобы эти напоминали угрозы, и нужная сумма быстро находилась.
Вспомнив, что дома нет гречки, Матвей направился обратно к крупам. Он даже остался немного доволен сдержанной перепалкой, которая позволила сбросить часть психического напряжения, поэтому собственная забывчивость его не задела. Наверное, Матвей мог купить гречку, вернуться домой и заснуть еще раз – до следующего утра. Но событиям было суждено пойти по другому маршруту, и началом их стала беседа, в рамках человеческой жизни кажущаяся бытовой и незначительной. Матвей почувствовал, как в кармане беззвучно завибрировал телефон.
Матвей редко говорил по телефону, отдавая предпочтение мессенджерам, в частности, телеграму, точно так же предпочитали общаться его приятели, а звонки шли в ход лишь в том случае, если связаться нужно было срочно. И судя по тому, что Горбовский сбрасывать не собирался, дело не терпело отлагательств. По крайней мере, по мнению Горбовского.
Из всех петербургских знакомых Слава Горбовский был самым близким другом Матвея. Несмотря на очевидную противоположность социальных страт: Горбовский, некогда живший в Москве и учившийся в МГИМО, был не очень любимым, но все-таки племянником влиятельной женщины из петербургского Заксобрания, которая с недавних пор всеми силами старалась скрыть от общественности их родство. Он представлял собой молодого человека со степенным лицом, фотогеничность которого портил только загнутый книзу кончик длинного носа, и пестрыми рукавами от запястий до локтей: на левой руке раскинул перламутрово-зеленый хвост павлин, увенчанный черно-синей короной гребня, а правую руку обвивали бледно-голубые бутоны цветущих лотосов.
В Петербург Горбовского заставила переехать нехорошая, даже грязная история, произошедшая, когда он учился на втором курсе юрфака и нюхал слишком много кокаина. Подробностей не знал никто – об этом позаботилась хваткая тетушка, но точно было известно, что Горбовский, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил человека. То ли сделав его инвалидом, то ли задавив насмерть. Вердикт тетушка вынесла быстро: заставила отчисленного племянника покинуть Москву и сняла его с довольствия, оставив лишь минимальные двадцать тысяч в месяц.
Стремление было благородное и даже идеалистическое: кинуть его в жизнь простых людей, чтобы до него наконец дошло, как тяжело зарабатывать деньги, которые он все это время транжирил. К сожалению, тетушка плохо знала реалии низших слоев населения, в которые она макнула племянника, а особенно реалии маргинального Петербурга. Питерский прайс приятно удивил Горбовского, привыкшего к столичным расценкам. К тому же, он оправдал ожидания тетушки и даже начал зарабатывать сам. Не совсем так, конечно, как она ожидала.
Продавать Горбовский опасался и наркоторговцем не был. Его работа заключалась в том, что он создавал фальшивые аккаунты дилеров, находил излишне доверчивых покупателей и исчезал с их деньгами навсегда. С точки зрения закона его действия были мошенничеством, но уж точно не сбытом.
Политические убеждения Горбовского были такими же своеобразными, как и его работа: левые считали его правым, а правые левым, поэтому он вписался в ельцинизм, который счел достаточно постироничным для своего неопределенного положения. То ли в шутку, то ли всерьез он не любил коммунистов и трезвенников, ратовал за свободный рынок и нахваливал ледовласого Ельцина, путаясь в себе и не до конца понимая, что из этого он делает искренне, а что ради забавы.
- Приходи к Ладе в гости, мы тут с Асей сидим, - скороговоркой выпалил Горбовский, как только Матвей взял трубку, - будет весело.
Матвей смекнул, что очевидно ускоренный Горбовский хочет разбить компанию на пары, никого при этом не обидев, и в любой другой день наверняка бы согласился, но сегодня это было для него непосильным подвигом. Мысли в голове ворочались исключительно мрачные, даже завтрак утром не влез в горло, внушив одним лишь видом позывы к тошноте.
- Вчера я освежился, и сегодня мне хочется только сдохнуть, - мрачным тоном сказал Матвей.
– Ася принесла тебе долг, - многозначительно произнес Горбовский и намекнул для верности еще раз, - долг, который обещала отдать. Помнишь?
Естественно, Матвей помнил. Месяц назад Ася взяла у него в долг три тысячи, и Матвей, чтобы сократить маршрут, исключив из него киви-терминал и место закладки, предложил вернуть долг граммом мефедрона. Ася долго тянула с возвратом, и сегодня он пришелся как нельзя кстати.
- Я примерно через два часа у вас буду. Я дома сейчас.
- Как раз вовремя, Лада пока спит.
Были все шансы застрять в квартире Лады до утра, если не до обеда, и Матвей, оставив продукты дома, взвалил на плечи баян и поспешил на электричку. Не то что бы его манила возможность с кем-то перепихнуться, хотя такой вариант он на всякий случай рассматривал, но предложенный мефедрон склонил его к согласию. В лучшем случае он хорошо проведет время, а в худшем просто поправит депрессивное состояние.
Лада жила на улице Коллонтай, неподалеку от перекрестка с проспектом Солидарности: над шумной асфальтовой дорогой одинокой свечой возвышалась грязно-белая брежневка в шестнадцать этажей, а напротив нее располагался психоневрологический интернат. Выйдя из лифта на душную от сигаретного дыма лестничную клетку, Матвей постучал по железной двери, покрытой в углах вкраплениями ржавчины, и открыла осунувшаяся за полгода Лада. Каштаново-рыжие волосы густой волной падали на левое плечо, легкий домашний халат доходил до шишковатых колен, а под томно опущенными веками виднелись маковые зерна суженных зрачков.
- Здравствуй, Матвей, - произнесла Лада с бархатными интонациями бордель-маман и степенно поцеловала его в лоб, - очень рада, что ты пришел. Но есть нюанс.
- Какой еще нюанс! – не выдержал он. – Где мой меф?!
- Марат пришел. Мы пытались его выгнать, но он сказал, что через час сам уйдет.
- Вот как, значит…
- Мы его не приглашали. Он пьяный, избитый и подозрительно молчит. Говорит, что не хочет пока уходить.
- В смысле, не хочет? – вспылил Матвей. - Он у себя дома, что ли? Чего вы с ним так миндальничаете? Что он - единственный барыга в городе? В конце концов, в Питере мы или где? Их тут как собак нерезаных, выбирай не хочу!
Матвей не помнил, как прошли две недели в квартире Марата, но точно знал, чего в тот период не происходило, поэтому относился к нежелательному амнезическому эпизоду с легкой досадой, лишний раз себя не накручивая. И все же это не мешало ему тихо ненавидеть Марата, особенно в такие дни. Матвей выдохнул. В голове забрезжила идея.
- Если вы хотите его выгнать, но не можете, давайте это сделаю я. Мне хуже не будет, к тому же, я его терпеть не могу. Всем полегчает: и вам, и мне. Я как раз в подходящей кондиции.
Вскинув подбородок, Лада заинтересованно сверкнула глазами.
- Вечер перестает быть томным, - хмыкнула она и сонным взмахом руки предложила Матвею войти, - если ты так хочешь…
Матвей ступил в прохладный коридор, к липкому полу которого присохла двухнедельная пыль, и разулся. Вытянув шею, он осторожно заглянул в дверной проем, за которым виднелся зал. На фоне ярких штор, скрестив ноги, сидел на полу Горбовский. Он кутался в черный флаг с портретом Ельцина, который окружали зигзаги Черного солнца. На подоконнике, возвышаясь над остальными, сидела низкорослая, но бойкая Ася, одетая в прозрачный плащ из синего пластика. Зеленые дреды были собраны в хвост, на носу косо сидели квадратные очки в синей оправе, а во лбу блестела крупная наклеенная страза. Сжимая в руке освежитель воздуха, Ася оживленно жестикулировала и так же оживленно о чем-то рассказывала. Матвей прислушался.
- …распечатали листовки и пошли клеить. Нас, конечно, уже вызывали из-за абортов в центр «Э», но нигилистов в девятнадцатом веке подобные казусы не останавливали. Разве мы хуже?
- И что случилось? – спросил Горбовский.
- Пришлось в лучших традициях русского протестного движения убегать от казаков. Век другой, а дерьмо всё то же. Ряженые клоуны.
- А освежитель откуда? – раздался тянущийся, словно резина, нетрезвый голос Марата – как раз из того угла, в который Матвей пока не мог заглянуть.
- В супермаркете украла.
- Зачем он тебе? – с еще большей грубостью спросил Марат, явно провоцируя Асю на ссору. Но она лишь презрительно покосилась на него с высоты подоконника и феминистского дискурса:
- Это освежитель от мужиков, Маратик. Чтобы таких, как ты, отпугивать.
Матвей вошел в зал, улыбнулся, не размыкая губ, и молча помахал рукой Асе и Горбовскому. Горбовский, от внимания которого не ускользнул агрессивный настрой Матвея, слегка нахмурился, а вот Ася почему-то хихикнула. Их зрачки затмевали радужку, а челюсти мелко подрагивали. Наконец Матвей повернул голову и заметил Марата, который полулежал в пухлом кресле. И без того неопрятный Марат сегодня был весь в пыли, прозрачно-водянистые глаза глядели мутно, а пахло от него перегаром. Подбитый правый глаз опух, кожа вокруг него была иссиня-фиолетовой. Когда Марат понял, что на него смотрят, и увидел, кто на него смотрит, он напрягся всем телом.
Вальяжно пройдя между ними, Лада улеглась на диван. Лицо ее выражало блаженство, однако кончики губ оттягивало вниз, и в улыбку они не собирались.
- Ну привет, - мрачно заворочал языком Марат. Судя по голосу, он был порядочно пьян и раскоординирован, и пришел сюда, скорее всего, на автопилоте. Не факт, что и сейчас он полностью осознавал происходящее.
- Я звонил тебе, но ты не брал трубку, - уверенно произнес Матвей. Марат лишь издал хриплый смешок:
- А я знаю, что ты звонил.
Поставив кофр в изголовье дивана, Матвей вопросительно посмотрел на Асю, и она поняла его без слов. Сунув руку в карман шорт, она достала мятый зиплок с мефедроном, который Матвей тут же нетерпеливо выхватил.
- Поехали, - пробормотал он себе под нос, вытаскивая из кармана скидочную карту «Пятерочки», прямоугольник белого пластика с красно-зеленым пищевым принтом. Уместившись между Горбовским, который молчал и чего-то ждал, и Асей, злорадно скалящей зубы, Матвей раскатал на подоконнике жирную дорожку. От беловатого порошка, в котором можно было высмотреть очень бледные оттенки серого и розового, слабо пахло фиалками. Глубоко шмыгнув, Матвей прочистил нос, втянул дорожку через скрученную десятирублевку, и выжженную слизистую колко обожгло. Он шмыгнул еще раз, пальцем собрал с карты и подоконника остатки мефедрона и втер его в десны.
Марат исподлобья смотрел перед собой. Горбовский попытался встать, но Ася, еще сильнее обнажив зубы, помотала головой, и ему пришлось сесть обратно. Прошла минута.
«Ну и где?» - нервно подумал Матвей, ощущая из всего набора эффектов лишь легкое жжение в носу и взвинченность, совершенно лишенную радости. Стимулятор сыграл свою роль и возбудил нервную систему, вот только она уже не реагировала на него правильно. Это было нехорошее, злое возбуждение.
- Сколько вы с ней трахались? – грубо выпалил Марат, рывком подняв с кресла пошатывающееся туловище. - Месяц? Полгода?
- Не твое дело, - огрызнулся Матвей, резко повернувшись к нему. Будто кто-то дернул рубильник, и уровень злости в одну секунду достиг критической отметки. Поняв, что речь идет о ней, скучающая Лада с ленцой приподняла тяжелые веки. Она смотрела на них с декадентским любопытством, как на двух половозрелых лосей, дерущихся за внимание самки. Вот только ни Марату, ни Матвею уже полгода как ничего не светило, а исход стычки на решение Лады повлиять не мог.
- Провоцируешь меня? На твоем месте должен был быть я, понятно? Зачем ей вообще понадобилась такая грязь из-под ногтей? – громко выкрикнул Марат, и его голос эхом отразился от стен.
- Она сама решает, с кем ей спать, а с кем нет!
- Как самочувствие, Матвей? – хихикнул вдруг Марат. – Оклемался или до сих пор отходишь? Я постарался и правильно все сделал, не ошибся с пропорциями. Можешь гордиться: я тебе отдельно варил.
Стиснув зубы, Матвей уставился на него - отупело, с ноткой запоздалого понимания.
- Удивительно, что ты не свихнулся. У тебя крепкая психика.
- Нельзя так, может ты… - робко обратился к нему Горбовский, но Марат даже не услышал его. Он заученно выдавливал из себя монолог, который уже не раз прокручивал в воображении, дожидаясь подходящего момента:
- Жаль, что ты не отъехал, но так даже лучше вышло. Ты, конечно, не Эдичка, и партии у тебя нет, но писать мемуары ты уже можешь.
Матвей, которого наконец охватил задор, удовлетворенно кивнул. Он читал Лимонова и более-менее понял намек, избавив Марата от унизительной необходимости объяснять слишком контркультурную остроту.
- С козырей пошел? – весело процедил сквозь зубы Матвей, вовсю разогнанный мефедроном. – Ты пиздишь, Марат. И сейчас я объясню почему.
Почесывая лицо, Лада залипла. Волосы разметались по обивке дивана, а боковой разрез халата оголил мягкое бледное бедро. Она слышала перепалку, но слова доходили до нее сквозь золотистую пелену полусна. Распалившийся Матвей тараторил, и остановить его в ближайшие пять минут казалось невозможным: аргументов у него накопилось много.
- Круг наших общих знакомых гораздо шире, чем ты думаешь, а твоя квартира – самый настоящий проходной двор. В сутки через нее проходит человек десять. То есть, за две недели там побывало больше ста человек. И если бы что-то подобное случилось, часть наших общих знакомых была бы в курсе. Однако прошло три месяца, а я узнаю об этом только сейчас, еще и от тебя. А ты, Марат, не самый беспристрастный источник.
За год систематического употребления свежести Марат несколько потерял связь с реальностью и возомнил себя божком районного масштаба. Конечно же, он ожидал совсем другой реакции. На лице у него застыло детское изумление, смешанное со злостью.
- Запрета на съемку у тебя в хате нет, так что половина гостей явно что-то снимали, а самые неосторожные даже выкладывали в соцсети, - увлеченно продолжал Матвей, довольно прихохатывая, - но я проверил страницы всех наших знакомых и ничего компрометирующего не нашел. А их больше тридцати человек.
У него нездорово раскраснелись щеки, пальцы и челюсть подергивало тремором, но ничего этого Матвей не замечал – слишком уж он зациклился на обвинении Марата. Готовый к худшему Горбовский встал, и на этот раз Ася не стала его останавливать: предчувствуя близость кульминации, она тоже насторожилась и зубы больше не скалила.
- К тому же, ты у нас любимчик Венеры, а печень у тебя такая жирная, будто тебя откармливают на фуа-гра. А я тогда на всякий случай проверился: и в кожвене, и на вич, и на гепатит. Мало ли, с кем я спал и какими баянами кололся. У нас ведь, если ты не в курсе, эпидемия вич. И что ты думаешь? Я здоров. Что из этого следует? Что ты пиздишь, Марат, - на одном дыхании выпалил Матвей и хитро добавил, - и есть еще один, самый важный аргумент.
- Какой? – удивленно спросил Марат. Матвей сжал правую руку в кулак и размашисто ударил Марата по уже подбитому глазу.
Вскрикнув, тот согнулся в половину своего роста и угрожающе качнулся к полу, но чудом выпрямился. По-собачьи оскалившись, он с ловкостью пьяного, который не чувствует боли и намерен ввязаться в историю, саданул Матвея по носу. Матвей рухнул на пол, и затылок пронзило болью, разлившейся по черепу. Взвыв, он схватился за нос. Истощенная слизистая не выдержала: алая кровь марала пальцы Матвея, стекала по скулам, ее тяжелые капли терялись в светлых волосах.
- Эй, Марат! – выкрикнула Ася, крепко сжав в руках освежитель воздуха. Марат обернулся, и она брызнула освежителем ему в глаза, залив их щедрой струей химиката.
- А-а-а! – бессвязно взревел Марат, прижав ладони к лицу. Горбовский оборвал его вопль, ударив Марата кулаком в живот. Тот согнулся, осел на пол, как куль со старым тряпьем, и сжался, притянув к животу колени.
- Я только снюхал, а ты мне нос разбил, - прогнусавил Матвей, поднявшись, - кретин…
- Ты-то куда лезешь, дурак? – сдавленно шипел Марат в сторону Горбовского. – Радуйся, что тебя это не касается!
Он часто моргал, из пораженных глаз бежали слезы. Очнувшись от дремы, Лада встала с дивана и с некоторым удивлением оглядела разъяренных гостей. Вздохнув полной грудью, она извлекла из-под диванной подушки носовой платок.
- Прям стендап, - довольно произнесла она, вытирая Матвею лицо, - Славик, можешь вытащить его в подъезд? Пусть домой идет.
Сосредоточенно кивнув, Горбовский ухватил дезориентированного Марата за руки и волоком потащил к двери.
- Ты пожалеешь об этом, мразь! – кричал Марат, видя сквозь пелену слез искаженного Горбовского и дергаясь всем телом, словно дождевой червяк. - Будешь вместе с Грязевым говно разгребать!
Вернулся он уже без Марата. Озадаченный, но заметно радостный Матвей топтался на месте и комкал в руках окровавленный платок, то и дело прикладывая его к носу. Лада снова лежала на диване, глаза ее были закрыты, а грудь мерно вздымалась.
- Ну и хули вы ждете? – спросила Ася. – Сваливать надо: вдруг соседи полицию вызвали, пока он тут орал.
- Может, к тебе? – предложил Горбовский, снова кутаясь во флаг с Ельциным. Он указал рукой на Матвея. – У него есть меф, и он уже начал его нюхать. Скоро его отпустит, и что он будет делать? На улице догоняться? Или в своей коммуналке?
Слава жил неподалеку, на Дыбенко, но он снимал комнату, как и Матвей. Хозяйка квартиры проживала в одной из комнат и к Горбовскому была настроена негативно, а к его гостям уж тем более. А вот у Аси был дом в Девяткино, неподалеку от метро. По субботам там собирался политический кружок, частью которого Ася была уже год, зато сегодня дом пустовал.
Когда они вышли из квартиры, Марата в подъезде уже не было. Рассудив, что он прозрел и отправился домой, они со спокойной душой пошли к метро. До Девяткино пришлось добираться час. За крепко сколоченным забором прятался поблекший на солнце домишко из красного кирпича, крыша которого была устлана сероватым шифером. Нескольких сегментов не хватало, и в крыше дома зияли черные пустоты. Слева от дома раскинулся скромный вегетарианский огород с грядками латука, сельдерея и петрушки, а в углу участка стоял железный бак, до краев наполненный водой.
Ночь не принесла облегчения. Каждый час Матвей исправно нюхал по дороге, всякий раз делая ее чуть толще, однако чуда не наступало: прежняя оживленность шла на спад, уступая место утренней тоске, а накопительный эффект никак себя не проявлял.
За окном мерцал острый серп луны. Горбовский бренчал на гитаре, периодически прерываясь на перекур, Ася танцевала, стряхивая пепел прямо на пол, и всё это они проделывали, не переставая беседовать: как друг с другом, так и с Матвеем. Матвей тоже курил одну за одной, наполняя окурками консервную банку. Он сидел за кухонным столом, скупо поддерживая разговоры, скачущие с одной темы на другую, и не мог присоединиться к общему празднику жизни.
Если поначалу Матвей находил в происходящем нечто трогательное и умиротворяющее, то теперь он стремительно трезвел, и поведение друзей, временно отгородившихся от мира, стало казаться ему даже жутким. Они словно рассинхронизировались, и Матвей уже не в первый раз осознал, что пятый час подряд Горбовский с Асей совершают бессмысленные зацикленные действия, находя их веселыми, что случается это несколько раз в неделю и – самое удивительное - что и он нередко в этом участвует, ощущая точно такое же самое мерклое веселье. Матвей уже не видел в танцах и музыке ничего оптимистичного. Мир сдвинулся, и они приобрели неуловимый макабрический оттенок провинциальных поминок, вставший во весь рост из рассказов Мамлеева.
«На отходах, трезвый в хлам, - угрюмо подумал Матвей, - сижу в сраном Девяткино…»
- Эй, Грязев, - окликнул его Горбовский, - чего хмурый такой?
- Я свежестью ставлюсь, не берет меня меф! – огрызнулся Матвей и осекся, поймав себя на излишней агрессии. Ускоряться дальше не было смысла: он или разозлится еще сильнее, или вовсе передознется.
- Извините, - пробормотал он, - мне не по себе с самого утра. Еще и Марат… Ася, дашь дунуть? Я лучше спать пойду. Я сегодня везде не к месту.
В подвале Ася прятала гроубокс, что и было причиной ее гостеприимства. Она отправила Матвея спать на чердак, а сама ушла в огород – достать из тайника гостинец. Матвей лежал на плотном матрасе и не мог сомкнуть глаз. Изнутри чердака зияющие дыры совсем не казались черными: одна из них была занавешена серой тряпкой, а сквозь другую виднелись блеклая зелень огорода и железный бак с темной массой воды. Время от времени под скосом чердака звенела музыка ветра в виде золотистых дельфинов, и тихий звон отдавался в висках Матвея досадливым отзвуком.
Через пять минут на чердак поднялась Ася, прижимающая к груди свеженарезанный водник. В кулаке у нее виднелся спичечный коробок.
- Больше пяти хапок не советую, - деловито сообщила она, - тебя разбудить в четыре? Пойдешь на работу?
- К херам работу, - проворчал Матвей, усаживаясь и доставая зажигалку, - когда проснусь, тогда и проснусь.
Ася оказалась права: уже на третьей хапке Матвей ощутил, как голова наполняется туманом. Спал он крепко. На устьях ноздрей застыли сопли, смешанные с кровью, консистенцией напоминающие мучной клейстер. Ближе к полудню Матвей проснулся от голода, который мучил его уже сутки, но не мог пробиться сквозь сломанную сигнальную систему. Рядом с водником стоял пластиковый контейнер для еды, накрытый прозрачной крышкой, под которой виднелись брокколи в сливочном соусе.
Съев все без остатка, Матвей улегся на правый бок. Вода в баке сверкала под солнцем таким ярко-белым блеском, что на нее было больно смотреть. Матвей перевернулся на левый бок. Пробоина в этой части крыши была занавешена тряпкой, и свет, проникающий через нее, падал на пол дымчато-серым пологом.
Матвею снился серый дым. Вдали глухо звенели колокола и лаяли собаки, а где-то за спиной горел слепящим огнем ясный свет.
Анемично-бледная рука с резко очерченными костяшками и крупными суставами длинных пальцев потянулась к полке с консервами, и в продуктовую корзину, где уже лежали полкило растворимого кофе и килограмм овсянки, упала, громко звякнув о прутья, консервная банка с сайрой в масле.
- Ну чего ты швыряешь? - назидательно проворчала Матвею корпулентная женщина лет тридцати в красном жилете «Пятерочки», которая расставляла неподалеку зеленый горошек. - Один утром уже швырнул и манку рассыпал, за ним подметать пришлось.
Скорчив консервам гадливую гримасу, Матвей подумал, что жилет женщины мешковатостью своих очертаний напоминает ватник с отрезанными рукавами. Женщина же, проводя визуальную инспекцию, задержалась взглядом на черной футболке Матвея с двусмысленным посылом.
- Хочу и швыряю, - меланхолично отозвался он, печально изогнув губы, - вам-то какое дело?
Как и следовало ожидать, действие свежести закончилось в полночь, и звенящая голова, подернувшись туманом дремы, стала превращаться в тяжелую тыкву. Ближе к вечеру воскресенья, в четыре часа дня Матвей вынырнул из сна - прямиком в отходняк, неизменно следующий после радостных суббот.
- Старшим не хами, машинист, - фыркнула женщина в кроваво-красном ватнике, - на фронт бы тебя, там быстро рога обламывают.
Сообразив, что женщина хронологически застала не только синтетику десятых годов, но и сирийскую войну, Матвей кисло усмехнулся. Пожалуй, если бы не Вероника Николаевна, учившая его играть на баяне, он бы так и не понял, что бросает людей в патриотический угар, но объяснения непосредственных участников очень доходчивы. Впрочем, Вероника Николаевна была бывшей непосредственной участницей. В Сирию она поехала добровольно в качестве медсестры, да и вернулась тоже добровольно – с титановой пластиной в затылке.
Матвей был единственным, кто пропускал музыкальный кружок редко, поэтому часто случалось, что они с Вероникой Николаевной оставались одни в кабинете, и она, сухо кашляя в изящно-нежный кулак, рассказывала Матвею вещи, которые будущим защитникам государства рассказывать уж точно не следовало.
- Когда человек теряет сознание, он еще тяжелее становится. И пока я его тащила, у него совсем нога оторвалась, потерялась где-то в дыму, - медитативно, напрягшись всем телом, рассказывала Вероника Николаевна, пока Матвей вглядывался в ноты. Тон ее был сухим, как жесть.
- А потом? – спросил семнадцатилетний Матвей, косясь на нее распахнутым глазом.
Так же напряженно улыбнувшись, Вероника Николаевна постучала по мягким волосам, скрывающим титановую пластину в ее черепе, и раздался глухой стук, словно ударили палкой по чугунку.
- Суп с котом, - хмыкнула она, - к счастью, на армию тогда тратились, постоянно был морфин. Пока шили, больно не было. Мой муж пьет, и всё ему хорошо. Любовь к родине действует примерно так же.
Не найдя ответа, Матвей неуверенно растянул меха, и баян издал долгую ноту, угасшую на исходе.
- Зачем тебе бряцать оружием? Это всего лишь чья-то фаллометрия, чьи-то амбиции. Оно тебе надо? Не отдавай свою жизнь в чужие руки.
Вероника Николаевна была права, донельзя права, и Матвей, твердо решив никому свою жизнь не отдавать, нашел подработку: сфотографировался с паспортом и отправил заявку в магазин «Килотонна».
Закладчиком Матвей пробыл недолго, чуть больше двух месяцев. В конце концов, у него была определенная цель – купить белый билет, и к концу второго месяца он успешно ее достиг, перейдя в статус ненужного армии мигренозника. Подработка прошла практически без инцидентов: флегматичная натура не давала нежелательным эмоциям проступать на лице, а находчивость помогала в неожиданных и настолько же неприятных ситуациях. Да и бегал Матвей быстро. Впрочем, ему было проще работать, чем многим его ровесникам, у которых на лбу было написано, что они имеют к наркотикам самое прямое отношение, и казачьи патрули обращали на него внимание всего три раза.
Деньги, оставшиеся после приобретения белого билета, Матвей отложил на переезд в Петербург, чтобы сносно пережить хотя бы первые дни на новом месте. Захотев подстраховаться на совсем уж крайний случай, Матвей рассудил, что религиозную мать, судя по слою пыли на деревянной шкатулке, не очень-то волнует мирское, и прихватил с собой ее золотое кольцо. Как выяснилось уже через несколько месяцев жизни в Петербурге, ломбарды оценивали его примерно в пять тысяч рублей.
Эти несколько месяцев Матвей работал в затрапезном кафе на Садовой, куда его взяли официантом. Свободное время он проводил в курилке, окна которой выходили на скругленную арку. За ее резными воротами виднелся сумрак тесного двора-колодца. Крупные ярко-желтые кирпичи вокруг арки пестрели розовыми объявлениями с мобильными телефонами и звучными именами: Катюша, Анжела, Лолита, Доминика… Когда поднимался влажный ветер, розовые листки дрожали, как отстающая чешуя.
Часть объявлений вела на Сенную площадь, с которой соседствовала Садовая улица, и проститутку там мог снять даже бюджетник, не боящийся играть с Венерой в русскую рулетку. Мало что изменилось со времен Достоевского и Крестовского, петербургские трущобы не утратили своей внутренней сути, да и внешне остались почти такими же. Изменились лишь крой одежды, лексика и формы опьянения.
Период, когда криминалом занималась организованная преступность, живущая по тюремному укладу, уже давно миновал: в начале девяностых проституция и наркоторговля стали вотчиной находчивых сотрудников МВД, а спустя тридцать лет сеть наркоторговцев попала в руки высших лиц государства, некогда служащих в ФСБ. Логистика стала более упорядоченной, масштабы увеличились, а доход, само собой, вырос – как у распространителей, так и у правительства.
Большую часть действующих дилеров, исключая особенно хитрых и тех, кто пока не попал в поле зрения влиятельных лиц, контролировал невский синдикат, скрывающийся за казенным тетраграмматоном - ФСКН. Истоки ФСКН брали начало в нулевых, когда Интерпол, сотрудничая с европейскими странами и надеясь выйти на явно серьезного заказчика, отслеживал маршрут тонны кокаина. Грузовик километр за километром приближался к конечному адресату, но на российской границе пропал и больше не объявлялся, а российские власти сообщили Интерполу, что никакой кокаин через таможню не провозили. Одним из людей, давшим добро и пропустившим грузовик с «пекинской капустой», был Алексей Петров, доверенное лицо тогда еще нестарого президента, а ныне – глава ФСКН.
До Матвея доходили сомнительные слухи о том, что достаточно крупные или сообразительные дилеры формально числятся в ФСКН «внешними сотрудниками», что у них даже есть корочка, которой в случае конфликта можно тыкать в недовольное лицо собеседника, явно не желающего бодаться с силовыми структурами. Новое руководство предпочитало решать конфликты с холодной вежливостью власть имущего, хватаясь за оружие лишь в тех случаях, когда вежливость не срабатывала.
Матвей не знал, кто из его знакомых был «внешним сотрудником». Открыто об этом не говорили, и оставалось лишь строить предположения. Представить в этой роли можно было и Ларису, и Марата. В пользу Ларисы говорил тот факт, что она была излишне осведомленной и спокойно продавала из рук в руки – уже год. Марат же сам жаловался некоторым клиентам, что опять подходит срок платежа, а нужной суммы у него нет. Жалобы эти напоминали угрозы, и нужная сумма быстро находилась.
Вспомнив, что дома нет гречки, Матвей направился обратно к крупам. Он даже остался немного доволен сдержанной перепалкой, которая позволила сбросить часть психического напряжения, поэтому собственная забывчивость его не задела. Наверное, Матвей мог купить гречку, вернуться домой и заснуть еще раз – до следующего утра. Но событиям было суждено пойти по другому маршруту, и началом их стала беседа, в рамках человеческой жизни кажущаяся бытовой и незначительной. Матвей почувствовал, как в кармане беззвучно завибрировал телефон.
Матвей редко говорил по телефону, отдавая предпочтение мессенджерам, в частности, телеграму, точно так же предпочитали общаться его приятели, а звонки шли в ход лишь в том случае, если связаться нужно было срочно. И судя по тому, что Горбовский сбрасывать не собирался, дело не терпело отлагательств. По крайней мере, по мнению Горбовского.
Из всех петербургских знакомых Слава Горбовский был самым близким другом Матвея. Несмотря на очевидную противоположность социальных страт: Горбовский, некогда живший в Москве и учившийся в МГИМО, был не очень любимым, но все-таки племянником влиятельной женщины из петербургского Заксобрания, которая с недавних пор всеми силами старалась скрыть от общественности их родство. Он представлял собой молодого человека со степенным лицом, фотогеничность которого портил только загнутый книзу кончик длинного носа, и пестрыми рукавами от запястий до локтей: на левой руке раскинул перламутрово-зеленый хвост павлин, увенчанный черно-синей короной гребня, а правую руку обвивали бледно-голубые бутоны цветущих лотосов.
В Петербург Горбовского заставила переехать нехорошая, даже грязная история, произошедшая, когда он учился на втором курсе юрфака и нюхал слишком много кокаина. Подробностей не знал никто – об этом позаботилась хваткая тетушка, но точно было известно, что Горбовский, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил человека. То ли сделав его инвалидом, то ли задавив насмерть. Вердикт тетушка вынесла быстро: заставила отчисленного племянника покинуть Москву и сняла его с довольствия, оставив лишь минимальные двадцать тысяч в месяц.
Стремление было благородное и даже идеалистическое: кинуть его в жизнь простых людей, чтобы до него наконец дошло, как тяжело зарабатывать деньги, которые он все это время транжирил. К сожалению, тетушка плохо знала реалии низших слоев населения, в которые она макнула племянника, а особенно реалии маргинального Петербурга. Питерский прайс приятно удивил Горбовского, привыкшего к столичным расценкам. К тому же, он оправдал ожидания тетушки и даже начал зарабатывать сам. Не совсем так, конечно, как она ожидала.
Продавать Горбовский опасался и наркоторговцем не был. Его работа заключалась в том, что он создавал фальшивые аккаунты дилеров, находил излишне доверчивых покупателей и исчезал с их деньгами навсегда. С точки зрения закона его действия были мошенничеством, но уж точно не сбытом.
Политические убеждения Горбовского были такими же своеобразными, как и его работа: левые считали его правым, а правые левым, поэтому он вписался в ельцинизм, который счел достаточно постироничным для своего неопределенного положения. То ли в шутку, то ли всерьез он не любил коммунистов и трезвенников, ратовал за свободный рынок и нахваливал ледовласого Ельцина, путаясь в себе и не до конца понимая, что из этого он делает искренне, а что ради забавы.
- Приходи к Ладе в гости, мы тут с Асей сидим, - скороговоркой выпалил Горбовский, как только Матвей взял трубку, - будет весело.
Матвей смекнул, что очевидно ускоренный Горбовский хочет разбить компанию на пары, никого при этом не обидев, и в любой другой день наверняка бы согласился, но сегодня это было для него непосильным подвигом. Мысли в голове ворочались исключительно мрачные, даже завтрак утром не влез в горло, внушив одним лишь видом позывы к тошноте.
- Вчера я освежился, и сегодня мне хочется только сдохнуть, - мрачным тоном сказал Матвей.
– Ася принесла тебе долг, - многозначительно произнес Горбовский и намекнул для верности еще раз, - долг, который обещала отдать. Помнишь?
Естественно, Матвей помнил. Месяц назад Ася взяла у него в долг три тысячи, и Матвей, чтобы сократить маршрут, исключив из него киви-терминал и место закладки, предложил вернуть долг граммом мефедрона. Ася долго тянула с возвратом, и сегодня он пришелся как нельзя кстати.
- Я примерно через два часа у вас буду. Я дома сейчас.
- Как раз вовремя, Лада пока спит.
Были все шансы застрять в квартире Лады до утра, если не до обеда, и Матвей, оставив продукты дома, взвалил на плечи баян и поспешил на электричку. Не то что бы его манила возможность с кем-то перепихнуться, хотя такой вариант он на всякий случай рассматривал, но предложенный мефедрон склонил его к согласию. В лучшем случае он хорошо проведет время, а в худшем просто поправит депрессивное состояние.
Лада жила на улице Коллонтай, неподалеку от перекрестка с проспектом Солидарности: над шумной асфальтовой дорогой одинокой свечой возвышалась грязно-белая брежневка в шестнадцать этажей, а напротив нее располагался психоневрологический интернат. Выйдя из лифта на душную от сигаретного дыма лестничную клетку, Матвей постучал по железной двери, покрытой в углах вкраплениями ржавчины, и открыла осунувшаяся за полгода Лада. Каштаново-рыжие волосы густой волной падали на левое плечо, легкий домашний халат доходил до шишковатых колен, а под томно опущенными веками виднелись маковые зерна суженных зрачков.
- Здравствуй, Матвей, - произнесла Лада с бархатными интонациями бордель-маман и степенно поцеловала его в лоб, - очень рада, что ты пришел. Но есть нюанс.
- Какой еще нюанс! – не выдержал он. – Где мой меф?!
- Марат пришел. Мы пытались его выгнать, но он сказал, что через час сам уйдет.
- Вот как, значит…
- Мы его не приглашали. Он пьяный, избитый и подозрительно молчит. Говорит, что не хочет пока уходить.
- В смысле, не хочет? – вспылил Матвей. - Он у себя дома, что ли? Чего вы с ним так миндальничаете? Что он - единственный барыга в городе? В конце концов, в Питере мы или где? Их тут как собак нерезаных, выбирай не хочу!
Матвей не помнил, как прошли две недели в квартире Марата, но точно знал, чего в тот период не происходило, поэтому относился к нежелательному амнезическому эпизоду с легкой досадой, лишний раз себя не накручивая. И все же это не мешало ему тихо ненавидеть Марата, особенно в такие дни. Матвей выдохнул. В голове забрезжила идея.
- Если вы хотите его выгнать, но не можете, давайте это сделаю я. Мне хуже не будет, к тому же, я его терпеть не могу. Всем полегчает: и вам, и мне. Я как раз в подходящей кондиции.
Вскинув подбородок, Лада заинтересованно сверкнула глазами.
- Вечер перестает быть томным, - хмыкнула она и сонным взмахом руки предложила Матвею войти, - если ты так хочешь…
Матвей ступил в прохладный коридор, к липкому полу которого присохла двухнедельная пыль, и разулся. Вытянув шею, он осторожно заглянул в дверной проем, за которым виднелся зал. На фоне ярких штор, скрестив ноги, сидел на полу Горбовский. Он кутался в черный флаг с портретом Ельцина, который окружали зигзаги Черного солнца. На подоконнике, возвышаясь над остальными, сидела низкорослая, но бойкая Ася, одетая в прозрачный плащ из синего пластика. Зеленые дреды были собраны в хвост, на носу косо сидели квадратные очки в синей оправе, а во лбу блестела крупная наклеенная страза. Сжимая в руке освежитель воздуха, Ася оживленно жестикулировала и так же оживленно о чем-то рассказывала. Матвей прислушался.
- …распечатали листовки и пошли клеить. Нас, конечно, уже вызывали из-за абортов в центр «Э», но нигилистов в девятнадцатом веке подобные казусы не останавливали. Разве мы хуже?
- И что случилось? – спросил Горбовский.
- Пришлось в лучших традициях русского протестного движения убегать от казаков. Век другой, а дерьмо всё то же. Ряженые клоуны.
- А освежитель откуда? – раздался тянущийся, словно резина, нетрезвый голос Марата – как раз из того угла, в который Матвей пока не мог заглянуть.
- В супермаркете украла.
- Зачем он тебе? – с еще большей грубостью спросил Марат, явно провоцируя Асю на ссору. Но она лишь презрительно покосилась на него с высоты подоконника и феминистского дискурса:
- Это освежитель от мужиков, Маратик. Чтобы таких, как ты, отпугивать.
Матвей вошел в зал, улыбнулся, не размыкая губ, и молча помахал рукой Асе и Горбовскому. Горбовский, от внимания которого не ускользнул агрессивный настрой Матвея, слегка нахмурился, а вот Ася почему-то хихикнула. Их зрачки затмевали радужку, а челюсти мелко подрагивали. Наконец Матвей повернул голову и заметил Марата, который полулежал в пухлом кресле. И без того неопрятный Марат сегодня был весь в пыли, прозрачно-водянистые глаза глядели мутно, а пахло от него перегаром. Подбитый правый глаз опух, кожа вокруг него была иссиня-фиолетовой. Когда Марат понял, что на него смотрят, и увидел, кто на него смотрит, он напрягся всем телом.
Вальяжно пройдя между ними, Лада улеглась на диван. Лицо ее выражало блаженство, однако кончики губ оттягивало вниз, и в улыбку они не собирались.
- Ну привет, - мрачно заворочал языком Марат. Судя по голосу, он был порядочно пьян и раскоординирован, и пришел сюда, скорее всего, на автопилоте. Не факт, что и сейчас он полностью осознавал происходящее.
- Я звонил тебе, но ты не брал трубку, - уверенно произнес Матвей. Марат лишь издал хриплый смешок:
- А я знаю, что ты звонил.
Поставив кофр в изголовье дивана, Матвей вопросительно посмотрел на Асю, и она поняла его без слов. Сунув руку в карман шорт, она достала мятый зиплок с мефедроном, который Матвей тут же нетерпеливо выхватил.
- Поехали, - пробормотал он себе под нос, вытаскивая из кармана скидочную карту «Пятерочки», прямоугольник белого пластика с красно-зеленым пищевым принтом. Уместившись между Горбовским, который молчал и чего-то ждал, и Асей, злорадно скалящей зубы, Матвей раскатал на подоконнике жирную дорожку. От беловатого порошка, в котором можно было высмотреть очень бледные оттенки серого и розового, слабо пахло фиалками. Глубоко шмыгнув, Матвей прочистил нос, втянул дорожку через скрученную десятирублевку, и выжженную слизистую колко обожгло. Он шмыгнул еще раз, пальцем собрал с карты и подоконника остатки мефедрона и втер его в десны.
Марат исподлобья смотрел перед собой. Горбовский попытался встать, но Ася, еще сильнее обнажив зубы, помотала головой, и ему пришлось сесть обратно. Прошла минута.
«Ну и где?» - нервно подумал Матвей, ощущая из всего набора эффектов лишь легкое жжение в носу и взвинченность, совершенно лишенную радости. Стимулятор сыграл свою роль и возбудил нервную систему, вот только она уже не реагировала на него правильно. Это было нехорошее, злое возбуждение.
- Сколько вы с ней трахались? – грубо выпалил Марат, рывком подняв с кресла пошатывающееся туловище. - Месяц? Полгода?
- Не твое дело, - огрызнулся Матвей, резко повернувшись к нему. Будто кто-то дернул рубильник, и уровень злости в одну секунду достиг критической отметки. Поняв, что речь идет о ней, скучающая Лада с ленцой приподняла тяжелые веки. Она смотрела на них с декадентским любопытством, как на двух половозрелых лосей, дерущихся за внимание самки. Вот только ни Марату, ни Матвею уже полгода как ничего не светило, а исход стычки на решение Лады повлиять не мог.
- Провоцируешь меня? На твоем месте должен был быть я, понятно? Зачем ей вообще понадобилась такая грязь из-под ногтей? – громко выкрикнул Марат, и его голос эхом отразился от стен.
- Она сама решает, с кем ей спать, а с кем нет!
- Как самочувствие, Матвей? – хихикнул вдруг Марат. – Оклемался или до сих пор отходишь? Я постарался и правильно все сделал, не ошибся с пропорциями. Можешь гордиться: я тебе отдельно варил.
Стиснув зубы, Матвей уставился на него - отупело, с ноткой запоздалого понимания.
- Удивительно, что ты не свихнулся. У тебя крепкая психика.
- Нельзя так, может ты… - робко обратился к нему Горбовский, но Марат даже не услышал его. Он заученно выдавливал из себя монолог, который уже не раз прокручивал в воображении, дожидаясь подходящего момента:
- Жаль, что ты не отъехал, но так даже лучше вышло. Ты, конечно, не Эдичка, и партии у тебя нет, но писать мемуары ты уже можешь.
Матвей, которого наконец охватил задор, удовлетворенно кивнул. Он читал Лимонова и более-менее понял намек, избавив Марата от унизительной необходимости объяснять слишком контркультурную остроту.
- С козырей пошел? – весело процедил сквозь зубы Матвей, вовсю разогнанный мефедроном. – Ты пиздишь, Марат. И сейчас я объясню почему.
Почесывая лицо, Лада залипла. Волосы разметались по обивке дивана, а боковой разрез халата оголил мягкое бледное бедро. Она слышала перепалку, но слова доходили до нее сквозь золотистую пелену полусна. Распалившийся Матвей тараторил, и остановить его в ближайшие пять минут казалось невозможным: аргументов у него накопилось много.
- Круг наших общих знакомых гораздо шире, чем ты думаешь, а твоя квартира – самый настоящий проходной двор. В сутки через нее проходит человек десять. То есть, за две недели там побывало больше ста человек. И если бы что-то подобное случилось, часть наших общих знакомых была бы в курсе. Однако прошло три месяца, а я узнаю об этом только сейчас, еще и от тебя. А ты, Марат, не самый беспристрастный источник.
За год систематического употребления свежести Марат несколько потерял связь с реальностью и возомнил себя божком районного масштаба. Конечно же, он ожидал совсем другой реакции. На лице у него застыло детское изумление, смешанное со злостью.
- Запрета на съемку у тебя в хате нет, так что половина гостей явно что-то снимали, а самые неосторожные даже выкладывали в соцсети, - увлеченно продолжал Матвей, довольно прихохатывая, - но я проверил страницы всех наших знакомых и ничего компрометирующего не нашел. А их больше тридцати человек.
У него нездорово раскраснелись щеки, пальцы и челюсть подергивало тремором, но ничего этого Матвей не замечал – слишком уж он зациклился на обвинении Марата. Готовый к худшему Горбовский встал, и на этот раз Ася не стала его останавливать: предчувствуя близость кульминации, она тоже насторожилась и зубы больше не скалила.
- К тому же, ты у нас любимчик Венеры, а печень у тебя такая жирная, будто тебя откармливают на фуа-гра. А я тогда на всякий случай проверился: и в кожвене, и на вич, и на гепатит. Мало ли, с кем я спал и какими баянами кололся. У нас ведь, если ты не в курсе, эпидемия вич. И что ты думаешь? Я здоров. Что из этого следует? Что ты пиздишь, Марат, - на одном дыхании выпалил Матвей и хитро добавил, - и есть еще один, самый важный аргумент.
- Какой? – удивленно спросил Марат. Матвей сжал правую руку в кулак и размашисто ударил Марата по уже подбитому глазу.
Вскрикнув, тот согнулся в половину своего роста и угрожающе качнулся к полу, но чудом выпрямился. По-собачьи оскалившись, он с ловкостью пьяного, который не чувствует боли и намерен ввязаться в историю, саданул Матвея по носу. Матвей рухнул на пол, и затылок пронзило болью, разлившейся по черепу. Взвыв, он схватился за нос. Истощенная слизистая не выдержала: алая кровь марала пальцы Матвея, стекала по скулам, ее тяжелые капли терялись в светлых волосах.
- Эй, Марат! – выкрикнула Ася, крепко сжав в руках освежитель воздуха. Марат обернулся, и она брызнула освежителем ему в глаза, залив их щедрой струей химиката.
- А-а-а! – бессвязно взревел Марат, прижав ладони к лицу. Горбовский оборвал его вопль, ударив Марата кулаком в живот. Тот согнулся, осел на пол, как куль со старым тряпьем, и сжался, притянув к животу колени.
- Я только снюхал, а ты мне нос разбил, - прогнусавил Матвей, поднявшись, - кретин…
- Ты-то куда лезешь, дурак? – сдавленно шипел Марат в сторону Горбовского. – Радуйся, что тебя это не касается!
Он часто моргал, из пораженных глаз бежали слезы. Очнувшись от дремы, Лада встала с дивана и с некоторым удивлением оглядела разъяренных гостей. Вздохнув полной грудью, она извлекла из-под диванной подушки носовой платок.
- Прям стендап, - довольно произнесла она, вытирая Матвею лицо, - Славик, можешь вытащить его в подъезд? Пусть домой идет.
Сосредоточенно кивнув, Горбовский ухватил дезориентированного Марата за руки и волоком потащил к двери.
- Ты пожалеешь об этом, мразь! – кричал Марат, видя сквозь пелену слез искаженного Горбовского и дергаясь всем телом, словно дождевой червяк. - Будешь вместе с Грязевым говно разгребать!
Вернулся он уже без Марата. Озадаченный, но заметно радостный Матвей топтался на месте и комкал в руках окровавленный платок, то и дело прикладывая его к носу. Лада снова лежала на диване, глаза ее были закрыты, а грудь мерно вздымалась.
- Ну и хули вы ждете? – спросила Ася. – Сваливать надо: вдруг соседи полицию вызвали, пока он тут орал.
- Может, к тебе? – предложил Горбовский, снова кутаясь во флаг с Ельциным. Он указал рукой на Матвея. – У него есть меф, и он уже начал его нюхать. Скоро его отпустит, и что он будет делать? На улице догоняться? Или в своей коммуналке?
Слава жил неподалеку, на Дыбенко, но он снимал комнату, как и Матвей. Хозяйка квартиры проживала в одной из комнат и к Горбовскому была настроена негативно, а к его гостям уж тем более. А вот у Аси был дом в Девяткино, неподалеку от метро. По субботам там собирался политический кружок, частью которого Ася была уже год, зато сегодня дом пустовал.
Когда они вышли из квартиры, Марата в подъезде уже не было. Рассудив, что он прозрел и отправился домой, они со спокойной душой пошли к метро. До Девяткино пришлось добираться час. За крепко сколоченным забором прятался поблекший на солнце домишко из красного кирпича, крыша которого была устлана сероватым шифером. Нескольких сегментов не хватало, и в крыше дома зияли черные пустоты. Слева от дома раскинулся скромный вегетарианский огород с грядками латука, сельдерея и петрушки, а в углу участка стоял железный бак, до краев наполненный водой.
Ночь не принесла облегчения. Каждый час Матвей исправно нюхал по дороге, всякий раз делая ее чуть толще, однако чуда не наступало: прежняя оживленность шла на спад, уступая место утренней тоске, а накопительный эффект никак себя не проявлял.
За окном мерцал острый серп луны. Горбовский бренчал на гитаре, периодически прерываясь на перекур, Ася танцевала, стряхивая пепел прямо на пол, и всё это они проделывали, не переставая беседовать: как друг с другом, так и с Матвеем. Матвей тоже курил одну за одной, наполняя окурками консервную банку. Он сидел за кухонным столом, скупо поддерживая разговоры, скачущие с одной темы на другую, и не мог присоединиться к общему празднику жизни.
Если поначалу Матвей находил в происходящем нечто трогательное и умиротворяющее, то теперь он стремительно трезвел, и поведение друзей, временно отгородившихся от мира, стало казаться ему даже жутким. Они словно рассинхронизировались, и Матвей уже не в первый раз осознал, что пятый час подряд Горбовский с Асей совершают бессмысленные зацикленные действия, находя их веселыми, что случается это несколько раз в неделю и – самое удивительное - что и он нередко в этом участвует, ощущая точно такое же самое мерклое веселье. Матвей уже не видел в танцах и музыке ничего оптимистичного. Мир сдвинулся, и они приобрели неуловимый макабрический оттенок провинциальных поминок, вставший во весь рост из рассказов Мамлеева.
«На отходах, трезвый в хлам, - угрюмо подумал Матвей, - сижу в сраном Девяткино…»
- Эй, Грязев, - окликнул его Горбовский, - чего хмурый такой?
- Я свежестью ставлюсь, не берет меня меф! – огрызнулся Матвей и осекся, поймав себя на излишней агрессии. Ускоряться дальше не было смысла: он или разозлится еще сильнее, или вовсе передознется.
- Извините, - пробормотал он, - мне не по себе с самого утра. Еще и Марат… Ася, дашь дунуть? Я лучше спать пойду. Я сегодня везде не к месту.
В подвале Ася прятала гроубокс, что и было причиной ее гостеприимства. Она отправила Матвея спать на чердак, а сама ушла в огород – достать из тайника гостинец. Матвей лежал на плотном матрасе и не мог сомкнуть глаз. Изнутри чердака зияющие дыры совсем не казались черными: одна из них была занавешена серой тряпкой, а сквозь другую виднелись блеклая зелень огорода и железный бак с темной массой воды. Время от времени под скосом чердака звенела музыка ветра в виде золотистых дельфинов, и тихий звон отдавался в висках Матвея досадливым отзвуком.
Через пять минут на чердак поднялась Ася, прижимающая к груди свеженарезанный водник. В кулаке у нее виднелся спичечный коробок.
- Больше пяти хапок не советую, - деловито сообщила она, - тебя разбудить в четыре? Пойдешь на работу?
- К херам работу, - проворчал Матвей, усаживаясь и доставая зажигалку, - когда проснусь, тогда и проснусь.
Ася оказалась права: уже на третьей хапке Матвей ощутил, как голова наполняется туманом. Спал он крепко. На устьях ноздрей застыли сопли, смешанные с кровью, консистенцией напоминающие мучной клейстер. Ближе к полудню Матвей проснулся от голода, который мучил его уже сутки, но не мог пробиться сквозь сломанную сигнальную систему. Рядом с водником стоял пластиковый контейнер для еды, накрытый прозрачной крышкой, под которой виднелись брокколи в сливочном соусе.
Съев все без остатка, Матвей улегся на правый бок. Вода в баке сверкала под солнцем таким ярко-белым блеском, что на нее было больно смотреть. Матвей перевернулся на левый бок. Пробоина в этой части крыши была занавешена тряпкой, и свет, проникающий через нее, падал на пол дымчато-серым пологом.
Матвею снился серый дым. Вдали глухо звенели колокола и лаяли собаки, а где-то за спиной горел слепящим огнем ясный свет.
Глава 3

От перемены мест ничего не меняется. Везде одно и то же. Богатый, бедный, свободный, занятый – всё равно. Всюду зависимость от телесного существования, тюрьма, кали-юга, эпоха падения, мрак повседневности…
Юрий Мамлеев, «Невиданная быль»
Юрий Мамлеев, «Невиданная быль»
июль, 2030 год
В серебристом тумане ночного кладбища терялись белые огни люминесцентных фонарей, шаги Матвея шуршали во влажной после недавнего дождя траве – зеленой, сочной, покрытой тяжелыми стылыми каплями. Иногда порванная кроссовка неудачно погружалась в лужу, и Матвей ощущал, как намокает холодом носок. Туман, сменивший проливной дождь, мешал видеть дальше, чем на пять метров, поэтому из бледной пелены то и дело выплывали кленовые стволы, увенчанные густыми кронами, надгробья из мрамора и гранита, окаймленные оградками, и свежие деревянные кресты, на шеях которых висели пышные, увитые широкими лентами венки.
Матвей, одетый в серый свитер крупной вязки и джинсы с подворотами, держал в правой руке две искусственные гвоздики – заметно выгоревшие на солнце, такие же неопрятные, как и он сам. Неостриженные, криво обкусанные ногти украшала траурная кайма грязи, а под глазами виднелись заметно побледневшие синяки, ставшие из блекло-фиолетовых розоватыми. С воскресенья прошло два дня, и Матвей немного выспался. Ушибленный нос почти не болел.
Вторник выдался холодным, то и дело лил дождь, и Матвей, разыскивающий могилу Саламатиной Виктории Олеговны, опасался, как бы ливень не пошел снова. Однажды он получил координаты, которые рекомендовали ему ехать в Рыбацкое и как можно незаметнее копаться в жерле водосточной трубы, но закладчик оказался неопытным, и пока Матвей ехал в метро, начался небывалой силы ливень. Утопая по щиколотку в лужах, он добрался до нужной трубы слишком поздно – клад уже смыло хлещущими струями дождевой воды.
Матвей не раз бывал на этом кладбище, поэтому плутал недолго – уже через десять минуть уверенных блужданий в тумане забрезжило надгробье Виктории Саламатиной, знакомое ему по присланной фотографии: черная гранитная плита с неровным верхним сколом, напоминающая минимализмом и тщательно выверенной небрежностью гротескный кариозный зуб. Золотистым курсивом были выведены имя погибшей, годы рождения и стихотворная эпитафия. Оградки не было, а перед могилой стояла скамейка из полых железных труб – тоже черная, вкопанная в землю, интересующая Матвея куда больше надгробья.
Придав озадаченному лицу как можно более естественный для этого места вид, Матвей со скорбной миной уселся на лавочку, выбрав для этого не центр, а правый край. Переложив гвоздики, которые он подобрал на одной из могил, в левую руку, он коснулся правой рукой центральной трубы и запустил длинные пальцы в ее прохладное жерло.
- Блядь, - тихо процедил он сквозь зубы, нащупав лишь шершавое железо. Осматриваться было бесполезно, поэтому он прислушался, однако ничего не услышал – ни чужих шагов, ни жужжания дронов высоко над головой. Лишь отрывисто срывались с мокрых листьев капли и разбивались об лужи.
Уходить без гашиша не хотелось. Присев возле нужного бока скамьи на корточки, Матвей вгляделся в узкий тоннель трубы, однако увидел только однотонную темноту. Вооружившись гвоздикой, он принялся шерудить в трубе зеленым пластмассовым стеблем, но выгреб на ладонь лишь скомканный трамвайный билет, немного песка и сухой обломок ветки.
Высыпав мусор на землю, Матвей сел на прежнее место, и его пустой взгляд увяз в воздухе, пропахшем мокрой землей. Кладбище, расположенное в двадцати минутах ходьбы от дома, не всегда его интересовало. Он стал часто бывать здесь после знакомства с компанией молодых людей, объединенных любовью к традиционализму и эзотерике. Юноши разной степени интеллигентности и суровые дамы в черном, воплощающие среднее арифметическое между поэтессами Серебряного века и платными госпожами, читали Мамлеева, Дугина и Сперанскую, а время от времени пытались через акты трансгрессии выйти за пределы возможного. Заключались акты трансгрессии в проимускуитете и употреблении веществ.
Каждый вечер они собирались в кафе на Садовой. Матвей, мрачный официант в застиранной белой рубашке и длинном коричневом фартуке особенно приглянулся Юше, душе эзотерической компании. Шатен Юша был студентом философского факультета, и его голос экзальтированно звенел юношеской медью. Юша полез к Матвею с расспросами, узнал, что тот приехал из мордовского моногорода, и, почему-то очень воодушевившись, представил его компании как Федора Соннова.
- Меня по-другому зовут, - сухо возразил Матвей, незнакомый с культурным багажом новых товарищей.
- Разве ж это важно? – спросил Юша, усмехнувшись нервным ртом. – Главное – внутренняя суть.
Матвей вроде как стал частью компании, но не до конца: традиция его не привлекала, а эзотеризм вызывал лишь отрицание. Его интерес к настолько специфическому культурному коду был исключительно эстетическим.
- Так и должно быть, - объяснял Юша духовным соратникам, обнимая Матвея за плечи, - в этом и прелесть: он олицетворяет, но не придает этому значения, потому что для него все это скучная обыденность. При всей своей простоте он ближе к Бездне, чем мы.
За три месяца странных бесед и встреч Матвея познакомили с необходимой литературой, и малая её часть Матвею даже понравилась – в основном, художественная. Кончилось всё тем, что Юшу посадили по экстремистской статье за репост мема про Иисуса Христа, и без заводилы компания распалась. А у Матвея остались книги, подаренные Юшей, и привычка гулять по кладбищу – бессмысленная, но медитативная.
Некрополь, окружающий Матвея, делился на слои времени: помпезные саркофаги девяностых годов, над которыми высились памятники, изображающие быковатых новых русских, погибших не своей смертью, на фоне их же автомобилей, лишенные лишних деталей надгробья миллениалов, умерших от ранних инсультов, и госмогилки ветеранов сирийской войны. Мелкой россыпью между ними виднелись вневременные могилы передознувшихся в юности наркоманов и пенсионеров разного достатка. Возможно, где-то на другом конце России под одним из невзрачных крестов лежал отец Матвея.
За два года до рождения Матвея к его матери подбивал клинья сосед, постоянно болеющий и пьющий, но мать отвергла его, потому что уже завела себе зазнобу по переписке. Двадцатилетний на тот момент зазноба, Герман Кириченко, писал очень проникновенные письма, от которых у Елены Алексеевны слезы на глаза наворачивались, и сидел в саранской колонии за наркоторговлю. Елена Алексеевна в нем души не чаяла и явно считала более подходящим кандидатом для сожительства. Сдавшись, сосед поменял направление клиньев и женился на Веронике Николаевне.
Откинувшись в канун Медового Спаса, Герман приехал к Елене Алексеевне, но прожил с ней всего месяц, потому что его нашли кредиторы из прежней жизни. Судя по последним письмам, поток которых возобновился спустя несколько месяцев, он решил расплатиться с долгами, снова стал продавать и сел повторно. Эти письма Елена Алексеевна получала уже беременной: ее живот исподтишка раздувал ребенок, зачатый в единственный приезд Германа. На новость о ребенке Герман отреагировал недвусмысленно - письма приходить перестали. Об аборте Елена Алексеевна, каждое воскресенье посещавшая церковь, даже не задумывалась, поэтому в положенный срок расплодилась.
Отца Матвей знал только по совместной фотографии родителей и оставшемуся от него перламутрово-синему баяну. Чем старше становился Матвей, тем увереннее мать заявляла, что он уродился в отца и перенял его гнилую породу. В этом была доля правды: лицом Матвей действительно пошел в отца, но если тот был алкогольно-припухшим, и породистость его черт терялась в красноватых отеках, то Матвей пошел по другому пути, отощав на стимуляторах до пятидесяти килограмм. Вид он приобрел слабый и болезненный.
Матвей нахмурился. Делать было нечего: только возвращаться домой и открывать диспут, надеясь на перезаклад. Положив ненужную гвоздику на скамью, рядом со второй, он направился к выходу с кладбища, намереваясь пройти по прежнему маршруту, но заметил блуждающий в свинцовом тумане силуэт. Силуэт был довольно массивным, но становился только больше и четче, сопровождаясь шумными шагами. Внутренне Матвей насторожился, но виду не подал. Возможно, интуиция его обманывала. Однако силуэт оформился в типичного быка, бритого мужчину с приплюснутым носом, который прятал руки в карманах кожаной куртки, и это Матвею не понравилось еще больше.
Конечно, мужчина мог прийти на кладбище с любой целью, но он пришел ночью и пришел как раз туда, где Матвей безуспешно искал закладку. Думать, кто он такой - то ли случайный прохожий, то ли агрессивный и фанатичный трезвенник, времени не было. К тому же, мужчина смотрел прямо на Матвея, и взгляд его был таким тяжелым, что последние сомнения слетели, словно луковая шелуха. Матвей резко развернулся, сорвался с места и кинулся прочь.
- Стоять, сука! – раздался крик за спиной, и громкие шаги набрали беговой темп. Но Матвей лишь прибавил скорость, ловко петляя между знакомыми могилами. Был шанс оторваться от преследователя, погоняв его по извилистому лабиринту кладбища, и скрыться в тумане ночи, чудом не разбив голову об чье-то каменистое надгробье и не напоровшись глазом на штырь оградки. Ноги вязли в скользкой траве и мягких комьях почвы. Топот ног за спиной не стихал. Дернувшись при первом же повороте налево, Матвей коварно ускользнул вправо.
Подошва проехалась по влажной траве, памятники перед глазами покосились вместе с размытым синюшным горизонтом, и Матвей рухнул всем телом на сырую притоптанную почву. Зашаркали приближающиеся шаги. Тяжело дыша, он пытался подняться как можно быстрее, потому что это были другие шаги, и приближались они с другой стороны.
Но его бесполезную попытку оборвал грубый пинок в живот, от которого Матвей с глухим воем упал обратно и рефлекторно сжался, притянув колени к животу и прикрыв голову руками, чтобы защитить хотя бы череп и почки. Резко потянув Матвея за шиворот, кто-то заставил его встать и перехватил руки за спиной, сжав их повыше локтей. Даже сквозь шерсть он ощутил, как больно впились в кожу пальцы, и по наитию дернулся вперед. Локти тут же прострелило болью, и ошалевшего Матвея дернули обратно.
- Ну вот, я же говорил, - произнес уже знакомый голос, и в тумане обрел четкость первый преследователь, - если бы я один поехал, он бы от меня в таких условиях улизнул.
- Кто вы… - возмущенно выпалил Матвей, но договорить ему не дали - мужчина размашисто ударил его по лицу тяжелым кулаком. Загорелась болью разбитая губа, и рот наполнился соленым привкусом.
- Достаточно красноречиво? – спросил он у беспомощного Матвея, который при всем своем желании не мог никуда уйти. Он отрывисто переводил дыхание, кровь марала и подбородок, и зубы, размазываясь по ним неприятной подсыхающей пленкой.
- Это был очень смелый, но тупой поступок, - прежним тоном продолжил мужчина, - не знаю, на что вы рассчитывали.
К типично бандитскому облику – широкая бритая голова и скошенные переломами кости лица – прилагались интонации молодого мента, что было неудивительно – все-таки эти профессии относились к одному фенотипу, однако эти интонации окончательно лишили Матвея надежды на то, что недоразумение завершится одним лишь бессмысленным избиением.
- Кто вы такие? – упорно продолжил он. - Чего вам от меня надо?
- Не нам, а Марату. Марату нужны обратно его деньги.
- Что? Шесть тысяч?! – воскликнул Матвей: имя Марата принесло с собой щекочущий страшок. - Я пытался их вернуть, но он избегал меня, он не брал труб!..
Его крик, с каждым словом наливающийся истерикой, перебила звонкая оплеуха, от которой у него загудело в голове и жгуче вспыхнула покрасневшая щека.
- Если будешь орать, переломаем руки. Посмотрим тогда, как ты будешь управляться с баяном, - пригрозил мужчина, - у тебя ведь нет других источников дохода?
Побледневший Матвей широко распахнул глаза и послушно умолк. Он не видел, кто его удерживал, а оборачиваться опасался, зато отлично мог разглядеть человека, который стоял перед ним. Это было самое непримечательное лицо, которое только можно встретить в спальном районе, и даже если Матвей уже проскальзывал по нему невнимательным взглядом, подтвердить это было нельзя.
- Как тебе вообще пришла в голову такая идея? И почему он ее поддержал? У вас слабоумие? – мужчина задавал один вопрос за другим, и они явно были для него риторическими. - Ладно ты, ты ширяешься свежатиной, неудивительно, что у тебя мозги сварились, а он почему согласился?
Глаза Матвея заволокло ужасом, будто земля под ногами вдруг превратилась в шаткий гнилой остов, под которым не было ничего, кроме голодной утробы. До него дошло, что речь идет явно не о шести тысячах.
- Какая идея? – боязливо выдавил Матвей. - Кто – он? О чем мы вообще разговариваем?
- Сам-то как думаешь, наркоша? В воскресенье вечером вы с Горбовским отняли у Марата восемьдесят тысяч. До тупого просто: избили, заставили сказать пин-код от карточки и обналичили все, что на ней было. Чем вы думали? Считали, что Марат работает один?
Достав из кармана темно-красную ксиву с двуглавым орлом, щитом и змеей, обвивающей меч, мужчина раскрыл ее и продемонстрировал стремительно обмякающему Матвею, который едва держался на ногах.
- ФСКН, служба охраны, сотрудник Рубцов, - на всякий случай продублировал мужчина указанные данные, - теперь перестанешь дурака из себя строить, гражданин Грязев?
Матвея било дрожью - ощущение утробы под обманчивым слоем почвы стало еще вещественнее. Если внешние сотрудники ФСКН отвечали за распространение, то служба охраны занималась защитой внешних сотрудников от недоброжелателей. К каждому прикормленному дилеру наркоконтроль приставлял сотрудника службы охраны, который был одновременно и защитником, и куратором, чья зловещая роль заключалась в разговорах по душам, если дилер начинал забываться, а в особо тяжелых случаях даже в физическом устранении. Естественно, без приказа свыше физическое устранение было невозможно, однако кураторам, имевшим в анамнезе бандитское прошлое и энное количество убитых, душевное смятение было чуждо.
«Вот как. Они от невского синдиката, - отстраненно думал Матвей, прокручивая в голове нелепую воскресную драку, в реальности окончившуюся ничем, - Марат под невским синдикатом. Вот как…»
- Я не грабил Марата. У меня есть свидетели!
- Кто может подтвердить, что ограбления не было? – пристально всмотрелся в него Рубцов.
- Ася, Лада и Слава. Они…
- …крайне заинтересованные лица, которые могут тебя выгораживать. Особенно Горбовский. Других нет? – с учтивой издевкой уточнил Рубцов.
«Он ведь всех их знает», - мелькнуло у Матвея в голове. Его лицо плаксиво дернулось. Не найдя ответа, он изнуренно опустил голову.
- То есть, доказать свою невиновность ты не можешь.
- Но мы не брали его деньги, я не могу ничего вернуть, у меня их попросту нет… - едва слышно промямлил он. Однако Рубцов хорошо его расслышал и расплылся в довольной улыбке:
- На нет и суда нет.
Он запустил широкую ладонь под куртку, и в полумраке сверкнул вороненой сталью «макаров». Всем существом Матвей ощутил непреодолимое желание вырваться, но тело оцепенело, покрывшись липкой испариной, как будто связь между телом и мозгом оборвалась. Чуждо, словно через ватное одеяло, он ощутил, как его ткнули в спину, как прижалась к лицу мокрая земля, а в открытый рот затекла грязная вода, как в твердую кость затылка уткнулось холодное дуло. Вдалеке раздался чей-то некрасивый плач, послышалось заискивающее зацикленное «нет», повторяющееся на одной надрывной ноте, и у затылка что-то сухо щелкнуло.
Связь с телом возобновилась, и он увидел свою крупно трясущуюся руку, вцепившуюся в комковатую грязь. Туманный ландшафт искажался от слез, а горло булькало остаточными рыданиями.
- Это была пробная демонстрация, - объяснил Рубцов, пряча пистолет, - ровно через месяц, третьего августа мы заглянем к тебе в гости. Третьего августа ты отдашь нам сто тысяч рублей. Конечно, украли вы восемьдесят, но наказание должно быть доходчивым, поэтому шестьдесят мы накидываем сверху – за моральный ущерб.
Наклонившись к Матвею, Рубцов поправил воротник куртки и тихо добавил:
- Радуйся, что тебе дали такую отсрочку. Как-нибудь выпутаешься, если не тупой. Это очень, очень мягкие условия. Понял, Грязев?
- Понял, - всхлипнул он. Удовлетворенные результатом, Рубцов с коллегой сразу же растворились в тумане. Матвей поднялся не сразу - долго не мог решиться. Ни о гашише, ни о перезакладе он уже не думал. Влажные от грязи волосы прилипли к виску, на бледном лице запеклась кровь из разбитой губы, одежда промокла пятнами. Нетвердо держась на ногах, опираясь на оградки, он побрел к выходу с кладбища.
- Ох ты ж бля! – чертыхнулся вдруг Матвей, осознав ситуацию до конца. Навалившись на узкую стелу ближайшего памятника, он полез в карман. Телефон Горбовского был отключен. Во всех остальных аккаунтах Горбовский был оффлайн.
«ПРИЕЗЖАЙ СРОЧНО, НАДО ПОГОВОРИТЬ», - написал ему Матвей и на всякий случай продублировал сообщение во всех мессенджерах.
Доковыляв до квартиры, Матвей подрагивающими руками открыл дверь своей комнаты и ввалился в ее бледно-желтое нутро. Он заперся на ключ, задернул шторы и, даже не потрудившись переодеться, ничком рухнул на застеленный диван. Следующие два часа он лежал с открытыми глазами, заново осознавал мир и приходил в себя.
Когда ощущение жизни вернулось до такой степени, что напомнил о себе голод, Матвей с неохотой сжевал оставшуюся в холодильнике четверть шавермы, сменил одежду и достал из-под матраса золотое кольцо матери, завернутое в лоскут розового ситца.
В ломбарде терпко пахло корвалолом и сиренью. В узком закутке, который от клиентов отделяла решетка, крашеная белой эмалью, сидел старик-оценщик с мрачным взглядом и соломенно-седыми бровями. На спинке его стула висел желтый дождевик. Старик узнал Матвея, но ничего не сказал, вместо этого равнодушно выдав деньги и залоговый билет.
Матвей вышел из ломбарда под ярко-желтый свет неоновых букв, пляшущий на темных лужах неровными кляксами. Буквы горели желтым настолько ярко, что Матвею стало дискомфортно, и он, закурив, покинул тесный переулок, ведущий к асфальтовой дороге. На обочине тускло мерцал лайтбокс с портретом президента, подсвеченный голубовато-желтым.
«Начало положено, - затянулся он, наполнив рот дымной горечью, и выдохнул, - пять тысяч уже есть»
В кармане зажужжал телефон, и Матвей поспешил взять трубку. Горбовский даже забыл поздороваться.
- Они уже были у тебя? – спросил он, пытаясь отдышаться. – Тебя сильно покоцали?
- В основном, морально, - сухо ответил Матвей и бросил окурок в лужу, - приезжай. Что-нибудь придумаем.
Оставалось только ждать приезда Горбовского. Не удержавшись, Матвей закурил снова. Его внимание привлек невысокий желто-голубоватый лайтбокс. Подойдя к нему вплотную, Матвей сначала разглядел мелкие подрагивающие капли на защитном стекле, потом акварельно-размытое отражение собственного лица со слегка опухшей щекой и уже в последнюю очередь, третьим слоем – крупный план лица президента. Среди седины еще можно было найти редкие рыжие волосы, а за старческим плечом высилась волгоградская Родина-Мать, воздевающая к небу меч, чтобы стереть заокеанских демонов в радиоактивный пепел. Железобетонный хитон, скрывающий монументальные груди с острыми сосками, и разверстый в немом гневе черный рот придавали ей угрожающее сходство с богиней Кали.
В серебристом тумане ночного кладбища терялись белые огни люминесцентных фонарей, шаги Матвея шуршали во влажной после недавнего дождя траве – зеленой, сочной, покрытой тяжелыми стылыми каплями. Иногда порванная кроссовка неудачно погружалась в лужу, и Матвей ощущал, как намокает холодом носок. Туман, сменивший проливной дождь, мешал видеть дальше, чем на пять метров, поэтому из бледной пелены то и дело выплывали кленовые стволы, увенчанные густыми кронами, надгробья из мрамора и гранита, окаймленные оградками, и свежие деревянные кресты, на шеях которых висели пышные, увитые широкими лентами венки.
Матвей, одетый в серый свитер крупной вязки и джинсы с подворотами, держал в правой руке две искусственные гвоздики – заметно выгоревшие на солнце, такие же неопрятные, как и он сам. Неостриженные, криво обкусанные ногти украшала траурная кайма грязи, а под глазами виднелись заметно побледневшие синяки, ставшие из блекло-фиолетовых розоватыми. С воскресенья прошло два дня, и Матвей немного выспался. Ушибленный нос почти не болел.
Вторник выдался холодным, то и дело лил дождь, и Матвей, разыскивающий могилу Саламатиной Виктории Олеговны, опасался, как бы ливень не пошел снова. Однажды он получил координаты, которые рекомендовали ему ехать в Рыбацкое и как можно незаметнее копаться в жерле водосточной трубы, но закладчик оказался неопытным, и пока Матвей ехал в метро, начался небывалой силы ливень. Утопая по щиколотку в лужах, он добрался до нужной трубы слишком поздно – клад уже смыло хлещущими струями дождевой воды.
Матвей не раз бывал на этом кладбище, поэтому плутал недолго – уже через десять минуть уверенных блужданий в тумане забрезжило надгробье Виктории Саламатиной, знакомое ему по присланной фотографии: черная гранитная плита с неровным верхним сколом, напоминающая минимализмом и тщательно выверенной небрежностью гротескный кариозный зуб. Золотистым курсивом были выведены имя погибшей, годы рождения и стихотворная эпитафия. Оградки не было, а перед могилой стояла скамейка из полых железных труб – тоже черная, вкопанная в землю, интересующая Матвея куда больше надгробья.
Придав озадаченному лицу как можно более естественный для этого места вид, Матвей со скорбной миной уселся на лавочку, выбрав для этого не центр, а правый край. Переложив гвоздики, которые он подобрал на одной из могил, в левую руку, он коснулся правой рукой центральной трубы и запустил длинные пальцы в ее прохладное жерло.
- Блядь, - тихо процедил он сквозь зубы, нащупав лишь шершавое железо. Осматриваться было бесполезно, поэтому он прислушался, однако ничего не услышал – ни чужих шагов, ни жужжания дронов высоко над головой. Лишь отрывисто срывались с мокрых листьев капли и разбивались об лужи.
Уходить без гашиша не хотелось. Присев возле нужного бока скамьи на корточки, Матвей вгляделся в узкий тоннель трубы, однако увидел только однотонную темноту. Вооружившись гвоздикой, он принялся шерудить в трубе зеленым пластмассовым стеблем, но выгреб на ладонь лишь скомканный трамвайный билет, немного песка и сухой обломок ветки.
Высыпав мусор на землю, Матвей сел на прежнее место, и его пустой взгляд увяз в воздухе, пропахшем мокрой землей. Кладбище, расположенное в двадцати минутах ходьбы от дома, не всегда его интересовало. Он стал часто бывать здесь после знакомства с компанией молодых людей, объединенных любовью к традиционализму и эзотерике. Юноши разной степени интеллигентности и суровые дамы в черном, воплощающие среднее арифметическое между поэтессами Серебряного века и платными госпожами, читали Мамлеева, Дугина и Сперанскую, а время от времени пытались через акты трансгрессии выйти за пределы возможного. Заключались акты трансгрессии в проимускуитете и употреблении веществ.
Каждый вечер они собирались в кафе на Садовой. Матвей, мрачный официант в застиранной белой рубашке и длинном коричневом фартуке особенно приглянулся Юше, душе эзотерической компании. Шатен Юша был студентом философского факультета, и его голос экзальтированно звенел юношеской медью. Юша полез к Матвею с расспросами, узнал, что тот приехал из мордовского моногорода, и, почему-то очень воодушевившись, представил его компании как Федора Соннова.
- Меня по-другому зовут, - сухо возразил Матвей, незнакомый с культурным багажом новых товарищей.
- Разве ж это важно? – спросил Юша, усмехнувшись нервным ртом. – Главное – внутренняя суть.
Матвей вроде как стал частью компании, но не до конца: традиция его не привлекала, а эзотеризм вызывал лишь отрицание. Его интерес к настолько специфическому культурному коду был исключительно эстетическим.
- Так и должно быть, - объяснял Юша духовным соратникам, обнимая Матвея за плечи, - в этом и прелесть: он олицетворяет, но не придает этому значения, потому что для него все это скучная обыденность. При всей своей простоте он ближе к Бездне, чем мы.
За три месяца странных бесед и встреч Матвея познакомили с необходимой литературой, и малая её часть Матвею даже понравилась – в основном, художественная. Кончилось всё тем, что Юшу посадили по экстремистской статье за репост мема про Иисуса Христа, и без заводилы компания распалась. А у Матвея остались книги, подаренные Юшей, и привычка гулять по кладбищу – бессмысленная, но медитативная.
Некрополь, окружающий Матвея, делился на слои времени: помпезные саркофаги девяностых годов, над которыми высились памятники, изображающие быковатых новых русских, погибших не своей смертью, на фоне их же автомобилей, лишенные лишних деталей надгробья миллениалов, умерших от ранних инсультов, и госмогилки ветеранов сирийской войны. Мелкой россыпью между ними виднелись вневременные могилы передознувшихся в юности наркоманов и пенсионеров разного достатка. Возможно, где-то на другом конце России под одним из невзрачных крестов лежал отец Матвея.
За два года до рождения Матвея к его матери подбивал клинья сосед, постоянно болеющий и пьющий, но мать отвергла его, потому что уже завела себе зазнобу по переписке. Двадцатилетний на тот момент зазноба, Герман Кириченко, писал очень проникновенные письма, от которых у Елены Алексеевны слезы на глаза наворачивались, и сидел в саранской колонии за наркоторговлю. Елена Алексеевна в нем души не чаяла и явно считала более подходящим кандидатом для сожительства. Сдавшись, сосед поменял направление клиньев и женился на Веронике Николаевне.
Откинувшись в канун Медового Спаса, Герман приехал к Елене Алексеевне, но прожил с ней всего месяц, потому что его нашли кредиторы из прежней жизни. Судя по последним письмам, поток которых возобновился спустя несколько месяцев, он решил расплатиться с долгами, снова стал продавать и сел повторно. Эти письма Елена Алексеевна получала уже беременной: ее живот исподтишка раздувал ребенок, зачатый в единственный приезд Германа. На новость о ребенке Герман отреагировал недвусмысленно - письма приходить перестали. Об аборте Елена Алексеевна, каждое воскресенье посещавшая церковь, даже не задумывалась, поэтому в положенный срок расплодилась.
Отца Матвей знал только по совместной фотографии родителей и оставшемуся от него перламутрово-синему баяну. Чем старше становился Матвей, тем увереннее мать заявляла, что он уродился в отца и перенял его гнилую породу. В этом была доля правды: лицом Матвей действительно пошел в отца, но если тот был алкогольно-припухшим, и породистость его черт терялась в красноватых отеках, то Матвей пошел по другому пути, отощав на стимуляторах до пятидесяти килограмм. Вид он приобрел слабый и болезненный.
Матвей нахмурился. Делать было нечего: только возвращаться домой и открывать диспут, надеясь на перезаклад. Положив ненужную гвоздику на скамью, рядом со второй, он направился к выходу с кладбища, намереваясь пройти по прежнему маршруту, но заметил блуждающий в свинцовом тумане силуэт. Силуэт был довольно массивным, но становился только больше и четче, сопровождаясь шумными шагами. Внутренне Матвей насторожился, но виду не подал. Возможно, интуиция его обманывала. Однако силуэт оформился в типичного быка, бритого мужчину с приплюснутым носом, который прятал руки в карманах кожаной куртки, и это Матвею не понравилось еще больше.
Конечно, мужчина мог прийти на кладбище с любой целью, но он пришел ночью и пришел как раз туда, где Матвей безуспешно искал закладку. Думать, кто он такой - то ли случайный прохожий, то ли агрессивный и фанатичный трезвенник, времени не было. К тому же, мужчина смотрел прямо на Матвея, и взгляд его был таким тяжелым, что последние сомнения слетели, словно луковая шелуха. Матвей резко развернулся, сорвался с места и кинулся прочь.
- Стоять, сука! – раздался крик за спиной, и громкие шаги набрали беговой темп. Но Матвей лишь прибавил скорость, ловко петляя между знакомыми могилами. Был шанс оторваться от преследователя, погоняв его по извилистому лабиринту кладбища, и скрыться в тумане ночи, чудом не разбив голову об чье-то каменистое надгробье и не напоровшись глазом на штырь оградки. Ноги вязли в скользкой траве и мягких комьях почвы. Топот ног за спиной не стихал. Дернувшись при первом же повороте налево, Матвей коварно ускользнул вправо.
Подошва проехалась по влажной траве, памятники перед глазами покосились вместе с размытым синюшным горизонтом, и Матвей рухнул всем телом на сырую притоптанную почву. Зашаркали приближающиеся шаги. Тяжело дыша, он пытался подняться как можно быстрее, потому что это были другие шаги, и приближались они с другой стороны.
Но его бесполезную попытку оборвал грубый пинок в живот, от которого Матвей с глухим воем упал обратно и рефлекторно сжался, притянув колени к животу и прикрыв голову руками, чтобы защитить хотя бы череп и почки. Резко потянув Матвея за шиворот, кто-то заставил его встать и перехватил руки за спиной, сжав их повыше локтей. Даже сквозь шерсть он ощутил, как больно впились в кожу пальцы, и по наитию дернулся вперед. Локти тут же прострелило болью, и ошалевшего Матвея дернули обратно.
- Ну вот, я же говорил, - произнес уже знакомый голос, и в тумане обрел четкость первый преследователь, - если бы я один поехал, он бы от меня в таких условиях улизнул.
- Кто вы… - возмущенно выпалил Матвей, но договорить ему не дали - мужчина размашисто ударил его по лицу тяжелым кулаком. Загорелась болью разбитая губа, и рот наполнился соленым привкусом.
- Достаточно красноречиво? – спросил он у беспомощного Матвея, который при всем своем желании не мог никуда уйти. Он отрывисто переводил дыхание, кровь марала и подбородок, и зубы, размазываясь по ним неприятной подсыхающей пленкой.
- Это был очень смелый, но тупой поступок, - прежним тоном продолжил мужчина, - не знаю, на что вы рассчитывали.
К типично бандитскому облику – широкая бритая голова и скошенные переломами кости лица – прилагались интонации молодого мента, что было неудивительно – все-таки эти профессии относились к одному фенотипу, однако эти интонации окончательно лишили Матвея надежды на то, что недоразумение завершится одним лишь бессмысленным избиением.
- Кто вы такие? – упорно продолжил он. - Чего вам от меня надо?
- Не нам, а Марату. Марату нужны обратно его деньги.
- Что? Шесть тысяч?! – воскликнул Матвей: имя Марата принесло с собой щекочущий страшок. - Я пытался их вернуть, но он избегал меня, он не брал труб!..
Его крик, с каждым словом наливающийся истерикой, перебила звонкая оплеуха, от которой у него загудело в голове и жгуче вспыхнула покрасневшая щека.
- Если будешь орать, переломаем руки. Посмотрим тогда, как ты будешь управляться с баяном, - пригрозил мужчина, - у тебя ведь нет других источников дохода?
Побледневший Матвей широко распахнул глаза и послушно умолк. Он не видел, кто его удерживал, а оборачиваться опасался, зато отлично мог разглядеть человека, который стоял перед ним. Это было самое непримечательное лицо, которое только можно встретить в спальном районе, и даже если Матвей уже проскальзывал по нему невнимательным взглядом, подтвердить это было нельзя.
- Как тебе вообще пришла в голову такая идея? И почему он ее поддержал? У вас слабоумие? – мужчина задавал один вопрос за другим, и они явно были для него риторическими. - Ладно ты, ты ширяешься свежатиной, неудивительно, что у тебя мозги сварились, а он почему согласился?
Глаза Матвея заволокло ужасом, будто земля под ногами вдруг превратилась в шаткий гнилой остов, под которым не было ничего, кроме голодной утробы. До него дошло, что речь идет явно не о шести тысячах.
- Какая идея? – боязливо выдавил Матвей. - Кто – он? О чем мы вообще разговариваем?
- Сам-то как думаешь, наркоша? В воскресенье вечером вы с Горбовским отняли у Марата восемьдесят тысяч. До тупого просто: избили, заставили сказать пин-код от карточки и обналичили все, что на ней было. Чем вы думали? Считали, что Марат работает один?
Достав из кармана темно-красную ксиву с двуглавым орлом, щитом и змеей, обвивающей меч, мужчина раскрыл ее и продемонстрировал стремительно обмякающему Матвею, который едва держался на ногах.
- ФСКН, служба охраны, сотрудник Рубцов, - на всякий случай продублировал мужчина указанные данные, - теперь перестанешь дурака из себя строить, гражданин Грязев?
Матвея било дрожью - ощущение утробы под обманчивым слоем почвы стало еще вещественнее. Если внешние сотрудники ФСКН отвечали за распространение, то служба охраны занималась защитой внешних сотрудников от недоброжелателей. К каждому прикормленному дилеру наркоконтроль приставлял сотрудника службы охраны, который был одновременно и защитником, и куратором, чья зловещая роль заключалась в разговорах по душам, если дилер начинал забываться, а в особо тяжелых случаях даже в физическом устранении. Естественно, без приказа свыше физическое устранение было невозможно, однако кураторам, имевшим в анамнезе бандитское прошлое и энное количество убитых, душевное смятение было чуждо.
«Вот как. Они от невского синдиката, - отстраненно думал Матвей, прокручивая в голове нелепую воскресную драку, в реальности окончившуюся ничем, - Марат под невским синдикатом. Вот как…»
- Я не грабил Марата. У меня есть свидетели!
- Кто может подтвердить, что ограбления не было? – пристально всмотрелся в него Рубцов.
- Ася, Лада и Слава. Они…
- …крайне заинтересованные лица, которые могут тебя выгораживать. Особенно Горбовский. Других нет? – с учтивой издевкой уточнил Рубцов.
«Он ведь всех их знает», - мелькнуло у Матвея в голове. Его лицо плаксиво дернулось. Не найдя ответа, он изнуренно опустил голову.
- То есть, доказать свою невиновность ты не можешь.
- Но мы не брали его деньги, я не могу ничего вернуть, у меня их попросту нет… - едва слышно промямлил он. Однако Рубцов хорошо его расслышал и расплылся в довольной улыбке:
- На нет и суда нет.
Он запустил широкую ладонь под куртку, и в полумраке сверкнул вороненой сталью «макаров». Всем существом Матвей ощутил непреодолимое желание вырваться, но тело оцепенело, покрывшись липкой испариной, как будто связь между телом и мозгом оборвалась. Чуждо, словно через ватное одеяло, он ощутил, как его ткнули в спину, как прижалась к лицу мокрая земля, а в открытый рот затекла грязная вода, как в твердую кость затылка уткнулось холодное дуло. Вдалеке раздался чей-то некрасивый плач, послышалось заискивающее зацикленное «нет», повторяющееся на одной надрывной ноте, и у затылка что-то сухо щелкнуло.
Связь с телом возобновилась, и он увидел свою крупно трясущуюся руку, вцепившуюся в комковатую грязь. Туманный ландшафт искажался от слез, а горло булькало остаточными рыданиями.
- Это была пробная демонстрация, - объяснил Рубцов, пряча пистолет, - ровно через месяц, третьего августа мы заглянем к тебе в гости. Третьего августа ты отдашь нам сто тысяч рублей. Конечно, украли вы восемьдесят, но наказание должно быть доходчивым, поэтому шестьдесят мы накидываем сверху – за моральный ущерб.
Наклонившись к Матвею, Рубцов поправил воротник куртки и тихо добавил:
- Радуйся, что тебе дали такую отсрочку. Как-нибудь выпутаешься, если не тупой. Это очень, очень мягкие условия. Понял, Грязев?
- Понял, - всхлипнул он. Удовлетворенные результатом, Рубцов с коллегой сразу же растворились в тумане. Матвей поднялся не сразу - долго не мог решиться. Ни о гашише, ни о перезакладе он уже не думал. Влажные от грязи волосы прилипли к виску, на бледном лице запеклась кровь из разбитой губы, одежда промокла пятнами. Нетвердо держась на ногах, опираясь на оградки, он побрел к выходу с кладбища.
- Ох ты ж бля! – чертыхнулся вдруг Матвей, осознав ситуацию до конца. Навалившись на узкую стелу ближайшего памятника, он полез в карман. Телефон Горбовского был отключен. Во всех остальных аккаунтах Горбовский был оффлайн.
«ПРИЕЗЖАЙ СРОЧНО, НАДО ПОГОВОРИТЬ», - написал ему Матвей и на всякий случай продублировал сообщение во всех мессенджерах.
Доковыляв до квартиры, Матвей подрагивающими руками открыл дверь своей комнаты и ввалился в ее бледно-желтое нутро. Он заперся на ключ, задернул шторы и, даже не потрудившись переодеться, ничком рухнул на застеленный диван. Следующие два часа он лежал с открытыми глазами, заново осознавал мир и приходил в себя.
Когда ощущение жизни вернулось до такой степени, что напомнил о себе голод, Матвей с неохотой сжевал оставшуюся в холодильнике четверть шавермы, сменил одежду и достал из-под матраса золотое кольцо матери, завернутое в лоскут розового ситца.
В ломбарде терпко пахло корвалолом и сиренью. В узком закутке, который от клиентов отделяла решетка, крашеная белой эмалью, сидел старик-оценщик с мрачным взглядом и соломенно-седыми бровями. На спинке его стула висел желтый дождевик. Старик узнал Матвея, но ничего не сказал, вместо этого равнодушно выдав деньги и залоговый билет.
Матвей вышел из ломбарда под ярко-желтый свет неоновых букв, пляшущий на темных лужах неровными кляксами. Буквы горели желтым настолько ярко, что Матвею стало дискомфортно, и он, закурив, покинул тесный переулок, ведущий к асфальтовой дороге. На обочине тускло мерцал лайтбокс с портретом президента, подсвеченный голубовато-желтым.
«Начало положено, - затянулся он, наполнив рот дымной горечью, и выдохнул, - пять тысяч уже есть»
В кармане зажужжал телефон, и Матвей поспешил взять трубку. Горбовский даже забыл поздороваться.
- Они уже были у тебя? – спросил он, пытаясь отдышаться. – Тебя сильно покоцали?
- В основном, морально, - сухо ответил Матвей и бросил окурок в лужу, - приезжай. Что-нибудь придумаем.
Оставалось только ждать приезда Горбовского. Не удержавшись, Матвей закурил снова. Его внимание привлек невысокий желто-голубоватый лайтбокс. Подойдя к нему вплотную, Матвей сначала разглядел мелкие подрагивающие капли на защитном стекле, потом акварельно-размытое отражение собственного лица со слегка опухшей щекой и уже в последнюю очередь, третьим слоем – крупный план лица президента. Среди седины еще можно было найти редкие рыжие волосы, а за старческим плечом высилась волгоградская Родина-Мать, воздевающая к небу меч, чтобы стереть заокеанских демонов в радиоактивный пепел. Железобетонный хитон, скрывающий монументальные груди с острыми сосками, и разверстый в немом гневе черный рот придавали ей угрожающее сходство с богиней Кали.
Глава 4
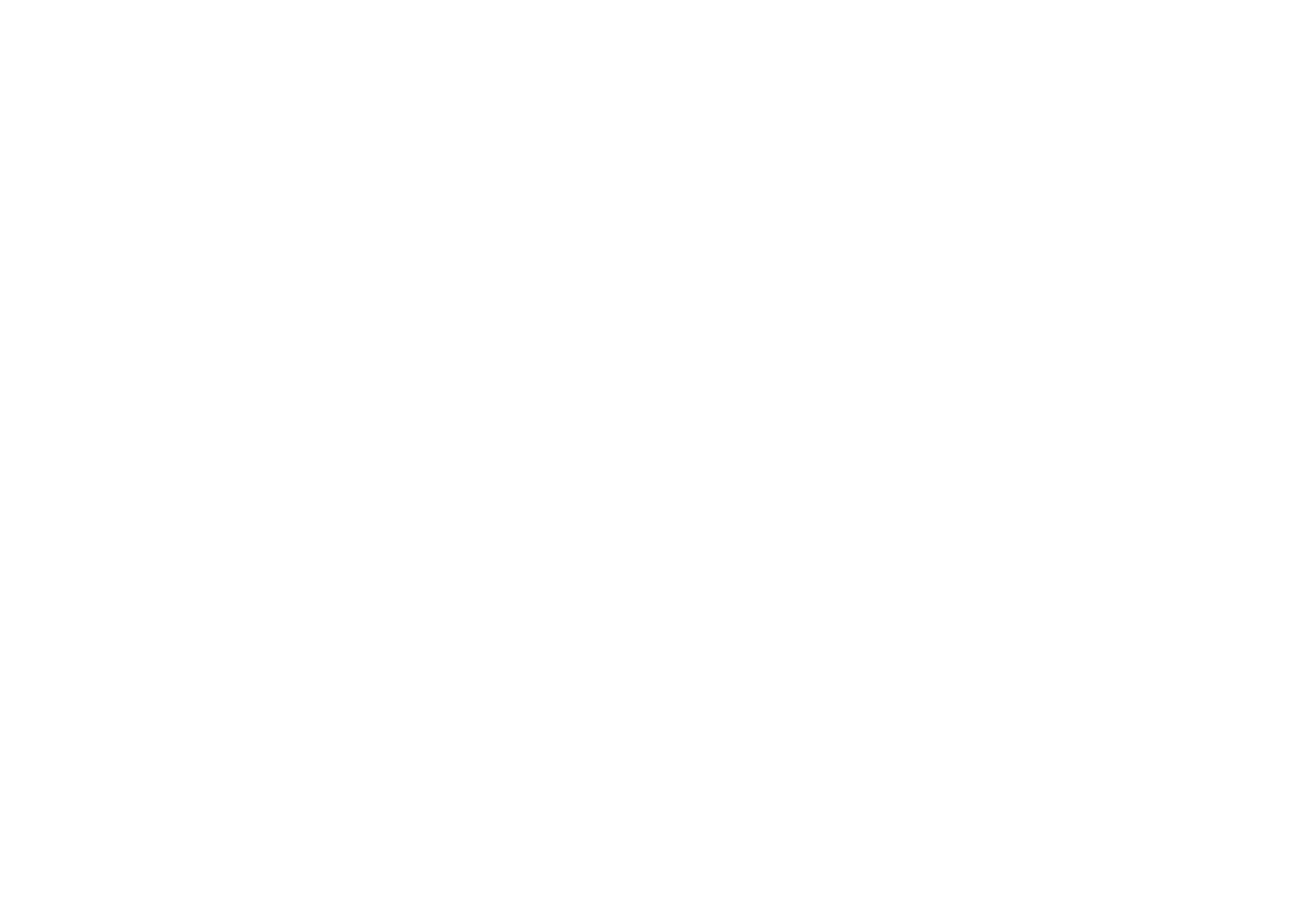
Ты здравомыслящий, и ты осознаешь кратковременность жизни между рождением и смертью. Получи из этого выгоду.
Дугпа Ринпоче, «Жизненные наставления далай-ламы»
Дугпа Ринпоче, «Жизненные наставления далай-ламы»
июль, 2030 год
Горбовский принес нехорошие вести. Приехав в обещанное время, он скользнул тусклым рассредоточенным взглядом по припухшей щеке Матвея, поправил туго набитую спортивную сумку, висящую у него на плече, и плюхнулся на диван. Сегодня Горбовский сутулился больше чем обычно, а на щеках проступили болезненные пятна румянца. У рта, изогнутого в сардонической улыбке, над бровью и на греческой переносице наливались вишнево-черным свежие гематомы.
Матвей то ли прислонялся к стене, то ли наваливался на нее всем весом и курил, стряхивая пепел в красную чашку, что стояла на невысоком комоде. Вполсилы горела морская звезда люстры, разгоняя сумрачные полутени.
Задвинув сумку ногой под стол, Горбовский удрученно нырнул лицом в сложенные ладони, потер щеки, как это делают люди, приходящие в себя после крепкого сна, и решился заговорить. Как выяснилось, служба охраны пришла прямо к нему домой. Избивали его на общей кухне – на глазах у других жильцов и квартирной хозяйки, вынужденных слушать их угрожающий монолог, прерываемый криками упирающегося Горбовского. Требования ему предъявили такие же, как и Матвею: собрать к третьему августа сто тысяч рублей. Когда сотрудники службы охраны уехали на черном гелендвагене, хозяйка, которая Горбовского и без того недолюбливала, заставила его собрать вещи и покинуть квартиру. Она сослалась на безопасность других жильцов, которую преступник и наркоман, спутавшийся с силовиками, ставил под угрозу.
- Отдала деньги за оставшиеся дни, и на том спасибо, - подытожил Горбовский. Выпустив изо рта дым, Матвей вдавил окурок в фарфор чашки, служившей ему пепельницей, и достал из помятой пачки новую сигарету.
- Почему ты ничего не сделал? – скупо спросил он.
- А что я мог сделать? У них бицепсы, как моя башка.
- Я не про это. Почему ты не попросил, чтобы разобралась твоя тетка?
- Сам ведь знаешь, она даже слышать меня не желает, - развел руками Горбовский, - я порчу ей репутацию. А больше никто мне помочь не может.
Матвей немного отдернул штору. В заоконной темени тихо шуршала липа, листья которой будто густо измазали чернилами, в самом сердце тьмы горели далекие огни станции, а через открытую форточку вваливался прохладный воздух.
«Самый темный предрассветный час», - подумал Матвей. Обхватив голову руками, Горбовский с тоской произнес:
- Мы его карточку даже в глаза не видели. Не понимаю, как он вообще это доказал.
- Очень легко. Случай типичнейший: два наркомана ограбили дилера, - тихо сказал Матвей, - а организатор еще и колется, что автоматически обнуляет его оправдания, даже самые убедительные. Что тут доказывать? Мотивы вечные, как греческая трагедия.
Горбовский пристально посмотрел на него. Вкупе с похоронным равнодушием красноречие Матвея, которым он пользовался в редкие минуты рефлексии, производило нехорошее впечатление.
- Послушай, я много думал в дороге, - начал Горбовский, перейдя наконец к делу, - они ведь не оставят нас в покое. И у нас только два варианта: либо найти деньги, либо уехать. Жаль, конечно, что придется бросить Петербург, но что еще нам остается? Можно уехать, например, на Алтай, в город поменьше. Жить там и не отсвечивать.
- Алтай – часть России, там нас найдут. Нам нужны микрозаймы. Отдадим им деньги, а со временем и по кредиту рассчитаемся.
- Взять сто тысяч, а возвращать пятьсот? Нет уж, спасибо. Поменяем одних коллекторов на других. Еще вопрос, кто из них хуже.
Матвей пошевелился, стряхнув с себя оцепенение кататоника, кинул догоревший окурок в чашку, наполовину заполненную черно-серыми комочками пепла, и медленным движением руки придвинул к окну стул. Усевшись, он закинул ногу на ногу, сложил руки на груди и откинулся на спинку стула. Глаза Матвея закрылись, словно он решил подремать, утомившись за день от бытовых хлопот. Его скупые жесты сквозили равнодушием покойника, и Горбовский, который не знал, с какого ракурса выгодно подать настоящий, первоначальный план, который ожидал увидеть Матвея испуганным до истерики, но точно не таким, понял, что подходящий момент настал.
- Есть одна идея. Вот только не знаю, понравится ли она тебе, - заговорил Горбовский, собираясь с духом. Приоткрыв один глаз, Матвей вопросительно посмотрел на него.
- У нас много друзей, которые нюхают, - сбивчиво пробормотал Горбовский, сдерживая бегающий взгляд и следя за реакцией Матвея, - по грамму в день так точно. Они же торчат. На них быстро можно по сотне собрать. Вообще легко.
Выпрямившись, Матвей издал сухой смешок, от которого Горбовский поежился. На угольно-черном фоне окна лицо Матвея казалось бледным пятном, которое пересекала скошенная улыбка. Расставив ноги, он уперся локтями в колени и положил подбородок на сплетенные пальцы. На улице коротко взвизгнул колесами невидимый автомобиль, после чего глухой рокот двигателя удалился, и вновь повисла тишина.
- И мы перестанем торговать, когда соберем сотню? – осведомился Матвей.
- Конечно.
- Любишь рисковать, Слава, - хмыкнул Матвей.
- Лариса же продает, и никто ей не помогает.
- Очень в этом сомневаюсь.
С неравномерно припухших губ Матвея не сходила непонятная усмешка. В ожидании хоть какого-нибудь, даже отрицательного ответа Горбовский замер.
- Это серьезное дело, а не хрен собачий, - вдруг помрачнел Матвей, - я должен подумать, ладно?
Переставив чашку с окурками на подоконник, Матвей подцепил зубами сигарету из пачки, и в стекле отразился медно-красный язычок пламени. По выцветшей внутренней раме, покрытой струпьями облезающей краски и серым слоем пыли, неспешно ползла божья коровка.
В прошлом сентябре, когда Матвей только переехал в Петербург, на улицах города время от времени встречались дикие лисы: уже несколько лет муниципалитет пытался избавиться от бездомных собак и кошек, однако природа не знает вакуума, и их место заняли лисы, пришедшие на запах отбросов. Почти всю осень Матвей провел близ Сенной площади с россыпью небрезгливых ломбардов, проституток и шашлычных: он работал официантом в кафе «Кристалл», белые интерьеры которого сверкали серебристым блеском, когда на них падали игольчатые лучи солнца.
Работа требовала дружелюбия и выносливости, а Матвей почти весь день проводил на гудящих ногах, и под конец смены улыбаться сменяющим друг друга незнакомцам становилось морально тяжело. Лада, которая тогда еще была его коллегой и работала с ним в одну смену, держалась с посетителями радушно и, кажется, редко когда уставала. Объяснение ее бодрости нашлось быстро, когда она по-товарищески угостила Матвея узкой дорогой амфетамина, которая за несколько минут превратила его в разговорчивого, дружелюбного и невероятно деятельного типа, влажно сверкающего потемневшими глазами.
С Ладой его связывала дружба, дополненная сексом и не омраченная отношениями: угрюмый с виду Матвей оказался на удивление нежным. В октябре Лада познакомила его с Асей и Славой, а в ноябре уволилась, потому что вебкам наконец стал приносить достаточно денег. Матвей же остался один – с хамоватыми посетителями и свежеприобретенной вредной привычкой. Стал заявлять о себе недосып – под глазами появились синяки, которых прежде не было, а в октябре начал подтаивать подкожный жир, из-под которого проступили лицевые кости.
К счастью, сменный график позволял отсыпаться сутками, чем Матвей и пользовался, чтобы избежать депривации сна и присущих ей галлюцинаций. Лишившийся внутренний ограничений и брезгливости, он нюхал каждый день, иногда используя для этого даже грязные подоконники парадных. Амфетамин на время заглушал давящую усталость и беспричинную грусть, хотя прежнего воодушевления уже не дарил. Шеф, армянин неопределенных лет и привычек, стал косо поглядывать на Матвея, но вопросов пока не задавал.
Ноябрь принес с собой перемены. Матвей исчерпал кредитный лимит, и настало время выплачивать проценты – закономерный итог для шаблонной, как жития святых, истории зависимости. Передозировка застала его прямо на смене, когда он, сдержанно улыбаясь, нес двум бойким женщинам их заказ – греческий салат, борщ и клюквенный морс. Не дойдя до их столика пяти шагов, Матвей резко обмяк и рухнул на блестящую серебром керамическую плитку. Звонко, с пронзительным эхом разбилась посуда, клюквенный морс смешался с борщом и салатом в расползающуюся лужу, пускающую побеги по швам между квадратами пола, а Матвей, смочив висок и белую рубашку в горячей красной жиже, рвано задергался в судорогах. Его глаза закатились, губы посинели, а рот набух вываливающейся наружу пеной.
Женщина, которой предназначался греческий салат, сноровисто сорвалась с места и перевернула Матвея набок, а ее подруга принялась испуганно звать администратора. Однако вместо администратора пришел шеф.
- А, допрыгался, нарколыга, - философски констатировал шеф, глядя на побледневшего до восковой желтизны Матвея, судороги которого постепенно сходили на нет, - зовите скорую, что ж теперь.
Через несколько минут судороги прекратились, и бессознательного Матвея перенесли в подсобку, где уложили на диван, пропахший терпкими запахами кухни. Через час ослабший Матвей пришел в себя. Он осоловело сидел на диване и пустыми глазами смотрел перед собой, пока шеф не вызвал его к себе. Тактично, без лишних слов шеф рассчитал Матвея, вычтя из зарплаты стоимость битой посуды.
Так и не дождавшись скорой, крайне подавленный Матвей вернулся домой, в Новый Петергоф. Узнав, как и за что его уволили, Евгений Копейкин озадаченно покачал головой и, памятуя, что Матвей неплохо играет на баяне, предложил отвести его на вокзал, где Копейкин работал попрошайкой. Выбора у Матвея не оставалось, и предложение Копейкина он принял.
Ближайшие две недели он осваивался на новой работе и ничего не принимал: слишком уж сильным оказалось потрясение, да и прежнего эффекта амфетамин уже не оказывал. Однако тяга никуда не делась, и Матвей переключился на свежесть, которая при меньших количествах и затратах обещала гораздо больше. Чтобы не доводить до греха, он ширялся только раз в неделю и никогда не принимал больше куба. Вряд ли это можно было назвать силой воли, но технику безопасности Матвей соблюдал неукоснительно: четко отмеренное количество вещества, определенный промежуток между приемами и стерильные шприцы.
Однако даже наркозависимость Матвея не была такой опасной, как предложение Горбовского.
Следовало учесть все риски: и государственную организацию ФСКН, и ныне нелегальную активистскую организацию «Антидилер», членов которой можно было узнать по стильным черным жилеткам с очевидной белой надписью на спине и броской аббревиатуре «АД» на левой стороне груди. В первой половине двадцатых активисты «Антидилера» сотрудничали с ФСКН и полицией, даже проводя совместные спецоперации, однако во второй половине двадцатых политический климат резко изменился, и организация лишилась законного статуса, став чем-то средним между народной дружиной и бандформированием. Цепочка несчастливых событий, приведшая к официальной смерти «Антидилера», началась с того, что активисты, иллюстрируя известные слова Пушкина о русском бунте, изрубили топорами автомобиль офисного клерка, которого они из-за внешнего сходства спутали с искомой жертвой.
Закончилось все на Васильевском острове, у памятника архитектору Трезини. Ранним утром к ухмыляющемуся бронзовому архитектору, чьи буйные кудри и медвежья шуба готовились засверкать под восходящим солнцем, подъехал автомобиль эконом-класса с заляпанными грязью номерами, откуда выбросили избитого молодого человека. Прокатившись по асфальту, черный от побоев молодой человек распластался у темного постамента, как сломанная кукла, и умер, не приходя в сознание. На правом запястье покойного обнаружили часы «Hublot», что исключало ограбление, а на шее – татуировку в виде пышного макового цветка, по которой покойного опознали соседи. Соседи поведали следствию, что официально безработный Максим Булыгин всерьез занимался наркоторговлей.
Маховик уголовного дела неумолимо раскрутился. Убийц нашли быстро, и оказались ими активисты «Антидилера», которые не рассчитали силу. Запаниковав, они поспешно выбросили умирающее тело, хотя могли вызывать скорую, что скостило бы им срок.
Убийство оказалось слишком публичным, чтобы его можно было замять.
Незадолго до этого новый состав ФСКН, заинтересованный в захвате рынка, дал активистам карт-бланш, намекнув, что старания «Антидилеру» зачтутся. Старания действительно зачлись, но совсем не так, как рассчитывали активисты – смерть Булыгина стала формальным поводом для решительных мер. Организацию лишили официального статуса, и ее участники оказались на прежде непривычном для них полулегальном положении, практически встав на одну ступень со своими прежними мишенями.
Активистам пришлось стать осторожнее. Они больше не прибегали к хулиганству и рукоприкладству, заинтересовавшись более действенным рычагом – осуждением общества. Если раньше они снимали рейды на камеру и выкладывали смонтированные записи в интернет, то теперь перешли на прямые трансляции. Окружив ничего не подозревающего наркоторговца, активисты фиксировали на смартфон его реакцию и выражение лица, оглашая попутно его имя, адрес и список подвигов, после чего разбегались, как напуганные выстрелом воробьи. Это было все, что они могли сделать в сложившемся положении. Тягаться с ФСКН было самоубийственно.
Столбик пепла осыпался на подоконник, и Матвей очнулся от раздумий. Прищурившись, он посмотрел вдаль: круглые огни станции заискрились, качнув светящимися перекрестьями.
Что сказал бы его отец, время от времени выходящий на волю и возвращающийся обратно в тюрьму на государственное попечение? Что сказал бы его прадед, без вести пропавший в сталинских лагерях? Что сказал бы его дальний предок из опричнины, про которого иногда с томной ностальгией рассказывала мать?
- Месяц, - повернулся Матвей к ожидающему Горбовскому, - не дольше.
- Слава богу, - облегченно выдохнул Горбовский, - один я бы это не вывез, слишком сложно, слишком…
- Чтобы не усугубить ситуацию, мы должны действовать очень осторожно. План обсудим завтра, а я пока обдумаю нюансы.
Тон Матвея был настолько рутинным, что Горбовский окинул его внимательным взглядом, в котором даже просматривалась доля уважения:
- Знаешь, я не ожидал от тебя такой реакции. Даже не верится, что у тебя это впервые.
- Я в Офтони закладки делал.
- Закладки? – переспросил удивленный Горбовский. Стало проясняться то, что прежде ему казалось непонятным, а оттого и настораживающим.
- Ага. Забирал, фасовал, раскладывал.
- Почему ты никогда об этом не говорил?
- К слову не пришлось, - пожал плечами Матвей. Он пристально посмотрел на Горбовского, а потом и на спортивную сумку, которую тот задвинул под стол.
- Можешь со мной пожить этот месяц, - предложил он, - так будет проще, раз уж мы теперь работаем вместе. К тому же, сэкономим на аренде.
- А ваша Люба меня не выпрет? – опасливо поинтересовался Горбовский. Условия складывались такие, что перспектива сэкономить семь тысяч не могла его не радовать.
- Как видишь, ей все равно, кто у нее живет, лишь бы платили в срок. Просто будем делить пополам плату за комнату и плату по счетчикам. В кухне пользуйся правой верхней конфоркой, другие не трогай. Женя просто занудный, а Соня довольно вспыльчивая. От нее может прилететь.
- Спасибо! – пылко выдохнул Горбовский, стиснув шершавые пальцы Матвея в крепком рукопожатии. – Спасибо, дружище!
Определив собирающегося спать Горбовского на свободную половину дивана, Матвей наведался в чулан при кухне, где хранился никому ненужный хлам, и принес колючее шерстяное одеяло с витиеватым азиатским орнаментом. Кинув одеяло на сухощавые ноги Горбовского, он крутанул выключатель, и комната наполнилась полумраком.
- Я позже лягу, - сосредоточенно сказал Матвей, вернувшись на прежнее место у окна. В его пальцах снова вертелась сигарета, - продумаю детали.
- Угу, - буркнул Горбовский, укрывшись тяжелым одеялом. Заснул он быстро. Лицо расслабилось, а челюсть слабо отвисла, приоткрыв темный зев рта.
Вымотанный Матвей неизбежно задремал, уткнувшись лбом в подоконник. Разбудил его рассвет, нестерпимо пылающий красным. Чашка с горсткой пепла, тетрадный лист, мелко исписанный вычислениями, и руки Матвея окрасились золотисто-алым.
Тряхнув расфокусированной головой, он сложил листок вчетверо и спрятал его в карман джинсов. Малиновый шар солнца, медленно поднимающийся все выше, красными всполохами пробивался сквозь колышущуюся листву липы и слепил глаза. Задернув шторы, Матвей потянулся к столу, и стеклянная колба лава-лампы налилась тускло-багровым светом.
Матвей осторожно поднес ладонь к лицу и вгляделся в длинную линию жизни, в мелко подрагивающие пальцы с неухоженными ногтями, в толстый слой кутикулы. Эта человеческая ладонь со всеми ее несовершенствами принадлежала именно ему и была такой вещественной, что Матвей пошевелил пальцами, убеждаясь, что все сочленения функционируют нормально и подчиняются приказам его мозга.
«Я настоящий, - осознал вдруг он, - и планы мои… тоже настоящие»
Горбовский принес нехорошие вести. Приехав в обещанное время, он скользнул тусклым рассредоточенным взглядом по припухшей щеке Матвея, поправил туго набитую спортивную сумку, висящую у него на плече, и плюхнулся на диван. Сегодня Горбовский сутулился больше чем обычно, а на щеках проступили болезненные пятна румянца. У рта, изогнутого в сардонической улыбке, над бровью и на греческой переносице наливались вишнево-черным свежие гематомы.
Матвей то ли прислонялся к стене, то ли наваливался на нее всем весом и курил, стряхивая пепел в красную чашку, что стояла на невысоком комоде. Вполсилы горела морская звезда люстры, разгоняя сумрачные полутени.
Задвинув сумку ногой под стол, Горбовский удрученно нырнул лицом в сложенные ладони, потер щеки, как это делают люди, приходящие в себя после крепкого сна, и решился заговорить. Как выяснилось, служба охраны пришла прямо к нему домой. Избивали его на общей кухне – на глазах у других жильцов и квартирной хозяйки, вынужденных слушать их угрожающий монолог, прерываемый криками упирающегося Горбовского. Требования ему предъявили такие же, как и Матвею: собрать к третьему августа сто тысяч рублей. Когда сотрудники службы охраны уехали на черном гелендвагене, хозяйка, которая Горбовского и без того недолюбливала, заставила его собрать вещи и покинуть квартиру. Она сослалась на безопасность других жильцов, которую преступник и наркоман, спутавшийся с силовиками, ставил под угрозу.
- Отдала деньги за оставшиеся дни, и на том спасибо, - подытожил Горбовский. Выпустив изо рта дым, Матвей вдавил окурок в фарфор чашки, служившей ему пепельницей, и достал из помятой пачки новую сигарету.
- Почему ты ничего не сделал? – скупо спросил он.
- А что я мог сделать? У них бицепсы, как моя башка.
- Я не про это. Почему ты не попросил, чтобы разобралась твоя тетка?
- Сам ведь знаешь, она даже слышать меня не желает, - развел руками Горбовский, - я порчу ей репутацию. А больше никто мне помочь не может.
Матвей немного отдернул штору. В заоконной темени тихо шуршала липа, листья которой будто густо измазали чернилами, в самом сердце тьмы горели далекие огни станции, а через открытую форточку вваливался прохладный воздух.
«Самый темный предрассветный час», - подумал Матвей. Обхватив голову руками, Горбовский с тоской произнес:
- Мы его карточку даже в глаза не видели. Не понимаю, как он вообще это доказал.
- Очень легко. Случай типичнейший: два наркомана ограбили дилера, - тихо сказал Матвей, - а организатор еще и колется, что автоматически обнуляет его оправдания, даже самые убедительные. Что тут доказывать? Мотивы вечные, как греческая трагедия.
Горбовский пристально посмотрел на него. Вкупе с похоронным равнодушием красноречие Матвея, которым он пользовался в редкие минуты рефлексии, производило нехорошее впечатление.
- Послушай, я много думал в дороге, - начал Горбовский, перейдя наконец к делу, - они ведь не оставят нас в покое. И у нас только два варианта: либо найти деньги, либо уехать. Жаль, конечно, что придется бросить Петербург, но что еще нам остается? Можно уехать, например, на Алтай, в город поменьше. Жить там и не отсвечивать.
- Алтай – часть России, там нас найдут. Нам нужны микрозаймы. Отдадим им деньги, а со временем и по кредиту рассчитаемся.
- Взять сто тысяч, а возвращать пятьсот? Нет уж, спасибо. Поменяем одних коллекторов на других. Еще вопрос, кто из них хуже.
Матвей пошевелился, стряхнув с себя оцепенение кататоника, кинул догоревший окурок в чашку, наполовину заполненную черно-серыми комочками пепла, и медленным движением руки придвинул к окну стул. Усевшись, он закинул ногу на ногу, сложил руки на груди и откинулся на спинку стула. Глаза Матвея закрылись, словно он решил подремать, утомившись за день от бытовых хлопот. Его скупые жесты сквозили равнодушием покойника, и Горбовский, который не знал, с какого ракурса выгодно подать настоящий, первоначальный план, который ожидал увидеть Матвея испуганным до истерики, но точно не таким, понял, что подходящий момент настал.
- Есть одна идея. Вот только не знаю, понравится ли она тебе, - заговорил Горбовский, собираясь с духом. Приоткрыв один глаз, Матвей вопросительно посмотрел на него.
- У нас много друзей, которые нюхают, - сбивчиво пробормотал Горбовский, сдерживая бегающий взгляд и следя за реакцией Матвея, - по грамму в день так точно. Они же торчат. На них быстро можно по сотне собрать. Вообще легко.
Выпрямившись, Матвей издал сухой смешок, от которого Горбовский поежился. На угольно-черном фоне окна лицо Матвея казалось бледным пятном, которое пересекала скошенная улыбка. Расставив ноги, он уперся локтями в колени и положил подбородок на сплетенные пальцы. На улице коротко взвизгнул колесами невидимый автомобиль, после чего глухой рокот двигателя удалился, и вновь повисла тишина.
- И мы перестанем торговать, когда соберем сотню? – осведомился Матвей.
- Конечно.
- Любишь рисковать, Слава, - хмыкнул Матвей.
- Лариса же продает, и никто ей не помогает.
- Очень в этом сомневаюсь.
С неравномерно припухших губ Матвея не сходила непонятная усмешка. В ожидании хоть какого-нибудь, даже отрицательного ответа Горбовский замер.
- Это серьезное дело, а не хрен собачий, - вдруг помрачнел Матвей, - я должен подумать, ладно?
Переставив чашку с окурками на подоконник, Матвей подцепил зубами сигарету из пачки, и в стекле отразился медно-красный язычок пламени. По выцветшей внутренней раме, покрытой струпьями облезающей краски и серым слоем пыли, неспешно ползла божья коровка.
В прошлом сентябре, когда Матвей только переехал в Петербург, на улицах города время от времени встречались дикие лисы: уже несколько лет муниципалитет пытался избавиться от бездомных собак и кошек, однако природа не знает вакуума, и их место заняли лисы, пришедшие на запах отбросов. Почти всю осень Матвей провел близ Сенной площади с россыпью небрезгливых ломбардов, проституток и шашлычных: он работал официантом в кафе «Кристалл», белые интерьеры которого сверкали серебристым блеском, когда на них падали игольчатые лучи солнца.
Работа требовала дружелюбия и выносливости, а Матвей почти весь день проводил на гудящих ногах, и под конец смены улыбаться сменяющим друг друга незнакомцам становилось морально тяжело. Лада, которая тогда еще была его коллегой и работала с ним в одну смену, держалась с посетителями радушно и, кажется, редко когда уставала. Объяснение ее бодрости нашлось быстро, когда она по-товарищески угостила Матвея узкой дорогой амфетамина, которая за несколько минут превратила его в разговорчивого, дружелюбного и невероятно деятельного типа, влажно сверкающего потемневшими глазами.
С Ладой его связывала дружба, дополненная сексом и не омраченная отношениями: угрюмый с виду Матвей оказался на удивление нежным. В октябре Лада познакомила его с Асей и Славой, а в ноябре уволилась, потому что вебкам наконец стал приносить достаточно денег. Матвей же остался один – с хамоватыми посетителями и свежеприобретенной вредной привычкой. Стал заявлять о себе недосып – под глазами появились синяки, которых прежде не было, а в октябре начал подтаивать подкожный жир, из-под которого проступили лицевые кости.
К счастью, сменный график позволял отсыпаться сутками, чем Матвей и пользовался, чтобы избежать депривации сна и присущих ей галлюцинаций. Лишившийся внутренний ограничений и брезгливости, он нюхал каждый день, иногда используя для этого даже грязные подоконники парадных. Амфетамин на время заглушал давящую усталость и беспричинную грусть, хотя прежнего воодушевления уже не дарил. Шеф, армянин неопределенных лет и привычек, стал косо поглядывать на Матвея, но вопросов пока не задавал.
Ноябрь принес с собой перемены. Матвей исчерпал кредитный лимит, и настало время выплачивать проценты – закономерный итог для шаблонной, как жития святых, истории зависимости. Передозировка застала его прямо на смене, когда он, сдержанно улыбаясь, нес двум бойким женщинам их заказ – греческий салат, борщ и клюквенный морс. Не дойдя до их столика пяти шагов, Матвей резко обмяк и рухнул на блестящую серебром керамическую плитку. Звонко, с пронзительным эхом разбилась посуда, клюквенный морс смешался с борщом и салатом в расползающуюся лужу, пускающую побеги по швам между квадратами пола, а Матвей, смочив висок и белую рубашку в горячей красной жиже, рвано задергался в судорогах. Его глаза закатились, губы посинели, а рот набух вываливающейся наружу пеной.
Женщина, которой предназначался греческий салат, сноровисто сорвалась с места и перевернула Матвея набок, а ее подруга принялась испуганно звать администратора. Однако вместо администратора пришел шеф.
- А, допрыгался, нарколыга, - философски констатировал шеф, глядя на побледневшего до восковой желтизны Матвея, судороги которого постепенно сходили на нет, - зовите скорую, что ж теперь.
Через несколько минут судороги прекратились, и бессознательного Матвея перенесли в подсобку, где уложили на диван, пропахший терпкими запахами кухни. Через час ослабший Матвей пришел в себя. Он осоловело сидел на диване и пустыми глазами смотрел перед собой, пока шеф не вызвал его к себе. Тактично, без лишних слов шеф рассчитал Матвея, вычтя из зарплаты стоимость битой посуды.
Так и не дождавшись скорой, крайне подавленный Матвей вернулся домой, в Новый Петергоф. Узнав, как и за что его уволили, Евгений Копейкин озадаченно покачал головой и, памятуя, что Матвей неплохо играет на баяне, предложил отвести его на вокзал, где Копейкин работал попрошайкой. Выбора у Матвея не оставалось, и предложение Копейкина он принял.
Ближайшие две недели он осваивался на новой работе и ничего не принимал: слишком уж сильным оказалось потрясение, да и прежнего эффекта амфетамин уже не оказывал. Однако тяга никуда не делась, и Матвей переключился на свежесть, которая при меньших количествах и затратах обещала гораздо больше. Чтобы не доводить до греха, он ширялся только раз в неделю и никогда не принимал больше куба. Вряд ли это можно было назвать силой воли, но технику безопасности Матвей соблюдал неукоснительно: четко отмеренное количество вещества, определенный промежуток между приемами и стерильные шприцы.
Однако даже наркозависимость Матвея не была такой опасной, как предложение Горбовского.
Следовало учесть все риски: и государственную организацию ФСКН, и ныне нелегальную активистскую организацию «Антидилер», членов которой можно было узнать по стильным черным жилеткам с очевидной белой надписью на спине и броской аббревиатуре «АД» на левой стороне груди. В первой половине двадцатых активисты «Антидилера» сотрудничали с ФСКН и полицией, даже проводя совместные спецоперации, однако во второй половине двадцатых политический климат резко изменился, и организация лишилась законного статуса, став чем-то средним между народной дружиной и бандформированием. Цепочка несчастливых событий, приведшая к официальной смерти «Антидилера», началась с того, что активисты, иллюстрируя известные слова Пушкина о русском бунте, изрубили топорами автомобиль офисного клерка, которого они из-за внешнего сходства спутали с искомой жертвой.
Закончилось все на Васильевском острове, у памятника архитектору Трезини. Ранним утром к ухмыляющемуся бронзовому архитектору, чьи буйные кудри и медвежья шуба готовились засверкать под восходящим солнцем, подъехал автомобиль эконом-класса с заляпанными грязью номерами, откуда выбросили избитого молодого человека. Прокатившись по асфальту, черный от побоев молодой человек распластался у темного постамента, как сломанная кукла, и умер, не приходя в сознание. На правом запястье покойного обнаружили часы «Hublot», что исключало ограбление, а на шее – татуировку в виде пышного макового цветка, по которой покойного опознали соседи. Соседи поведали следствию, что официально безработный Максим Булыгин всерьез занимался наркоторговлей.
Маховик уголовного дела неумолимо раскрутился. Убийц нашли быстро, и оказались ими активисты «Антидилера», которые не рассчитали силу. Запаниковав, они поспешно выбросили умирающее тело, хотя могли вызывать скорую, что скостило бы им срок.
Убийство оказалось слишком публичным, чтобы его можно было замять.
Незадолго до этого новый состав ФСКН, заинтересованный в захвате рынка, дал активистам карт-бланш, намекнув, что старания «Антидилеру» зачтутся. Старания действительно зачлись, но совсем не так, как рассчитывали активисты – смерть Булыгина стала формальным поводом для решительных мер. Организацию лишили официального статуса, и ее участники оказались на прежде непривычном для них полулегальном положении, практически встав на одну ступень со своими прежними мишенями.
Активистам пришлось стать осторожнее. Они больше не прибегали к хулиганству и рукоприкладству, заинтересовавшись более действенным рычагом – осуждением общества. Если раньше они снимали рейды на камеру и выкладывали смонтированные записи в интернет, то теперь перешли на прямые трансляции. Окружив ничего не подозревающего наркоторговца, активисты фиксировали на смартфон его реакцию и выражение лица, оглашая попутно его имя, адрес и список подвигов, после чего разбегались, как напуганные выстрелом воробьи. Это было все, что они могли сделать в сложившемся положении. Тягаться с ФСКН было самоубийственно.
Столбик пепла осыпался на подоконник, и Матвей очнулся от раздумий. Прищурившись, он посмотрел вдаль: круглые огни станции заискрились, качнув светящимися перекрестьями.
Что сказал бы его отец, время от времени выходящий на волю и возвращающийся обратно в тюрьму на государственное попечение? Что сказал бы его прадед, без вести пропавший в сталинских лагерях? Что сказал бы его дальний предок из опричнины, про которого иногда с томной ностальгией рассказывала мать?
- Месяц, - повернулся Матвей к ожидающему Горбовскому, - не дольше.
- Слава богу, - облегченно выдохнул Горбовский, - один я бы это не вывез, слишком сложно, слишком…
- Чтобы не усугубить ситуацию, мы должны действовать очень осторожно. План обсудим завтра, а я пока обдумаю нюансы.
Тон Матвея был настолько рутинным, что Горбовский окинул его внимательным взглядом, в котором даже просматривалась доля уважения:
- Знаешь, я не ожидал от тебя такой реакции. Даже не верится, что у тебя это впервые.
- Я в Офтони закладки делал.
- Закладки? – переспросил удивленный Горбовский. Стало проясняться то, что прежде ему казалось непонятным, а оттого и настораживающим.
- Ага. Забирал, фасовал, раскладывал.
- Почему ты никогда об этом не говорил?
- К слову не пришлось, - пожал плечами Матвей. Он пристально посмотрел на Горбовского, а потом и на спортивную сумку, которую тот задвинул под стол.
- Можешь со мной пожить этот месяц, - предложил он, - так будет проще, раз уж мы теперь работаем вместе. К тому же, сэкономим на аренде.
- А ваша Люба меня не выпрет? – опасливо поинтересовался Горбовский. Условия складывались такие, что перспектива сэкономить семь тысяч не могла его не радовать.
- Как видишь, ей все равно, кто у нее живет, лишь бы платили в срок. Просто будем делить пополам плату за комнату и плату по счетчикам. В кухне пользуйся правой верхней конфоркой, другие не трогай. Женя просто занудный, а Соня довольно вспыльчивая. От нее может прилететь.
- Спасибо! – пылко выдохнул Горбовский, стиснув шершавые пальцы Матвея в крепком рукопожатии. – Спасибо, дружище!
Определив собирающегося спать Горбовского на свободную половину дивана, Матвей наведался в чулан при кухне, где хранился никому ненужный хлам, и принес колючее шерстяное одеяло с витиеватым азиатским орнаментом. Кинув одеяло на сухощавые ноги Горбовского, он крутанул выключатель, и комната наполнилась полумраком.
- Я позже лягу, - сосредоточенно сказал Матвей, вернувшись на прежнее место у окна. В его пальцах снова вертелась сигарета, - продумаю детали.
- Угу, - буркнул Горбовский, укрывшись тяжелым одеялом. Заснул он быстро. Лицо расслабилось, а челюсть слабо отвисла, приоткрыв темный зев рта.
Вымотанный Матвей неизбежно задремал, уткнувшись лбом в подоконник. Разбудил его рассвет, нестерпимо пылающий красным. Чашка с горсткой пепла, тетрадный лист, мелко исписанный вычислениями, и руки Матвея окрасились золотисто-алым.
Тряхнув расфокусированной головой, он сложил листок вчетверо и спрятал его в карман джинсов. Малиновый шар солнца, медленно поднимающийся все выше, красными всполохами пробивался сквозь колышущуюся листву липы и слепил глаза. Задернув шторы, Матвей потянулся к столу, и стеклянная колба лава-лампы налилась тускло-багровым светом.
Матвей осторожно поднес ладонь к лицу и вгляделся в длинную линию жизни, в мелко подрагивающие пальцы с неухоженными ногтями, в толстый слой кутикулы. Эта человеческая ладонь со всеми ее несовершенствами принадлежала именно ему и была такой вещественной, что Матвей пошевелил пальцами, убеждаясь, что все сочленения функционируют нормально и подчиняются приказам его мозга.
«Я настоящий, - осознал вдруг он, - и планы мои… тоже настоящие»
Глава 5

Я поехал — свирепствовал тезис Littré, что преступление есть помешательство; приезжаю — и уже преступление не помешательство, а именно здравый-то смысл и есть, почти долг, по крайней мере благородный протест. «Ну как развитому убийце не убить, если ему денег надо!».
Ф. М. Достоевский, «Бесы»
Ф. М. Достоевский, «Бесы»
июль, 2030 год
В интимном полумраке задернутых штор, за которыми разгорался полдень, отбрасывали на стол размытые тени открытая консервная банка, где плавали в желтом масле трупики шпрот, тарелка с нарезанными ломтями ржаного хлеба и граненый стакан чая, над которым поднимался пар. Сбоку от запоздалого завтрака лежал небольшой магазинный пакет – непрозрачный, пестрый, с принтом из карнавальных флажков. В пакете лежали покупки, за которыми Матвей утром посылал Горбовского. Помотавшись по Апрашке и ее окрестностям, тот купил все необходимое: ворох зиплоков разного размера, несколько пар медицинских перчаток, пять блистеров глицина и электронные весы. Они умещались на ладони, а с захлопнутой крышкой даже напоминали блокнот.
Пакет пока ждал своей очереди, а Матвей, сидящий за столом, прихлебывал чай и заедал его маслянистым хлебом и шпротами, успевая при этом инструктировать Горбовского. Горбовский, сидящий на широкой боковине дивана, по другую сторону стола слушал его с таким вниманием, что иногда забывал моргать, и его веки с золотистыми ресницами лишь слабо подрагивали.
- Никто не должен знать, что мы торгуем вместе: группа лиц и предварительный сговор увеличивают срок, - исподлобья смотрел в пустоту Матвей, - если примут одного из нас, можно отделаться условным сроком, даже при доказанном сбыте. А вот если нас примут вдвоем, про условку можно забыть. Так что ты, Слава, торгуешь один, а про меня ничего не знаешь. Точно так же и я. Если они найдут мои нычки, то это – мое приготовление к сбыту, о котором ты не знал. И даже если судить будут нас обоих, это будут разные уголовные дела.
- Как у тебя все продумано, - протянул Горбовский. Шумно отхлебнув из стакана горячий чай, Матвей заученно продолжил, словно вовсе не услышал его комментарий:
- До последнего отрицай сбыт, напирая на хранение в целях личного употребления. Почему расфасовано? Потому что ты хронический наркоман, у тебя было уже несколько передозов, и еще один ты не переживешь. Поэтому ты расфасовал дозы для себя, чтобы случайно не хватить лишнего. Зачем тебе электронные весы? Все для того же: точно отмеривать дозы, потому что без весов это делать проблематично.
Матвей рассуждал очень деловито для начинающего драгдилера – без уверенности в успехе и безнаказанности предприятия, но с интонациями фаталиста, заведомо готового к форс-мажорам. Горбовский ощутил легкое покалывание в кончиках пальцев, похожее на сплав кокаинового отзвука в напряженных мышцах и отложенного на потом, но уже явившего себя страха. В последний раз, когда Горбовский ощущал такое покалывание, недвижимые снопы фар перед ним выхватывали из асфальтовой темноты труп, неестественно раскинувший сломанные конечности, окунувший голову в сиропную кровь.
Довольно строгим тоном Матвей подытожил:
- Максимум, который тебе грозит, если тебя вдруг примут с весом, это сбыт. Минимум – хранение. А уже между ними приготовление к сбыту. Очень хорошо, что мы ранее не судимы: выше шанс на условный срок.
Горбовскому стало не по себе, будто он снова втянул ноздрями щекочущий ночной воздух, будто по его раздраженно слизистой снова скользнули жасминные ноты «елочки», которая компульсивно покачивалась под зеркалом заднего вида. Матвей же, не замечая его смятения, объяснял, что клиентов нужно искать среди неболтливых друзей, которым можно доверять, советовал не жадничать, убеждая, что Горбовскому хватит и нескольких наркоманов, употребляющих каждый день, и просил ни за что не давать в долг.
- Никаких номеров, привязанных к паспорту, никаких аккаунтов, привязанных к легальным номерам. Связь через телеграм без упоминания реальных имен и адресов. После каждой беседы чисти историю чата. Ничего не записывай: ни на бумагу, ни в заметки. Держи информацию в голове - это единственное место, куда тебе не могут влезть. Деньги в руки не бери, только в электронном виде. Кэш может оказаться меченым, и тебя поймают на контрольной закупке.
Матвей искоса посмотрел на Горбовского, его темный взгляд на секунду стал холодным, как у монструозных обитателей морских глубин. Опомнившись от подавленных воспоминаний о границе между прежней и новой жизнью, Горбовский закивал.
- Ты всё понял?
Он закивал еще энергичнее. Матвей поставил опустевший стакан на стол. Достав из кармана свернутый вчетверо тетрадный листок, он развернул его и положил перед Горбовским. Пепельно-серая бумага, расчерченная линиями на строгие клетки, была испещрена нехитрыми вычислениями, и среди скошенных, вытянутых цифр выделялись жирно подчеркнутые числа с тремя нулями. Почерк оказался торопливым, а карандашные изгибы сливались в неотличимые друг от друга знаки, однако Матвей подкреплял объяснение, водя по бумаге указательным пальцем.
- Отлично. Теперь о цифрах. В месяц мы с тобой зарабатываем примерно по сорок тысяч, половина из них уходят на аренду и прочие нужды. Пять тысяч у меня уже есть, потому что я заложил кольцо матери, то есть, двадцать пять из ста у меня точно будут. Надо найти семьдесят пять. Забудем пока про амф и ешки, которые они тоже будут брать, посчитаем только мефедрон. Допустим, я покупаю десять граммов за четырнадцать тысяч, делаю из них одиннадцать граммов, продаю по три тысячи…
- Делаешь одиннадцать граммов? – непонимающе переспросил Горбовский. – Из десяти?
- Не тупи, Слава. Бутора будет мало, никто ничего не заметит. А если заметит, то спишет на толер.
- Как-то нехорошо им бодяжить. Они ведь наши друзья.
- Я хочу как можно быстрее с этим разобраться. Можешь не бодяжить, дело твое, - перебил его Матвей.
- Ладно, ладно, я тебя понял, - примирительно поднял руки Горбовский, - объясняй дальше, пожалуйста.
- Если вычесть расходы, остается девятнадцать тысяч чистого заработка. Я покупаю еще десять граммов, цикл повторяется. То есть, одному мне нужно продать примерно сорок граммов мефа. Думаю, у тебя по числам примерно такой же расклад, - подытожил наконец Матвей.
Сдавив тетрадный лист в кулаке, он вышел из-за стола, подошел к комоду, где стояла чашка с сигаретным пеплом, и кинул в нее бумажный комок. Сухо чиркнула спичка, оставив царапину на красном фосфоре, и компрометирующие записи охватили багровые язычки огня. Горбовский нервно сжал губы. Когда пляшущий в чашке огонь померк, плюнув напоследок ломаной струйкой дыма, Матвей сложил руки на груди и повернулся к Горбовскому:
- Конечно, можно поступить проще и купить сразу сто грамм за семьдесят пять тысяч, но у нас таких денег нет. Если бы у нас были такие деньги, мы бы вообще не рассматривали вариант с торговлей.
- Слушай, я никогда раньше таким не занимался, - Горбовский даже втянул голову в плечи, словно ему вдруг захотелось стать меньше, - и ничего не умею. Может, я буду закладки забирать, а ты фасовать? Тебе ведь проще будет.
Матвей нахмурился. Естественно, он понимал, что Горбовский, вся сознательная жизнь которого проходила в оранжерейных условиях, старался дистанцироваться от роли наркоторговца настолько, насколько это позволяла сложившаяся ситуация. Но его вариант был реально проще: у ловкого и неприметного Горбовского был не самый красноречивый вид. Опознать в Матвее наркомана мог каждый первый, и при встречах с патрулями это узнавание приводило к настоятельному требованию показать руки. А руки были в разы красноречивее лица.
- Делаем так. На партии скидываемся. Ты забираешь закладки, я фасую. Фасованное делим пополам и продаем по своим. У тебя свой круг друзей, у меня свой. Идет?
- Идет, - облегченно выдохнул Горбовский, - это я легко могу, я экстраверт.
Оплатив заказ на десять граммов мефедрона, Матвей переслал Горбовскому точные координаты, и тот, взяв деньги на такси, отправился за закладкой. Поймав себя на том, что он отрывисто барабанит пальцами по столу, Матвей решил отвлечься от растущего мандража, сплавленного из страха, что Горбовского примут, и нелепого опасения, что он же забудет о дружбе и присвоит мефедрон, сославшись на ненаход.
Взяв с полки «Бардо Тхёдол», тибетскую книгу мертвых, Матвей растянулся на диване и открыл ее на форзаце. Сразу же бросилось в глаза пожелание Юши, витиеватый черный курсив с нервическими изгибами: «Эмпирически познай извечную тайну смерти». В консервативных кругах ограниченных мужланов его почерк могли бы посчитать женским.
Почти все время эзотерический кружок вел пространные обсуждения, иногда они даже пытались измерить смерть. Конечно же, теоретически. К конечному выводу они так и не пришли. Переливание из пустого в порожнее Матвея отталкивало, потому что он в тот период одержимо увлекался биографиями серийных убийц. Ради прогулки по Битцевскому парку он даже побывал в Москве. Юша полагал, что рано или поздно Матвей начнет убивать и встанет в один ряд с Пичушкиным и Специвцевым.
Через час вернулся Горбовский – запыхавшийся, с влажной грязью на руках и коленях, но до жути довольный. Запершись на ключ, он без лишних слов выложил на стол зиплок, наполовину заполненный кристаллически-белым порошком.
Настало время пакета, который дожидался своей минуты с самого утра.
Вручив Горбовскому ложку и блюдце, Матвей поручил ему давить таблетки глицина до такой дисперсности, чтобы они ничем не отличались от закупленного мефедрона. Сам же, надев медицинские перчатки, стал отмерять неполные граммы, и когда на синем дисплее электронных весов загоралось ожидаемое «0,8», аккуратно смешивал порошки, пакуя полученный продукт в миниатюрные зиплоки.
Через час вдумчивой работы перед Матвеем и Горбовским лежали одиннадцать зиплоков - граммовые веса, готовые превратиться в тридцать три тысячи рублей. Слабо вздохнув, Горбовский провел пятерней по русым волосам, которые норовили осыпаться на влажный лоб. Матвей хрустнул суставами пальцев, которые до сих пор прятались под синим латексом перчаток. В пальцах подрагивало накопившееся за час механическое напряжение.
Сложив неразбавленные веса Горбовского в зиплок побольше, Матвей затолкал его в полую трубу гардины. Свою половину, ставшую уже не такой чистой, он спрятал в дальнем углу – под давно отсохшими сегментами паркета.
- Хочу, чтобы ты кое-что знал про Соню, - обратился он к Горбовскому, стаскивая перчатки, - она плотно торчит. Поэтому ты ни при каких обстоятельствах не должен сообщать ей, что у нас в комнате что-то есть. Вообще с ней на эту тему не говори. Всегда, когда выходишь, закрывай дверь на ключ. Она без угрызений совести нас обнесет.
- Конечно, - заверил его тот.
Небрежно кинув на микроволновку перчатки, вывернутые белым нутром наружу, напоминающие синюшные трупики крольчат, Матвей надел резиновые шлепанцы с ромашками, в которых ходил по общей территории квартиры.
- Ты куда? – спросил Горбовский. Матвей нервно улыбнулся:
- Поищу Соню. Надеюсь, в ближайший месяц она не отъедет. Я очень на нее рассчитываю.
Прихватив с комода коробок спичек, Матвей зашаркал по общему коридору, толкнул дверь, обитую шершавым дерматином, и вышел в парадную. На серые стены падал ровный, но тусклый свет ламп, напротив виднелась похожая дверь – тоже обитая дерматином и тоже приоткрытая, а круглое окно с широким подоконником выглядывало во двор. По толстому стеклу змеилась ярко-белая трещина, на подоконнике стоял керамический горшок, среди зеленых листьев которого пылали красным лепестки герани.
Соня стояла возле деревянных перил лестницы, которые в последний раз лакировали лет сорок назад, и стряхивала пепел в банку из-под кабачковой икры, придвинутой к рассохшейся ступени. Лицо с заостренным подбородком покрывал заметный слой светлой пудры, а хрупкий корпус был обтянут коротким топом кислотно-синего цвета. Гневно постукивая пальцем по сигарете, Соня прижимала к уху телефон и, видимо, выслушивала собеседника.
Примостившись справа, Матвей закурил и покосился на нее с видом энтомолога, который наконец приметил очень занятный экземпляр. Увлеченная спором, Соня не замечала его пристального внимания.
- Саша, Саша, ты охренел, Саша, что ты забыл в Омске? - скороговоркой затараторила она в трубку, перекрикивая оправдания несчастного наркодилера. - В смысле, переехал? Еще вчера ты никуда переезжать не собирался, Саша! Что за вожжа тебе под хвост попала? Где я меф теперь буду брать?
Матвей невольно хмыкнул. Момент был идеальный и даже в некоторой степени кинематографичный.
- У меня, - прошептал он, наклонившись к свободному уху Сони, на котором покачивалась серьга в виде скрипичного ключа.
- Да ладно? Ты? – округлила глаза Соня, резко повернувшись к Матвею. По инерции она выкрикнула эти вопросы в трубку, но быстро опомнилась.
- Ясно, Саш, пока, всех благ тебе, - бойко попрощалась она с наркодилером, резко сменив гнев на сочувствие, и бросила трубку.
Сжимая между пальцев дымящуюся сигарету, она уставилась на Матвея. Ее темные глаза блестели, как мокрый стеклярус, а губы разъехались в предвкушающей улыбке. Матвей прекрасно понимал причину ее радости: жизнь становится намного легче, если барыга живет в соседней комнате. Понизив голос до шепота, Соня спросила:
- Ты? С каких пор?
- Со вчерашнего дня, - сказал Матвей в паузе между затяжками, - три тысячи.
- Когда ты сможешь?
Матвей задумался. Не то что бы ему хотелось заставлять Соню ждать, но давать знать наркоманке, которая вшила в вену катетер, что у него в комнате хранится неопределенное количество мефедрона, было бы глупо. Они могли остаться без мефедрона вообще. И плакали их сорок семь тысяч – совокупность трат и будущего дохода. Чтобы изобразить видимость коммуникации с неизвестным звеном цепочки, Матвей решил съездить на вокзал.
- К вечеру, - ответил он, помедлив, - сначала надо позвонить и пробить.
Восторженно дернувшись на месте, Соня порывисто поцеловала Матвея в щеку, оставив на ней маслянистый след гигиенической помады, и заметалась между лестницей и дверью, пытаясь как-то сладить с подрагивающим телом:
- Ты мне в дверь стукнись, когда все наладится, ладно, солнышко? Сейчас деньги тебе отдам.
- Я не беру наличкой, - сказал Матвей, из вежливости не вытирая щеку, - на киви мне кинь.
- Любите же вы все усложнять, - хохотнула Соня. Матвей незамедлительно бросил на нее мрачный взгляд. Киви-кошелек был относительно анонимным и подходил для его нужд, а Соня не могла об этом не знать, однако зачем-то прикидывалась кокетливой дурочкой, придерживаясь загадочных правил, ведомых лишь ей одной.
- Да ладно, Мотя, не дуйся, - мягко добавила она, расшифровав посыл Матвея, и ее пальцы забегали по экрану телефона, - лучше номер скажи.
Продиктовав Соне номер, Матвей кинул бычок в стеклянную банку, стоящую у лестницы, и молча, не прощаясь, удалился в комнату. Уже через несколько минут на кошелек поступили деньги.
«Три тысячи, - подумал он, глядя на черные пиксели цифр, складывающиеся в три нуля, - одна двадцать пятая от семидесяти пяти. Все складывается довольно просто – если абстрагироваться от угрозы сесть в тюрьму или напороться на чей-то нож»
К пяти часам Матвей поехал играть на Балтийский вокзал и, заработав около двух тысяч, вернулся домой после девяти. Горбовский ужинал на общей кухне и по-свойски беседовал с Женей и Копейкиным, отвечая на типичные для первого знакомства вопросы и производя хорошее впечатление. Социальные взаимодействия всегда давались ему легко.
Запершись в комнате, Матвей разулся, поставил кофр на пол и прошел в дальний угол, где сливались со светлым паркетом отстающие сегменты. Он присел, приподнял пыльные деревяшки и запустил руку в нишу, где был спрятан мефедрон. Чтобы не оставлять отпечатки, Матвей достал граммовый зиплок, аккуратно сжимая пластиковый край между суставами соседних пальцев.
Сложив ладонь лодочкой и прижав ее к бедру, чтобы зиплок не было видно снаружи, Матвей направился к двери, ведущей в комнату Сони. За дверью бархатно мурлыкала поп-музыка двадцатилетней давности, и Матвей три раза стукнул по гладкой эмали двери.
- Соня, это я.
- Заходи, не стесняйся! – крикнула Соня по ту сторону, и ее тон показался Матвею чрезмерно восторженным. Толкнув дверь, он оказался в геометрической копии своей комнаты: такой же узкий прямоугольник с высоким потолком. В светлом лакированном трельяже трижды отражался угловатый графин с водой, из которого торчал букет похоронно-белых, чуть ли не прозрачных лилий, на узкой кровати с кованой спинкой сидела собирающаяся на работу Соня, а центр комнаты занимал овальный столик. На столике были свалены в кучу длинная лента презервативов, голубой фаллоимитатор нечеловеческих размеров и флакон мирамистина. На узких бедрах Сони складками лежал желтый шелк платья, а левую ногу обтягивал черный сетчатый чулок, усеянный крупно вышитыми гвоздиками. Правой ногой, чью землистость и рыхлую икру ничто не маскировало, Соня упиралась в край столика и сосредоточенно докрашивала на ней ногти. Пальцы ног были длинные и тонкие, они диссонировали с выпуклыми шишковидными косточками, которые разрушали гармонию, искажая изящный контур стопы.
- Пожалуйста, золотце, положи на стол, - сказала Соня, аккуратно нанося лак на плоский ноготь большого пальца. Накладные ресницы, отливающие серебром, подрагивали, а под ними точно так же подергивались в нистагме расширенные зрачки.
Положив зиплок рядом с флаконом мирамистина, Матвей перевел взгляд на трельяж, к центральному зеркалу которого была приклеена фотография: высеченный в скале город, напоминающий ороговевший песчаный муравейник.
- Это Уплисцихе, - заговорила Соня, заметив поворот его головы, - древний грузинский город. В Грузии дешево жить, гораздо дешевле, чем здесь. Когда я накоплю достаточно денег, то перееду в Гори.
Слова ее звучали так убедительно, в них было столько веры в мечту, что Матвей, не будь он знаком с Соней, поверил бы в искренность ее намерений, однако он знал, что каждый день она тратит по несколько тысяч на мефедрон, чтобы поддерживать себя в рабочем состоянии и не ощущать пробирающего до костей отвращения, пришедшего вместе с профессией. Эта статья расходов исключала даже переезд в дешевый для жизни Казахстан, где за десять тысяч рублей Матвей мог снимать не комнату, а однокомнатную квартиру. Что уж говорить про Грузию.
«Если бы не торчала, уже давно накопила бы», - флегматично подумал он, но тактично промолчал. Вернувшись к себе, он достал из кармашка кофра заработанную на вокзале россыпь бумажных полтинников и разнокалиберных монет, которые напоминали слепые рыбьи бельма.
Сидя за столом, он разделял заработанное по номиналу, чтобы в ближайшем супермаркете обменять мелочь на крупные купюры. Перед ним постепенно росли серебристые столбики пятирублевок и темные башни десятирублевок. Бумажные деньги Матвей аккуратно выглаживал пальцами и складывал в отдельную стопку.
- Солнышко, золотце… - вдруг пробормотал он себе под нос. То ли обиженно, то ли злорадно. Раньше Соня с ним даже не здоровалась.
***
Уже двадцать три дня Матвей с Горбовским торговали типичным питерским ассортиментом: мефедрон, спиды ("белый амфетамин для белых ночей") и экстази. Меню было скудное, но проверенное временем и пользующееся спросом. По вечерам Матвей играл на вокзале, а продавал или до, или после. Круг его клиентов ограничивался Соней, Ладой и Асей. Ближе к выходным писала Ася, которая брала по паре ешек и вносила в его заработок минимальный вклад, иногда покупала спиды Лада, прыгающая между медленными и быстрыми. Соня же покупала только мефедрон, но делала это каждый день. В общем-то, собрать нужную сумму можно было на одной лишь Соне: она держалась на плаву за счет лошадиного здоровья, переданного ей генетически от нескольких поколений крестьян, которые дожили до преклонных лет и даже не познали тумана деменции.
Горбовский про свои дела не распространялся, да и Матвей, чтобы не узнавать лишнего, расспросов не устраивал, но судя по его довольному лицу, всё у него шло хорошо. Матвей не знал, кому именно продает Горбовский, но подозревал, что тот тоже взял в оборот пару-тройку человек, которых теперь активно доил.
До визита службы охраны оставалась неделя.
В последнюю субботу июля Матвей привычно вмазался в туалете Балтийского вокзала и с кофром за плечами спустился в метро, на платформу станции Балтийская. Закатанные рукава синей рубашки оголяли часть рук, но прикрывали сгибы локтей, покрытые характерными отметинами в виде синяков и крохотных проколов над центряком. Почерневшие от разбухших зрачков глаза терялись в тени темных очков с округлыми стеклами и широкой верхней частью оправы, напоминающей жирно очерченные брови. Очкам был уже год, и что только не отражалось в их стеклах: кирпичные заводские трубы Офтони, саранский перрон, экзальтированные лица приятелей Юши, череда дилеров, неуловимо похожих друг на друга, и собаянщиков, отмеченных печатью нетерпения… У Матвея были мечты, в которых на темных стеклах очков отпечатывались не искаженные перспективой заводские трубы, а высокие дуги кокосовых пальм. Однако он отдавал себе отчет и осознавал, что мечта не реализуется, оставшись лишь прожектом. А раз воплотить ее было невозможно, то и думать о ней не стоило, чтобы лишний раз не растравливать в себе бессмысленную обиду. В какой-то степени это был буддистский подход, омраченный серым фатализмом холодной посконной действительности.
Преодолев хитросплетение красной и оранжевой веток, Матвей вышел из подземелья, подставил лицо мокрому балтийскому воздуху и остаток пути проехал на маршрутке. Слева от брежневки Лады тянулась длинная кишка серого панельного дома, не вписывающегося в устоявшийся романтический облик туристического Петербурга. В торце дома сиял пикселями рекламный экран, на котором беззвучно шевелил губами президент, стоящий во весь рост на главной площади страны, рядом с багровым зиккуратом мавзолея, где уже больше века лежал мумифицированный труп. Под рекламным экраном скромно ютилась аптека, кажущаяся по сравнению с ним игрушечной. Мягко мерцал зеленый крест вывески, а сквозь синие стекла двух узких окон можно было разглядеть торговый зал.
В этой аптеке Матвей бывал всего один раз, в конце мая, и хотя аптека оказалась барыжной, а фармацевт весьма щедрой, он не решился заглядывать туда снова. Проснувшись после оживленной ночи, проведенной у Лады, он слабо разогнался толикой мефедрона, оставшейся с вечера, договорился с Ларисой о покупке свежести и зашел в аптеку – нужно было взять инсулинку и валерьянку в стекле. Выглядывая из окон аптеки, можно было ощутить себя обитателем подводного купола: и брежневка Лады, и выползающие из-за нее облака словно затопило водой. В углу, возле стенда с презервативами и смазками покачивал листьями пышный фикус, обдуваемый воздухом из встроенного в потолок кондиционера.
Кожу молодой женщины-фармацевта покрывал скупой северный загар, она ежесекундно мелко пожимала плечами, словно ее не отпускала судорога, и говорила с хищной поволокой, растягивая гласные. Услышав клишированную просьбу Матвея, она не только отоварила его, но и сделала заманчивое предложение. Согнувшись, она опустила лицо к окошку, исподлобья взглянула на Матвея и усмехнулась:
- Хочешь получить десять матрасов свежести?
- Естественно, хочу, - оживился Матвей, стараясь не слишком сильно выдавать рьяное желание, - а чего делать надо?
Варить Матвей не умел, но мог отнести свежесть тому, кто умел ее варить: если он оплатит Ларисе расходные материалы, то последующие кубы она продаст ему со скидкой. Резко посерьезнев, фармацевт медленно выговорила, будто слова давались ей тяжело и застревали в гортани:
- Изобразить мертвеца.
- Я немного не понял…
- Можешь не бояться, я ничего с тобой не сделаю. Полежишь, как мертвец, а я полюбуюсь. Даже трогать тебя не буду. Я люблю мертвых, теперь понимаешь?
Матвей сглотнул. Фармацевт выжидающе смотрела на него, ее травянистые глаза не моргали. Тем временем шли секунды, а Матвей переваривал манящее, но сомнительное предложение, отдающее метафизической тухлятиной.
- Так нужна тебе свежесть или нет? – тихо рявкнула фармацевт, раздраженно дернув уголком рта.
- Да, конечно, нужна! – на одном выдохе выпалил Матвей. - Я согласен!
Он не ожидал от себя такой прыти. Согласился он рефлекторно, за него ответила жадная торчковая натура, не желающая упускать такую удачную возможность. Подчас эта натура, целеустремленная и изворотливая, занимала главенствующее положение, оттесняя Матвея на задний план. К сожалению, юридически за решения этой натуры отвечал дееспособный Матвей Грязев, иногда не понимающий мотивы собственных спонтанных поступков.
Фармацевт вышла в торговый зал, цокая серебристыми сапогами гармошкой, на которых подрагивал бензиновый отлив, и заперла железную дверь аптеки на ключ. Отведя Матвея в подсобку, она уложила его на диван, заваленный пуховыми подушками, и принялась придавать его телу трупное положение. Лежа с закрытыми глазами, Матвей не шевелился и дышал как можно незаметнее. Давалось это тяжело: лишь теперь, сосредоточившись на дыхании, он понял, как шумно раздаются его вдохи, как вздымается грудная клетка, под которой надуваются и сдуваются органические мехи. Фармацевт оттянула вниз его челюсть, чтобы приоткрыть ему рот, как у мертвеца, неспособного владеть мышцами прежнего тела, и дернула за руку. Та свалилась и обессиленно повисла над полом.
Приготовления закончились. Невидимо зашуршал белый халат и одежда под ним, а уже через минуту ровное дыхание фармацевта стало частым, как при тахикардии. Выдохи набирали громкость, понемногу превращаясь в стоны, и вдруг щеки Матвея коснулись подозрительно скользкие, судорожно подергивающиеся пальцы. Чужие телесные жидкости напрягали Матвея гораздо меньше, чем тараканы фармацевта, которые могли оказаться более серьезными, чем она описала. Матвей надеялся, что она любит мертвецов не до такой степени, чтобы убить его, пока он ничего не видит. Ведь преимущество сейчас было на ее стороне.
Из аптеки Матвей вышел живой, с распиханными по карманам блистерами свежести. Свое слово фармацевт сдержала, но повторять подобный опыт Матвей не рискнул.
Вступал во власть поздний вечер, и синеющее небо наливалось космической чернотой. Дела у Лады шли все хуже. С каждым визитом Матвей замечал, что ее квартира лишь зарастает грязью: сегодня у порога темнели засохшие следы чьих-то ботинок. А вот Лада, видимо, собиралась работать, потому что одета была аляповато: в серебристый пеньюар с глубоким вырезом и пушистые оранжевые тапки. Лицо обрамляло пушистое облако темных волос, мерцающее золотистым блеском.
- Спасибо, дружочек, - поблагодарила Лада хрипловатым грудным голосом, который не соответствовал ее субтильному телу. Сжав зиплок в кулаке, она бесцеремонно ушла в ванную и заперлась там, словно забыла, что за Матвеем нужно закрыть дверь или хотя бы попрощаться с ним.
Он уже собирался уходить, когда его окликнул знакомый голос, донесшийся из зала.
- Давно не виделись, - приветливо произнесла обычно немногословная, но загадочно улыбающаяся Лариса. От неожиданности Матвей вздрогнул, однако преодолел нахлынувший беспричинный страх. Он прошел в зал, но почему-то замер в дверном проеме, спрятав руки в карманы. В кресле, где в тот судьбоносный вечер валялся пьяный Марат, сидела, закинув ногу на ногу, Лариса. Она улыбалась шире, чем обычно, демонстрируя белые зубы – слишком хорошие, явно прошедшие через руки умелого стоматолога.
Матвея вдруг придавило нехорошее предчувствие: ничем не объяснимое, но такое тяжелое, такое убедительное, что ему захотелось довериться. Предчувствие рекомендовало убегать из квартиры, словно из коридора к Матвею подкрадывался огромный паук в человеческий рост.
- Наверное, сильно тебя прижало, раз ты в это полез, - вдруг посерьезнела Лариса и бросила на Матвея многозначительный взгляд. Матвей вскинул брови, не сумев утаить удивления, однако отвечать не стал. Нужно было понять, к чему именно клонит Лариса. Нужно было понять, чего она от него хочет.
- Не ожидала, что у тебя есть опыт в таких делах. Интересно, откуда он у тебя. Если бы я не видела, как Лада пытается вымутить спиды, то не поняла бы, с чем связан твой визит.
Матвей поморщился, словно у него вдруг заныл зуб, пронзивший челюсть горячей пульсацией пульпита. Лариса сухо засмеялась:
- Наверное, ты сейчас думаешь, что я развожу тебя на откровенный разговор, чтобы записать его, а потом отнести доказательства куда надо. У тебя есть все причины так думать.
Матвей вздрогнул, удивленный и ее проницательностью, и тем фактом, что его догадка насчет Ларисы все-таки подтвердилась, хоть и в косвенной форме. Значит, он был прав, подозревая ее в работе на невский синдикат.
- Но тебе повезло, и это не так. Хотя теоретически меня могли попросить о такой услуге. К счастью, про тебя они пока не знают. Да и я не знаю: ты ведь не дал мне утвердительного ответа. Зачем мне пересказывать им догадки? – двусмысленно произнесла Лариса.
У Матвея словно камень с души свалился, когда до него дошел смысл ее намека: во-первых, наркоконтроль еще не заметил его муравьиных шевелений, во-вторых, Лариса, явно имеющая отношение к ФСКН, заняла позицию монаха, сидящего на берегу реки, и сдавать его не собиралась. Решив ей поверить, Матвей благодарно улыбнулся и кивнул. Но вслух отвечать все же не стал.
- Не за что, - усмехнулась Лариса, - будь осторожен.
Из парадной Матвей выскочил, как ошпаренный. Сверху нависала чернота, которую сдерживали лишь крыши домов, ткань которой сочилась вниз, окутывая районы Петербурга глухими сумерками. Словно подстреленный зверь, Матвей метнулся в подземный переход. Под потолком пылали ярко-зеленым галогеновые трубки, размазывая жгучий свет по базальтовым стенам, изуродованным размашистыми надписями вандалов: «А.У.Е.», «св ск», «смерть пидарасам»... Надписи были жирными и наползали друг на друга, как суетящиеся кивсяки.
Фактор ложной угрозы исчез, однако напряжение почему-то не покидало Матвея, а лишь усиливалось, заставляя сердце колотиться все чаще, утяжеляя отрывистое дыхание. Колени вдруг стали ватными и подогнулись, принудив Матвея прислониться к стене. Он прижал ладонь к ребрам, под которыми гулко бухало несущееся галопом сердце. Лицо побледнело, утратив здоровую красноту, и сероватая кожа покрылась мелкими каплями пота.
Матвея охватила паника. Сознание рассыпалось на части и утратило способность сопоставлять детали: он не мог сообразить, что с ним происходит, где он находится и что делать. Здравомыслие сменилось страхом смерти – липким, ползучим, как черная нефтяная жижа. Краем сознания Матвей услышал эхо приближающихся голосов, и в поле зрения мелькнули три зеленых мундира.
Естественно, казачий патруль не испытывал той лавины чувств, которая захлестнула Матвея, они смотрели на вещи проще – перед ними был характерного вида юноша, который болезненно корчился и наваливался на стену. Разговор с такими юношами у казаков был короткий, и в этом разговоре не было места такту.
Рядовой казак, в лице которого даже под зеленым светом проглядывала алкогольная краснота, схватил Матвея за воротник рубашки и заставил выпрямиться. Заглянув в лихорадочно блестящие глаза Матвея, он заметил его нездоровый взгляд.
- Сейчас проверим, больной или не больной, - вяло зашевелил языком второй казак, достал из кармана шаровар фонарик и посветил непонимающему, но испуганному Матвею в глаза. Черный зрачок, окруженный тонким кольцом янтарно-карей радужки, не уменьшился. В стороне, сложив руки на груди, ждал присыпающий приказный, то и дело поднимающий тяжелые, норовящие закрыться веки.
- Зрачки с копейку, на свет не реагируют, - так же неразборчиво сообщил казак приказному. Матвей попытался вырваться – скорее неосознанно, чем с определенным намерением, но краснощекий казак, отвесив ему тяжелую пощечину, схватил его за левую руку и дернул закатанный рукав вверх. Луч фонаря соскользнул на сгиб локтя, и в круге света отчетливо проступила палитра синяков со следами уколов. Дробно стуча зубами, Матвей переводил мутный взгляд с одного лица на другое и силился уловить суть происходящего.
- Ну и что делать с этим нарком? – спросил нетрезвый казак, повернувшись к приказному. Приказный протяжно моргнул. Матвей, к которому наконец вернулся дар речи, издал нервный смешок – спутник обуревающего страха. Он попытался заговорить, но услышал лишь тихую дрожь голоса, в которой невозможно было ничего разобрать.
Почесав щеку, приказный шагнул к пошатывающемуся Матвею и запустил узкую ладонь в карман его джинсов. Достав четыре тысячные купюры и фурик со свежестью, приказный оценивающе покосился на Матвея. Колени, которые и без того были ватными, совсем лишились сил, и Матвей, оседая на асфальт, замотал головой. Его ослабевшее тело тянул к земле вес баяна, что лежал в кофре.
Приказный мрачно посмотрел на Матвея. Он убрал деньги и фурик в карман кафтана и махнул рукой. Матвея тут же отпустили, и он едва не рухнул, резко накренившись назад, но чудом вернул себе равновесие.
- Ты нас не видел, мы тебя не видели, - будничным тоном сообщил приказный, почесав на этот раз шею, - беги, пока я не передумал.
Матвею не нужно было повторять дважды: даже в помутненном состоянии сознания он не забывал про неразрывную связь форменных мундиров и юридических проблем. Эта парная ассоциация надежно въелась в подкорку еще в Офтони, а в Петербурге лишь расцвела дополнительной угрозой.
Его передвижение нельзя было назвать бегом: Матвей стремительно ковылял, заваливаясь на один бок, почему-то направляясь туда, откуда пришел. Его косая тень волочилась из-под одного снопа ярко-зеленого света под другой. Цепляясь за поручень, тяжело дыша, Матвей выбрался наверх. Картинка на рекламном щите была уже другой: немое изображение президента сменилось черным фоном, на котором пестрым пятном выделялся символ главной государственной партии – бурый медведь, попирающий всеми лапами российский триколор.
Устремившись к тусклому зеленому огню аптечного креста, словно мотылек, летящий сквозь густоту ночи к лампе, Матвей завалился в аптечный тамбур, отделенный от торгового зала запертой на ночь железной дверью. Сознание постепенно обретало ясность. Матвей устало осел и забился в угол. Страх смерти уполз, сердце сбавило темп до быстрого, но приемлемого, а дыхание облегчилось.
Окутанный помесью мрака и бледно-зеленого света – трупного, гнилушечного, Матвей переводил дыхание и приходил в себя. Морок панической атаки медленно рассеивался.
В интимном полумраке задернутых штор, за которыми разгорался полдень, отбрасывали на стол размытые тени открытая консервная банка, где плавали в желтом масле трупики шпрот, тарелка с нарезанными ломтями ржаного хлеба и граненый стакан чая, над которым поднимался пар. Сбоку от запоздалого завтрака лежал небольшой магазинный пакет – непрозрачный, пестрый, с принтом из карнавальных флажков. В пакете лежали покупки, за которыми Матвей утром посылал Горбовского. Помотавшись по Апрашке и ее окрестностям, тот купил все необходимое: ворох зиплоков разного размера, несколько пар медицинских перчаток, пять блистеров глицина и электронные весы. Они умещались на ладони, а с захлопнутой крышкой даже напоминали блокнот.
Пакет пока ждал своей очереди, а Матвей, сидящий за столом, прихлебывал чай и заедал его маслянистым хлебом и шпротами, успевая при этом инструктировать Горбовского. Горбовский, сидящий на широкой боковине дивана, по другую сторону стола слушал его с таким вниманием, что иногда забывал моргать, и его веки с золотистыми ресницами лишь слабо подрагивали.
- Никто не должен знать, что мы торгуем вместе: группа лиц и предварительный сговор увеличивают срок, - исподлобья смотрел в пустоту Матвей, - если примут одного из нас, можно отделаться условным сроком, даже при доказанном сбыте. А вот если нас примут вдвоем, про условку можно забыть. Так что ты, Слава, торгуешь один, а про меня ничего не знаешь. Точно так же и я. Если они найдут мои нычки, то это – мое приготовление к сбыту, о котором ты не знал. И даже если судить будут нас обоих, это будут разные уголовные дела.
- Как у тебя все продумано, - протянул Горбовский. Шумно отхлебнув из стакана горячий чай, Матвей заученно продолжил, словно вовсе не услышал его комментарий:
- До последнего отрицай сбыт, напирая на хранение в целях личного употребления. Почему расфасовано? Потому что ты хронический наркоман, у тебя было уже несколько передозов, и еще один ты не переживешь. Поэтому ты расфасовал дозы для себя, чтобы случайно не хватить лишнего. Зачем тебе электронные весы? Все для того же: точно отмеривать дозы, потому что без весов это делать проблематично.
Матвей рассуждал очень деловито для начинающего драгдилера – без уверенности в успехе и безнаказанности предприятия, но с интонациями фаталиста, заведомо готового к форс-мажорам. Горбовский ощутил легкое покалывание в кончиках пальцев, похожее на сплав кокаинового отзвука в напряженных мышцах и отложенного на потом, но уже явившего себя страха. В последний раз, когда Горбовский ощущал такое покалывание, недвижимые снопы фар перед ним выхватывали из асфальтовой темноты труп, неестественно раскинувший сломанные конечности, окунувший голову в сиропную кровь.
Довольно строгим тоном Матвей подытожил:
- Максимум, который тебе грозит, если тебя вдруг примут с весом, это сбыт. Минимум – хранение. А уже между ними приготовление к сбыту. Очень хорошо, что мы ранее не судимы: выше шанс на условный срок.
Горбовскому стало не по себе, будто он снова втянул ноздрями щекочущий ночной воздух, будто по его раздраженно слизистой снова скользнули жасминные ноты «елочки», которая компульсивно покачивалась под зеркалом заднего вида. Матвей же, не замечая его смятения, объяснял, что клиентов нужно искать среди неболтливых друзей, которым можно доверять, советовал не жадничать, убеждая, что Горбовскому хватит и нескольких наркоманов, употребляющих каждый день, и просил ни за что не давать в долг.
- Никаких номеров, привязанных к паспорту, никаких аккаунтов, привязанных к легальным номерам. Связь через телеграм без упоминания реальных имен и адресов. После каждой беседы чисти историю чата. Ничего не записывай: ни на бумагу, ни в заметки. Держи информацию в голове - это единственное место, куда тебе не могут влезть. Деньги в руки не бери, только в электронном виде. Кэш может оказаться меченым, и тебя поймают на контрольной закупке.
Матвей искоса посмотрел на Горбовского, его темный взгляд на секунду стал холодным, как у монструозных обитателей морских глубин. Опомнившись от подавленных воспоминаний о границе между прежней и новой жизнью, Горбовский закивал.
- Ты всё понял?
Он закивал еще энергичнее. Матвей поставил опустевший стакан на стол. Достав из кармана свернутый вчетверо тетрадный листок, он развернул его и положил перед Горбовским. Пепельно-серая бумага, расчерченная линиями на строгие клетки, была испещрена нехитрыми вычислениями, и среди скошенных, вытянутых цифр выделялись жирно подчеркнутые числа с тремя нулями. Почерк оказался торопливым, а карандашные изгибы сливались в неотличимые друг от друга знаки, однако Матвей подкреплял объяснение, водя по бумаге указательным пальцем.
- Отлично. Теперь о цифрах. В месяц мы с тобой зарабатываем примерно по сорок тысяч, половина из них уходят на аренду и прочие нужды. Пять тысяч у меня уже есть, потому что я заложил кольцо матери, то есть, двадцать пять из ста у меня точно будут. Надо найти семьдесят пять. Забудем пока про амф и ешки, которые они тоже будут брать, посчитаем только мефедрон. Допустим, я покупаю десять граммов за четырнадцать тысяч, делаю из них одиннадцать граммов, продаю по три тысячи…
- Делаешь одиннадцать граммов? – непонимающе переспросил Горбовский. – Из десяти?
- Не тупи, Слава. Бутора будет мало, никто ничего не заметит. А если заметит, то спишет на толер.
- Как-то нехорошо им бодяжить. Они ведь наши друзья.
- Я хочу как можно быстрее с этим разобраться. Можешь не бодяжить, дело твое, - перебил его Матвей.
- Ладно, ладно, я тебя понял, - примирительно поднял руки Горбовский, - объясняй дальше, пожалуйста.
- Если вычесть расходы, остается девятнадцать тысяч чистого заработка. Я покупаю еще десять граммов, цикл повторяется. То есть, одному мне нужно продать примерно сорок граммов мефа. Думаю, у тебя по числам примерно такой же расклад, - подытожил наконец Матвей.
Сдавив тетрадный лист в кулаке, он вышел из-за стола, подошел к комоду, где стояла чашка с сигаретным пеплом, и кинул в нее бумажный комок. Сухо чиркнула спичка, оставив царапину на красном фосфоре, и компрометирующие записи охватили багровые язычки огня. Горбовский нервно сжал губы. Когда пляшущий в чашке огонь померк, плюнув напоследок ломаной струйкой дыма, Матвей сложил руки на груди и повернулся к Горбовскому:
- Конечно, можно поступить проще и купить сразу сто грамм за семьдесят пять тысяч, но у нас таких денег нет. Если бы у нас были такие деньги, мы бы вообще не рассматривали вариант с торговлей.
- Слушай, я никогда раньше таким не занимался, - Горбовский даже втянул голову в плечи, словно ему вдруг захотелось стать меньше, - и ничего не умею. Может, я буду закладки забирать, а ты фасовать? Тебе ведь проще будет.
Матвей нахмурился. Естественно, он понимал, что Горбовский, вся сознательная жизнь которого проходила в оранжерейных условиях, старался дистанцироваться от роли наркоторговца настолько, насколько это позволяла сложившаяся ситуация. Но его вариант был реально проще: у ловкого и неприметного Горбовского был не самый красноречивый вид. Опознать в Матвее наркомана мог каждый первый, и при встречах с патрулями это узнавание приводило к настоятельному требованию показать руки. А руки были в разы красноречивее лица.
- Делаем так. На партии скидываемся. Ты забираешь закладки, я фасую. Фасованное делим пополам и продаем по своим. У тебя свой круг друзей, у меня свой. Идет?
- Идет, - облегченно выдохнул Горбовский, - это я легко могу, я экстраверт.
Оплатив заказ на десять граммов мефедрона, Матвей переслал Горбовскому точные координаты, и тот, взяв деньги на такси, отправился за закладкой. Поймав себя на том, что он отрывисто барабанит пальцами по столу, Матвей решил отвлечься от растущего мандража, сплавленного из страха, что Горбовского примут, и нелепого опасения, что он же забудет о дружбе и присвоит мефедрон, сославшись на ненаход.
Взяв с полки «Бардо Тхёдол», тибетскую книгу мертвых, Матвей растянулся на диване и открыл ее на форзаце. Сразу же бросилось в глаза пожелание Юши, витиеватый черный курсив с нервическими изгибами: «Эмпирически познай извечную тайну смерти». В консервативных кругах ограниченных мужланов его почерк могли бы посчитать женским.
Почти все время эзотерический кружок вел пространные обсуждения, иногда они даже пытались измерить смерть. Конечно же, теоретически. К конечному выводу они так и не пришли. Переливание из пустого в порожнее Матвея отталкивало, потому что он в тот период одержимо увлекался биографиями серийных убийц. Ради прогулки по Битцевскому парку он даже побывал в Москве. Юша полагал, что рано или поздно Матвей начнет убивать и встанет в один ряд с Пичушкиным и Специвцевым.
Через час вернулся Горбовский – запыхавшийся, с влажной грязью на руках и коленях, но до жути довольный. Запершись на ключ, он без лишних слов выложил на стол зиплок, наполовину заполненный кристаллически-белым порошком.
Настало время пакета, который дожидался своей минуты с самого утра.
Вручив Горбовскому ложку и блюдце, Матвей поручил ему давить таблетки глицина до такой дисперсности, чтобы они ничем не отличались от закупленного мефедрона. Сам же, надев медицинские перчатки, стал отмерять неполные граммы, и когда на синем дисплее электронных весов загоралось ожидаемое «0,8», аккуратно смешивал порошки, пакуя полученный продукт в миниатюрные зиплоки.
Через час вдумчивой работы перед Матвеем и Горбовским лежали одиннадцать зиплоков - граммовые веса, готовые превратиться в тридцать три тысячи рублей. Слабо вздохнув, Горбовский провел пятерней по русым волосам, которые норовили осыпаться на влажный лоб. Матвей хрустнул суставами пальцев, которые до сих пор прятались под синим латексом перчаток. В пальцах подрагивало накопившееся за час механическое напряжение.
Сложив неразбавленные веса Горбовского в зиплок побольше, Матвей затолкал его в полую трубу гардины. Свою половину, ставшую уже не такой чистой, он спрятал в дальнем углу – под давно отсохшими сегментами паркета.
- Хочу, чтобы ты кое-что знал про Соню, - обратился он к Горбовскому, стаскивая перчатки, - она плотно торчит. Поэтому ты ни при каких обстоятельствах не должен сообщать ей, что у нас в комнате что-то есть. Вообще с ней на эту тему не говори. Всегда, когда выходишь, закрывай дверь на ключ. Она без угрызений совести нас обнесет.
- Конечно, - заверил его тот.
Небрежно кинув на микроволновку перчатки, вывернутые белым нутром наружу, напоминающие синюшные трупики крольчат, Матвей надел резиновые шлепанцы с ромашками, в которых ходил по общей территории квартиры.
- Ты куда? – спросил Горбовский. Матвей нервно улыбнулся:
- Поищу Соню. Надеюсь, в ближайший месяц она не отъедет. Я очень на нее рассчитываю.
Прихватив с комода коробок спичек, Матвей зашаркал по общему коридору, толкнул дверь, обитую шершавым дерматином, и вышел в парадную. На серые стены падал ровный, но тусклый свет ламп, напротив виднелась похожая дверь – тоже обитая дерматином и тоже приоткрытая, а круглое окно с широким подоконником выглядывало во двор. По толстому стеклу змеилась ярко-белая трещина, на подоконнике стоял керамический горшок, среди зеленых листьев которого пылали красным лепестки герани.
Соня стояла возле деревянных перил лестницы, которые в последний раз лакировали лет сорок назад, и стряхивала пепел в банку из-под кабачковой икры, придвинутой к рассохшейся ступени. Лицо с заостренным подбородком покрывал заметный слой светлой пудры, а хрупкий корпус был обтянут коротким топом кислотно-синего цвета. Гневно постукивая пальцем по сигарете, Соня прижимала к уху телефон и, видимо, выслушивала собеседника.
Примостившись справа, Матвей закурил и покосился на нее с видом энтомолога, который наконец приметил очень занятный экземпляр. Увлеченная спором, Соня не замечала его пристального внимания.
- Саша, Саша, ты охренел, Саша, что ты забыл в Омске? - скороговоркой затараторила она в трубку, перекрикивая оправдания несчастного наркодилера. - В смысле, переехал? Еще вчера ты никуда переезжать не собирался, Саша! Что за вожжа тебе под хвост попала? Где я меф теперь буду брать?
Матвей невольно хмыкнул. Момент был идеальный и даже в некоторой степени кинематографичный.
- У меня, - прошептал он, наклонившись к свободному уху Сони, на котором покачивалась серьга в виде скрипичного ключа.
- Да ладно? Ты? – округлила глаза Соня, резко повернувшись к Матвею. По инерции она выкрикнула эти вопросы в трубку, но быстро опомнилась.
- Ясно, Саш, пока, всех благ тебе, - бойко попрощалась она с наркодилером, резко сменив гнев на сочувствие, и бросила трубку.
Сжимая между пальцев дымящуюся сигарету, она уставилась на Матвея. Ее темные глаза блестели, как мокрый стеклярус, а губы разъехались в предвкушающей улыбке. Матвей прекрасно понимал причину ее радости: жизнь становится намного легче, если барыга живет в соседней комнате. Понизив голос до шепота, Соня спросила:
- Ты? С каких пор?
- Со вчерашнего дня, - сказал Матвей в паузе между затяжками, - три тысячи.
- Когда ты сможешь?
Матвей задумался. Не то что бы ему хотелось заставлять Соню ждать, но давать знать наркоманке, которая вшила в вену катетер, что у него в комнате хранится неопределенное количество мефедрона, было бы глупо. Они могли остаться без мефедрона вообще. И плакали их сорок семь тысяч – совокупность трат и будущего дохода. Чтобы изобразить видимость коммуникации с неизвестным звеном цепочки, Матвей решил съездить на вокзал.
- К вечеру, - ответил он, помедлив, - сначала надо позвонить и пробить.
Восторженно дернувшись на месте, Соня порывисто поцеловала Матвея в щеку, оставив на ней маслянистый след гигиенической помады, и заметалась между лестницей и дверью, пытаясь как-то сладить с подрагивающим телом:
- Ты мне в дверь стукнись, когда все наладится, ладно, солнышко? Сейчас деньги тебе отдам.
- Я не беру наличкой, - сказал Матвей, из вежливости не вытирая щеку, - на киви мне кинь.
- Любите же вы все усложнять, - хохотнула Соня. Матвей незамедлительно бросил на нее мрачный взгляд. Киви-кошелек был относительно анонимным и подходил для его нужд, а Соня не могла об этом не знать, однако зачем-то прикидывалась кокетливой дурочкой, придерживаясь загадочных правил, ведомых лишь ей одной.
- Да ладно, Мотя, не дуйся, - мягко добавила она, расшифровав посыл Матвея, и ее пальцы забегали по экрану телефона, - лучше номер скажи.
Продиктовав Соне номер, Матвей кинул бычок в стеклянную банку, стоящую у лестницы, и молча, не прощаясь, удалился в комнату. Уже через несколько минут на кошелек поступили деньги.
«Три тысячи, - подумал он, глядя на черные пиксели цифр, складывающиеся в три нуля, - одна двадцать пятая от семидесяти пяти. Все складывается довольно просто – если абстрагироваться от угрозы сесть в тюрьму или напороться на чей-то нож»
К пяти часам Матвей поехал играть на Балтийский вокзал и, заработав около двух тысяч, вернулся домой после девяти. Горбовский ужинал на общей кухне и по-свойски беседовал с Женей и Копейкиным, отвечая на типичные для первого знакомства вопросы и производя хорошее впечатление. Социальные взаимодействия всегда давались ему легко.
Запершись в комнате, Матвей разулся, поставил кофр на пол и прошел в дальний угол, где сливались со светлым паркетом отстающие сегменты. Он присел, приподнял пыльные деревяшки и запустил руку в нишу, где был спрятан мефедрон. Чтобы не оставлять отпечатки, Матвей достал граммовый зиплок, аккуратно сжимая пластиковый край между суставами соседних пальцев.
Сложив ладонь лодочкой и прижав ее к бедру, чтобы зиплок не было видно снаружи, Матвей направился к двери, ведущей в комнату Сони. За дверью бархатно мурлыкала поп-музыка двадцатилетней давности, и Матвей три раза стукнул по гладкой эмали двери.
- Соня, это я.
- Заходи, не стесняйся! – крикнула Соня по ту сторону, и ее тон показался Матвею чрезмерно восторженным. Толкнув дверь, он оказался в геометрической копии своей комнаты: такой же узкий прямоугольник с высоким потолком. В светлом лакированном трельяже трижды отражался угловатый графин с водой, из которого торчал букет похоронно-белых, чуть ли не прозрачных лилий, на узкой кровати с кованой спинкой сидела собирающаяся на работу Соня, а центр комнаты занимал овальный столик. На столике были свалены в кучу длинная лента презервативов, голубой фаллоимитатор нечеловеческих размеров и флакон мирамистина. На узких бедрах Сони складками лежал желтый шелк платья, а левую ногу обтягивал черный сетчатый чулок, усеянный крупно вышитыми гвоздиками. Правой ногой, чью землистость и рыхлую икру ничто не маскировало, Соня упиралась в край столика и сосредоточенно докрашивала на ней ногти. Пальцы ног были длинные и тонкие, они диссонировали с выпуклыми шишковидными косточками, которые разрушали гармонию, искажая изящный контур стопы.
- Пожалуйста, золотце, положи на стол, - сказала Соня, аккуратно нанося лак на плоский ноготь большого пальца. Накладные ресницы, отливающие серебром, подрагивали, а под ними точно так же подергивались в нистагме расширенные зрачки.
Положив зиплок рядом с флаконом мирамистина, Матвей перевел взгляд на трельяж, к центральному зеркалу которого была приклеена фотография: высеченный в скале город, напоминающий ороговевший песчаный муравейник.
- Это Уплисцихе, - заговорила Соня, заметив поворот его головы, - древний грузинский город. В Грузии дешево жить, гораздо дешевле, чем здесь. Когда я накоплю достаточно денег, то перееду в Гори.
Слова ее звучали так убедительно, в них было столько веры в мечту, что Матвей, не будь он знаком с Соней, поверил бы в искренность ее намерений, однако он знал, что каждый день она тратит по несколько тысяч на мефедрон, чтобы поддерживать себя в рабочем состоянии и не ощущать пробирающего до костей отвращения, пришедшего вместе с профессией. Эта статья расходов исключала даже переезд в дешевый для жизни Казахстан, где за десять тысяч рублей Матвей мог снимать не комнату, а однокомнатную квартиру. Что уж говорить про Грузию.
«Если бы не торчала, уже давно накопила бы», - флегматично подумал он, но тактично промолчал. Вернувшись к себе, он достал из кармашка кофра заработанную на вокзале россыпь бумажных полтинников и разнокалиберных монет, которые напоминали слепые рыбьи бельма.
Сидя за столом, он разделял заработанное по номиналу, чтобы в ближайшем супермаркете обменять мелочь на крупные купюры. Перед ним постепенно росли серебристые столбики пятирублевок и темные башни десятирублевок. Бумажные деньги Матвей аккуратно выглаживал пальцами и складывал в отдельную стопку.
- Солнышко, золотце… - вдруг пробормотал он себе под нос. То ли обиженно, то ли злорадно. Раньше Соня с ним даже не здоровалась.
***
Уже двадцать три дня Матвей с Горбовским торговали типичным питерским ассортиментом: мефедрон, спиды ("белый амфетамин для белых ночей") и экстази. Меню было скудное, но проверенное временем и пользующееся спросом. По вечерам Матвей играл на вокзале, а продавал или до, или после. Круг его клиентов ограничивался Соней, Ладой и Асей. Ближе к выходным писала Ася, которая брала по паре ешек и вносила в его заработок минимальный вклад, иногда покупала спиды Лада, прыгающая между медленными и быстрыми. Соня же покупала только мефедрон, но делала это каждый день. В общем-то, собрать нужную сумму можно было на одной лишь Соне: она держалась на плаву за счет лошадиного здоровья, переданного ей генетически от нескольких поколений крестьян, которые дожили до преклонных лет и даже не познали тумана деменции.
Горбовский про свои дела не распространялся, да и Матвей, чтобы не узнавать лишнего, расспросов не устраивал, но судя по его довольному лицу, всё у него шло хорошо. Матвей не знал, кому именно продает Горбовский, но подозревал, что тот тоже взял в оборот пару-тройку человек, которых теперь активно доил.
До визита службы охраны оставалась неделя.
В последнюю субботу июля Матвей привычно вмазался в туалете Балтийского вокзала и с кофром за плечами спустился в метро, на платформу станции Балтийская. Закатанные рукава синей рубашки оголяли часть рук, но прикрывали сгибы локтей, покрытые характерными отметинами в виде синяков и крохотных проколов над центряком. Почерневшие от разбухших зрачков глаза терялись в тени темных очков с округлыми стеклами и широкой верхней частью оправы, напоминающей жирно очерченные брови. Очкам был уже год, и что только не отражалось в их стеклах: кирпичные заводские трубы Офтони, саранский перрон, экзальтированные лица приятелей Юши, череда дилеров, неуловимо похожих друг на друга, и собаянщиков, отмеченных печатью нетерпения… У Матвея были мечты, в которых на темных стеклах очков отпечатывались не искаженные перспективой заводские трубы, а высокие дуги кокосовых пальм. Однако он отдавал себе отчет и осознавал, что мечта не реализуется, оставшись лишь прожектом. А раз воплотить ее было невозможно, то и думать о ней не стоило, чтобы лишний раз не растравливать в себе бессмысленную обиду. В какой-то степени это был буддистский подход, омраченный серым фатализмом холодной посконной действительности.
Преодолев хитросплетение красной и оранжевой веток, Матвей вышел из подземелья, подставил лицо мокрому балтийскому воздуху и остаток пути проехал на маршрутке. Слева от брежневки Лады тянулась длинная кишка серого панельного дома, не вписывающегося в устоявшийся романтический облик туристического Петербурга. В торце дома сиял пикселями рекламный экран, на котором беззвучно шевелил губами президент, стоящий во весь рост на главной площади страны, рядом с багровым зиккуратом мавзолея, где уже больше века лежал мумифицированный труп. Под рекламным экраном скромно ютилась аптека, кажущаяся по сравнению с ним игрушечной. Мягко мерцал зеленый крест вывески, а сквозь синие стекла двух узких окон можно было разглядеть торговый зал.
В этой аптеке Матвей бывал всего один раз, в конце мая, и хотя аптека оказалась барыжной, а фармацевт весьма щедрой, он не решился заглядывать туда снова. Проснувшись после оживленной ночи, проведенной у Лады, он слабо разогнался толикой мефедрона, оставшейся с вечера, договорился с Ларисой о покупке свежести и зашел в аптеку – нужно было взять инсулинку и валерьянку в стекле. Выглядывая из окон аптеки, можно было ощутить себя обитателем подводного купола: и брежневка Лады, и выползающие из-за нее облака словно затопило водой. В углу, возле стенда с презервативами и смазками покачивал листьями пышный фикус, обдуваемый воздухом из встроенного в потолок кондиционера.
Кожу молодой женщины-фармацевта покрывал скупой северный загар, она ежесекундно мелко пожимала плечами, словно ее не отпускала судорога, и говорила с хищной поволокой, растягивая гласные. Услышав клишированную просьбу Матвея, она не только отоварила его, но и сделала заманчивое предложение. Согнувшись, она опустила лицо к окошку, исподлобья взглянула на Матвея и усмехнулась:
- Хочешь получить десять матрасов свежести?
- Естественно, хочу, - оживился Матвей, стараясь не слишком сильно выдавать рьяное желание, - а чего делать надо?
Варить Матвей не умел, но мог отнести свежесть тому, кто умел ее варить: если он оплатит Ларисе расходные материалы, то последующие кубы она продаст ему со скидкой. Резко посерьезнев, фармацевт медленно выговорила, будто слова давались ей тяжело и застревали в гортани:
- Изобразить мертвеца.
- Я немного не понял…
- Можешь не бояться, я ничего с тобой не сделаю. Полежишь, как мертвец, а я полюбуюсь. Даже трогать тебя не буду. Я люблю мертвых, теперь понимаешь?
Матвей сглотнул. Фармацевт выжидающе смотрела на него, ее травянистые глаза не моргали. Тем временем шли секунды, а Матвей переваривал манящее, но сомнительное предложение, отдающее метафизической тухлятиной.
- Так нужна тебе свежесть или нет? – тихо рявкнула фармацевт, раздраженно дернув уголком рта.
- Да, конечно, нужна! – на одном выдохе выпалил Матвей. - Я согласен!
Он не ожидал от себя такой прыти. Согласился он рефлекторно, за него ответила жадная торчковая натура, не желающая упускать такую удачную возможность. Подчас эта натура, целеустремленная и изворотливая, занимала главенствующее положение, оттесняя Матвея на задний план. К сожалению, юридически за решения этой натуры отвечал дееспособный Матвей Грязев, иногда не понимающий мотивы собственных спонтанных поступков.
Фармацевт вышла в торговый зал, цокая серебристыми сапогами гармошкой, на которых подрагивал бензиновый отлив, и заперла железную дверь аптеки на ключ. Отведя Матвея в подсобку, она уложила его на диван, заваленный пуховыми подушками, и принялась придавать его телу трупное положение. Лежа с закрытыми глазами, Матвей не шевелился и дышал как можно незаметнее. Давалось это тяжело: лишь теперь, сосредоточившись на дыхании, он понял, как шумно раздаются его вдохи, как вздымается грудная клетка, под которой надуваются и сдуваются органические мехи. Фармацевт оттянула вниз его челюсть, чтобы приоткрыть ему рот, как у мертвеца, неспособного владеть мышцами прежнего тела, и дернула за руку. Та свалилась и обессиленно повисла над полом.
Приготовления закончились. Невидимо зашуршал белый халат и одежда под ним, а уже через минуту ровное дыхание фармацевта стало частым, как при тахикардии. Выдохи набирали громкость, понемногу превращаясь в стоны, и вдруг щеки Матвея коснулись подозрительно скользкие, судорожно подергивающиеся пальцы. Чужие телесные жидкости напрягали Матвея гораздо меньше, чем тараканы фармацевта, которые могли оказаться более серьезными, чем она описала. Матвей надеялся, что она любит мертвецов не до такой степени, чтобы убить его, пока он ничего не видит. Ведь преимущество сейчас было на ее стороне.
Из аптеки Матвей вышел живой, с распиханными по карманам блистерами свежести. Свое слово фармацевт сдержала, но повторять подобный опыт Матвей не рискнул.
Вступал во власть поздний вечер, и синеющее небо наливалось космической чернотой. Дела у Лады шли все хуже. С каждым визитом Матвей замечал, что ее квартира лишь зарастает грязью: сегодня у порога темнели засохшие следы чьих-то ботинок. А вот Лада, видимо, собиралась работать, потому что одета была аляповато: в серебристый пеньюар с глубоким вырезом и пушистые оранжевые тапки. Лицо обрамляло пушистое облако темных волос, мерцающее золотистым блеском.
- Спасибо, дружочек, - поблагодарила Лада хрипловатым грудным голосом, который не соответствовал ее субтильному телу. Сжав зиплок в кулаке, она бесцеремонно ушла в ванную и заперлась там, словно забыла, что за Матвеем нужно закрыть дверь или хотя бы попрощаться с ним.
Он уже собирался уходить, когда его окликнул знакомый голос, донесшийся из зала.
- Давно не виделись, - приветливо произнесла обычно немногословная, но загадочно улыбающаяся Лариса. От неожиданности Матвей вздрогнул, однако преодолел нахлынувший беспричинный страх. Он прошел в зал, но почему-то замер в дверном проеме, спрятав руки в карманы. В кресле, где в тот судьбоносный вечер валялся пьяный Марат, сидела, закинув ногу на ногу, Лариса. Она улыбалась шире, чем обычно, демонстрируя белые зубы – слишком хорошие, явно прошедшие через руки умелого стоматолога.
Матвея вдруг придавило нехорошее предчувствие: ничем не объяснимое, но такое тяжелое, такое убедительное, что ему захотелось довериться. Предчувствие рекомендовало убегать из квартиры, словно из коридора к Матвею подкрадывался огромный паук в человеческий рост.
- Наверное, сильно тебя прижало, раз ты в это полез, - вдруг посерьезнела Лариса и бросила на Матвея многозначительный взгляд. Матвей вскинул брови, не сумев утаить удивления, однако отвечать не стал. Нужно было понять, к чему именно клонит Лариса. Нужно было понять, чего она от него хочет.
- Не ожидала, что у тебя есть опыт в таких делах. Интересно, откуда он у тебя. Если бы я не видела, как Лада пытается вымутить спиды, то не поняла бы, с чем связан твой визит.
Матвей поморщился, словно у него вдруг заныл зуб, пронзивший челюсть горячей пульсацией пульпита. Лариса сухо засмеялась:
- Наверное, ты сейчас думаешь, что я развожу тебя на откровенный разговор, чтобы записать его, а потом отнести доказательства куда надо. У тебя есть все причины так думать.
Матвей вздрогнул, удивленный и ее проницательностью, и тем фактом, что его догадка насчет Ларисы все-таки подтвердилась, хоть и в косвенной форме. Значит, он был прав, подозревая ее в работе на невский синдикат.
- Но тебе повезло, и это не так. Хотя теоретически меня могли попросить о такой услуге. К счастью, про тебя они пока не знают. Да и я не знаю: ты ведь не дал мне утвердительного ответа. Зачем мне пересказывать им догадки? – двусмысленно произнесла Лариса.
У Матвея словно камень с души свалился, когда до него дошел смысл ее намека: во-первых, наркоконтроль еще не заметил его муравьиных шевелений, во-вторых, Лариса, явно имеющая отношение к ФСКН, заняла позицию монаха, сидящего на берегу реки, и сдавать его не собиралась. Решив ей поверить, Матвей благодарно улыбнулся и кивнул. Но вслух отвечать все же не стал.
- Не за что, - усмехнулась Лариса, - будь осторожен.
Из парадной Матвей выскочил, как ошпаренный. Сверху нависала чернота, которую сдерживали лишь крыши домов, ткань которой сочилась вниз, окутывая районы Петербурга глухими сумерками. Словно подстреленный зверь, Матвей метнулся в подземный переход. Под потолком пылали ярко-зеленым галогеновые трубки, размазывая жгучий свет по базальтовым стенам, изуродованным размашистыми надписями вандалов: «А.У.Е.», «св ск», «смерть пидарасам»... Надписи были жирными и наползали друг на друга, как суетящиеся кивсяки.
Фактор ложной угрозы исчез, однако напряжение почему-то не покидало Матвея, а лишь усиливалось, заставляя сердце колотиться все чаще, утяжеляя отрывистое дыхание. Колени вдруг стали ватными и подогнулись, принудив Матвея прислониться к стене. Он прижал ладонь к ребрам, под которыми гулко бухало несущееся галопом сердце. Лицо побледнело, утратив здоровую красноту, и сероватая кожа покрылась мелкими каплями пота.
Матвея охватила паника. Сознание рассыпалось на части и утратило способность сопоставлять детали: он не мог сообразить, что с ним происходит, где он находится и что делать. Здравомыслие сменилось страхом смерти – липким, ползучим, как черная нефтяная жижа. Краем сознания Матвей услышал эхо приближающихся голосов, и в поле зрения мелькнули три зеленых мундира.
Естественно, казачий патруль не испытывал той лавины чувств, которая захлестнула Матвея, они смотрели на вещи проще – перед ними был характерного вида юноша, который болезненно корчился и наваливался на стену. Разговор с такими юношами у казаков был короткий, и в этом разговоре не было места такту.
Рядовой казак, в лице которого даже под зеленым светом проглядывала алкогольная краснота, схватил Матвея за воротник рубашки и заставил выпрямиться. Заглянув в лихорадочно блестящие глаза Матвея, он заметил его нездоровый взгляд.
- Сейчас проверим, больной или не больной, - вяло зашевелил языком второй казак, достал из кармана шаровар фонарик и посветил непонимающему, но испуганному Матвею в глаза. Черный зрачок, окруженный тонким кольцом янтарно-карей радужки, не уменьшился. В стороне, сложив руки на груди, ждал присыпающий приказный, то и дело поднимающий тяжелые, норовящие закрыться веки.
- Зрачки с копейку, на свет не реагируют, - так же неразборчиво сообщил казак приказному. Матвей попытался вырваться – скорее неосознанно, чем с определенным намерением, но краснощекий казак, отвесив ему тяжелую пощечину, схватил его за левую руку и дернул закатанный рукав вверх. Луч фонаря соскользнул на сгиб локтя, и в круге света отчетливо проступила палитра синяков со следами уколов. Дробно стуча зубами, Матвей переводил мутный взгляд с одного лица на другое и силился уловить суть происходящего.
- Ну и что делать с этим нарком? – спросил нетрезвый казак, повернувшись к приказному. Приказный протяжно моргнул. Матвей, к которому наконец вернулся дар речи, издал нервный смешок – спутник обуревающего страха. Он попытался заговорить, но услышал лишь тихую дрожь голоса, в которой невозможно было ничего разобрать.
Почесав щеку, приказный шагнул к пошатывающемуся Матвею и запустил узкую ладонь в карман его джинсов. Достав четыре тысячные купюры и фурик со свежестью, приказный оценивающе покосился на Матвея. Колени, которые и без того были ватными, совсем лишились сил, и Матвей, оседая на асфальт, замотал головой. Его ослабевшее тело тянул к земле вес баяна, что лежал в кофре.
Приказный мрачно посмотрел на Матвея. Он убрал деньги и фурик в карман кафтана и махнул рукой. Матвея тут же отпустили, и он едва не рухнул, резко накренившись назад, но чудом вернул себе равновесие.
- Ты нас не видел, мы тебя не видели, - будничным тоном сообщил приказный, почесав на этот раз шею, - беги, пока я не передумал.
Матвею не нужно было повторять дважды: даже в помутненном состоянии сознания он не забывал про неразрывную связь форменных мундиров и юридических проблем. Эта парная ассоциация надежно въелась в подкорку еще в Офтони, а в Петербурге лишь расцвела дополнительной угрозой.
Его передвижение нельзя было назвать бегом: Матвей стремительно ковылял, заваливаясь на один бок, почему-то направляясь туда, откуда пришел. Его косая тень волочилась из-под одного снопа ярко-зеленого света под другой. Цепляясь за поручень, тяжело дыша, Матвей выбрался наверх. Картинка на рекламном щите была уже другой: немое изображение президента сменилось черным фоном, на котором пестрым пятном выделялся символ главной государственной партии – бурый медведь, попирающий всеми лапами российский триколор.
Устремившись к тусклому зеленому огню аптечного креста, словно мотылек, летящий сквозь густоту ночи к лампе, Матвей завалился в аптечный тамбур, отделенный от торгового зала запертой на ночь железной дверью. Сознание постепенно обретало ясность. Матвей устало осел и забился в угол. Страх смерти уполз, сердце сбавило темп до быстрого, но приемлемого, а дыхание облегчилось.
Окутанный помесью мрака и бледно-зеленого света – трупного, гнилушечного, Матвей переводил дыхание и приходил в себя. Морок панической атаки медленно рассеивался.
Глава 6
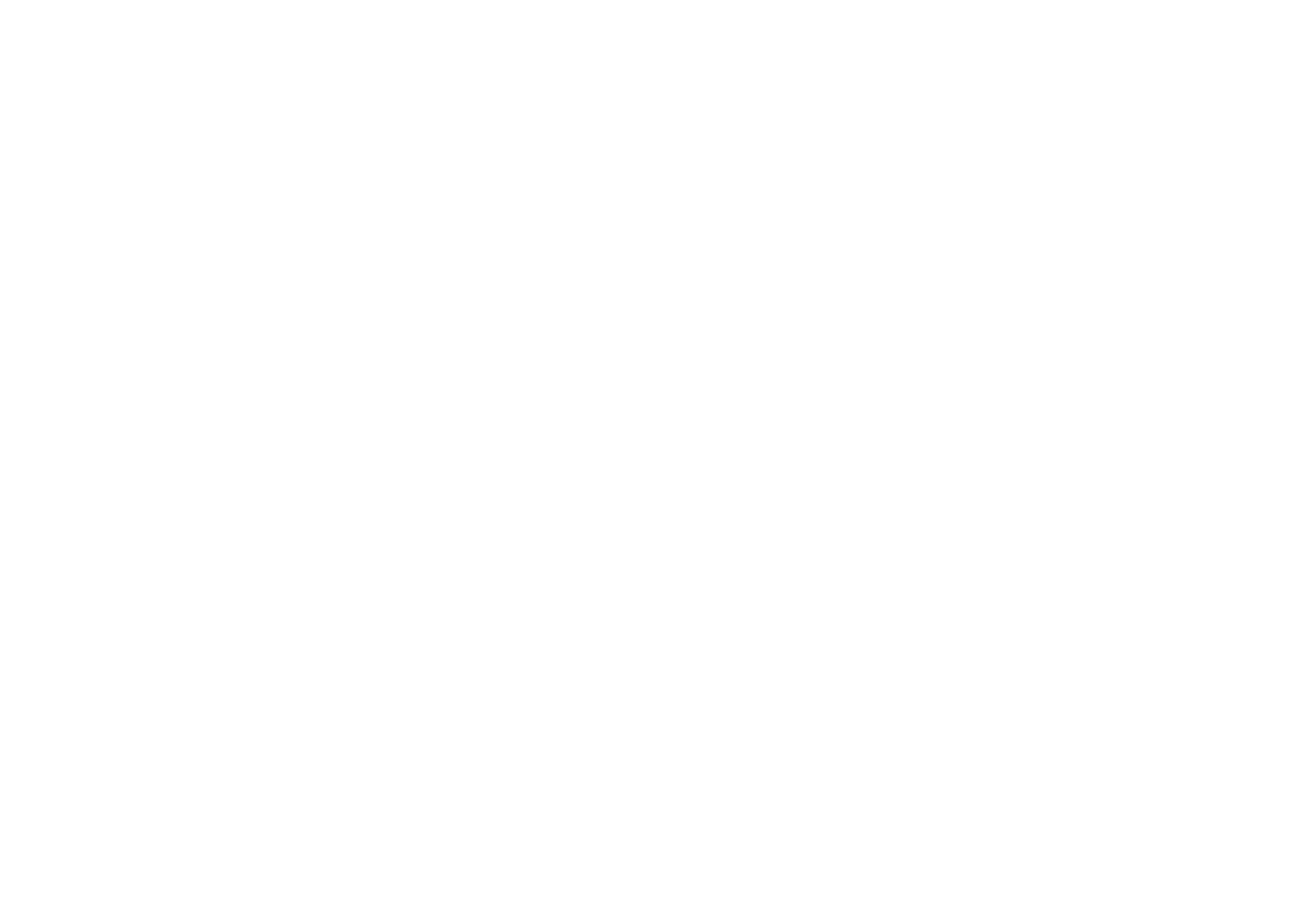
Страхи, волнения, тревоги создают более глубокий страх, страх смерти. Это Великий Страх, который терзает человека, начиная с тьмы веков. Учись умирать каждый день весело, не теряя любви к жизни, и твой страх будет побежден.
Дугпа Ринпоче, «Жизненные наставления далай-ламы»
Дугпа Ринпоче, «Жизненные наставления далай-ламы»
август, 2030 год
Среди тяжелой прохлады двора, неровного многоугольника, который поднимался к нему грязно-кремовым колодцем домов, уже больше полувека скрывалось от звенящего ветра желтое двухэтажное здание казенного вида, совершенно лишенное эстетических излишеств, которые были бы просто неуместны на его шершавом фасаде. От Загородного проспекта к желтому дому вела строгая квадратная арка с постоянно открытыми воротами, готические ромбы которых складывались в черную решетку. Этот маршрут был не из тех, по которым люди ходили добровольно или с легким сердцем, и это было объяснимо: желтый дом представлял собой управление ФСКН, отвечающее за Санкт-Петербург и Ленинградскую область, и был вотчиной полковника Жарова, татарина сорока двух лет, которого многие знали как Асфара Юнусовича, а в представлении Асфар Юнусович не нуждался.
Его кабинет, обставленный скупо, но с общепринятой у высших чинов вежливой претензией на роскошь, располагался на втором этаже, и при первом же взгляде на интерьер становилось ясно, что владелец кабинета придерживается формальных правил приличия, однако не забывает и про гедонизм. Застекленному портрету Громова, висящему на стене, и российскому флажку, который соседствовал на столешнице мореного дуба с открытым ноутбуком и чашкой кофе, противостояли черный кожаный диван, занимающий пространство между окном и дверью, и стоящий на подоконнике лакированный горшок с пронзительно-сиреневым антуриумом. По темным кожистым листьям неохотно растекался дневной свет, а белое соцветие напоминало гипертрофированный клитор.
В комплекте с кожаным диваном шло такое же кресло, в котором сейчас сидел, закинув ногу на ногу, Асфар Юнусович. Посетителям же приходилось довольствоваться жестким деревянным стулом, который был заметно ниже кресла и ясно давал понять, кто здесь начальник, а кто дурак.
Начальником петербургского управления ФСКН Асфар Юнусович стал шесть лет назад, и хотя произошло это не без протекции, дела у него до сих пор шли гладко: кем Асфар Юнусович не был, так это простаком. Да и впечатление производил, несмотря на сухощавость фигуры, внушительное. Из-под лакового козырька серой фуражки изучающе смотрело сухое желтое лицо с резкими морщинами и татарским разрезом глаз, а на виски резким контуром спускались черные волосы, цветом напоминающее воронье крыло. На правом предплечье серого кителя темнел шеврон с непременным двуглавым орлом и щитом, на котором кольцами обвивала острый меч змея.
Левый глаз Асфара Юнусовича уже давно сменился своей искусственной копией с неподвижным широким зрачком, который обеспечивал остроту зрения даже в темноте и диссонировал со зрачком правого глаза, который на свет и тьму реагировал естественно. Точно так же отличалась и левая кисть руки от правой: если правую покрывали желтоватый загар, пигментные пятна и тонкие волоски, то левая была бледной, как у призрака, а волос на ней не было совсем. Кисть была идентична натуральной, но слишком точно ее копировала, и ее вид вызывал легкий дискомфорт. Еще больший дискомфорт она вызывала у тех, кого Асфар Юнусович не гнушался бить: механическая конструкция была гораздо сильнее мясной, и удары оказывались болезненными, заставляя сгибаться в три погибели и обмякать на месте.
Жизненный путь Асфара Юнусовича был простым и предсказуемым: девять классов, средняя школа полиции, откуда он вышел младшим лейтенантом, высшая школа полиции, лишившая его эпитета «младший», и служба в МВД, плавно перетекшая в службу в ФСКН. А служба в ФСКН, само собой, так же плавно перетекла в наращивание деловых связей – Асфар Юнусович крышевал барыг еще в бытность лейтенантом, и это было задолго до того, как ФСКН стала контролировать весь российский наркопоток, так что Асфар Юнусович свое дело знал и никогда в нем не плошал.
Прошло двадцать лет, и молодой казанский полицейский, который пошел в силовики скорее из-за финансовых притязаний, чем из-за чувства справедливости, превратился в нового русского кшатрия железного века, облаченного в серый мундир.
На жестком стуле, куда обычно попадали нерадивые сотрудники и несговорчивые, но перспективные в финансовом плане господа, сидела просительница, которая должна была оказаться там в последнюю очередь. На лацкане ее наглухо застегнутого жакета мелко искрилась венозно-красным рубиновая брошь, а светлые волосы были склеены лаком в высокую башню. Пока она нервно поджимала губы, Асфар Юнусович скупо касался тачпада ноутбука и пролистывал инстаграм Матвея Германовича Грязева, формально русского юноши, в чертах лица которого проглядывало нечто эрзянское. Рассматривать в его фотографиях было нечего: завтраки, алкоголь, повседневные натюрморты и снова завтраки. В аккаунте не было свидетельств криминала, лишь иногда мелькали на фото расширенные зрачки, но даже это можно было списать на падающую тень и естественную для живого человека реакцию глаз. Судя по редким фотографиям Грязева, где он был запечатлен то с бутылкой пива, то с сигаретой, то с перламутрово-синим баяном, жизнь его была скучной, однообразной и бесцельной.
Просительницей, которая ожидала ответа Асфара Юнусовича на удивление терпеливо, была Елена Полтинина – депутат госдумы от «Великой России», дочь олигарха, который нажил капитал нечестно, но все же самостоятельно, и родная тетя осиротевшего в раннем детстве Славы Горбовского. Послужной список Полтининой был красноречивым: запрет бэби-боксов, мораторий на аборты каждый четвертый месяц года, запрет полового просвещения... Все продвигаемые ей законопроекты поставляли мясцо Молоху, который еще с десятых годов раздувался от имперских амбиций и громовского комплекса неполноценности.
- Чем ты думала, когда лишала его денег? – вскинул брови Асфар Юнусович, наконец закрыв вкладку с похожими друг на друга фотографиями, качество которых варьировалось от приемлемого до откровенно плохого.
- Я хотела, чтобы он устроился на хорошую вакансию и понял…
- Можно похвалить Вячеслава, он выбрал рыбные места, - бледно улыбнулся Асфар Юнусович, - и мошенничество, и наркоторговля приносят много денег. Не так много, конечно, как статус депутата.
Племянника Полтининой арестовали в «Этажах» во время контрольной закупки, когда тот передавал клиенту и весьма близкому другу три грамма амфетамина. Меченых денег при Горбовском не было, однако с точки зрения закона бесплатное распространение тоже считалось сбытом.
Держался Горбовский недолго. Избиение он вытерпел, а вот обещания рандеву с лейтенантом и бутылкой шампанского уже не вынес. Не привыкший к статусу шудры и грубому обращению, он расклеился и все выложил: и про причину, которая толкнула его на сбыт, и про дружескую помощь некоего Грязева, и зачем-то даже про деятельность на ниве мошенничества, хотя об этом его никто не спрашивал. Словом, сдал себя и причастных лиц со всеми потрохами. Возможно, из него вышел бы хороший, мечтающий выслужиться стукач. Если бы не Полтинина, которая ближайшим рейсом прилетела из Москвы выручать провинившегося племянника.
- Я не понимаю! – округлила Полтинина слабо накрашенные губы, но тут же одернула себя и придала мимике привычную сдержанность моралистки. - Почему он выбрал такой отвратительный образ жизни? Почему они с этим наркоманом вскладчину снимали каморку? И почему он не поселился в центре? Жить в центре было бы гораздо удобнее.
- Ты правда не понимаешь? – с удивлением посмотрел на нее Асфар Юнусович. Он не впервые сталкивался с ее взглядом на мир, но предел непонимания был еще далеко. Полтинина отупело уставилась на него.
Территориально Асфар Юнусович и Полтинина жили в одной России, но фактически все было иначе: в его России существовали неустроенные города, умирающие деревни и дети, изъясняющиеся на блатной фене, одним из которых когда-то был и Асфар Юнусович, а ее Россия ограничивалась парадной личиной Петербурга, горящей неоновыми всполохами Москвой и мкадом, за которым начинались неизведанные территории регионов. Иногда ему казалось, что они с Полтининой даже говорят на разных языках, и в нем просыпалась кастовая ненависть, от которой так и подмывало по-пролетарски покрыть Полтинину матом, однако он стойко воздерживался.
- Ты мой должник, Асфар. Кто тебе помог шесть лет назад? Вот и ты теперь мне помоги. Придумай что-нибудь.
- С учетом предыдущего дела, московского, будет сложно сделать твоего Вячеслава исключительно свидетелем, - произнес он после задумчивой паузы, - придется очень постараться.
– Его нельзя сажать за торговлю наркотиками. Что будет с моей репутацией? Пьяный наезд это все-таки непреднамеренный поступок, а торговля - осознанное и продуманное решение. Пусть за торговлю сядет второй.
– Грязев? – спросил Асфар Юнусович, откинувшись на спинку кресла.
–Да, он.
Грубо зашаркала во дворе метла дворника. Асфар Юнусович замолчал, забарабанил искусственными пальцами по столешнице, и на светлом дереве запрыгали их вытянутые тени. Полтинина не отрывала от него взгляда, ожидая исключительно положительного ответа. Наконец он вздохнул и заговорил:
- Можно подвести к тому, что Вячеслав был жертвой внешних обстоятельств.
Услышав нечто, отдаленно похожее на согласие, Полтинина оживилась, и взгляд ее стал пристальным, как у грифа, который заметил разлагающуюся под пеклом солнца лошадиную тушу.
- Уточни, - попросила она, не сдерживая поднимающихся уголков рта.
– Жертвой вполне конкретного обстоятельства. Он ведь мягкий, ведомый. Его заставили, угрожая убийством, - ответил Асфар Юнусович, - но для этого ему придется на три месяца уйти в монастырь, чтобы появилось смягчающее обстоятельство. Ты все равно хочешь отправить его в рехаб, а монастырь отлично подходит. К тому же, он стоит на учете, ходит на терапию, хоть и редко. Словом, твой Вячеслав – наркоман, который борется со своим недугом и очень хочет снова стать полноценным гражданином.
Полтинина слушала его, подавшись вперед. На свету брошь заблестела еще ярче, и среди венозной красноты проступили алые переливы.
- А Грязев, с которым он распространял, нигде не работает, высшего образования не получает и в ребцентр не обращается, хотя стоило бы – он инъекционный наркоман. До дна он почти добрался, впереди только опиаты и крокодил. Схему сбыта, кстати, продумал именно он, а твой драгоценный Вячеслав всего лишь сделал ему абстрактное предложение. Его признают потерпевшим.
- Сколько? – деловито спросила Полтинина, пропустив мимо ушей непонятный ей комментарий про опиаты и крокодил.
– Полтора миллиона. Сегодня. Не я один занимаюсь этим делом, нужно умаслить остальных, пока расследование не зашло слишком далеко.
- Вышли мне реквизиты, - кивнула Полтинина и встала. Разгладив юбку, на которой почти не было помятостей, она снова кивнула, на этот раз глядя перед собой, и вышла из кабинета, не удостоив Асфара Юнусовича даже этикетным прощанием – слишком уж далеко сейчас были ее мысли.
Асфар Юнусович снова прокрутил в голове факты биографии Грязева, известные официальным документам: начиная с Офтони и заканчивая нынешним статусом безработного. Из показаний Горбовского следовало, что Грязев занимается сбытом не впервые. Доказательств, к сожалению, не было, но Асфару Юнусовичу доказательства были не нужны – он мог напугать Грязева одним лишь своим присутствием, а остальное было уже делом техники и отработанным алгоритмом.
«Этот вполне сгодится, - подумал он, - весьма правдоподобная версия».
***
Через четыре дня должны были нагрянуть сотрудники службы охраны, и Матвей готов был гостеприимно их встретить, наконец-то отдать Рубцову требуемые сто тысяч и, навсегда с ним распрощавшись, забыть произошедшее, как страшный сон. Из роли драгдилера Матвей уже вышел, однако после нее остались излишки в виде десяти граммов порошков и пятнадцати таблеток – желтых маусов, судьба которых была очевидной.
Больше двух суток назад Матвей надел поверх рубашки теплый черный пиджак из грубого сукна, обулся в новые ботинки, которые купил по случаю еще весной и которые пришли на смену окончательно изношенным кроссовкам, и, прихватив с собой шесть желтых таблеток, отправился на электричку. Горбовский, страдающий от водочно-пивного похмелья, остался дома. К тому же, ему нужно было прийти в себя и заработать еще пять тысяч, а интернет-мошенничество требовало холодной головы.
- Удачно тебе потусить, - напоследок сказал ему осипший после вчерашнего загула Горбовский, держа в руках банку с огуречным рассолом. Он пытался придумать правдоподобное оформление аккаунта, на которое могли купиться недостаточно опытные наркоманы, но пока вспоминались только засвеченные шаблоны.
Употребив три таблетки и проведя с Асей два полных дня, Матвей до боли искусал щеки и поехал домой лишь тогда, когда обнаружил в своей скудной слюне кровянистую примесь. Ехал он с мыслью о том, что скоро иссякнет запас энергии, взятой у собственного тела в кредит, что нужно поймать момент и лечь спать до того, как наступит окончательная черно-серая трезвость.
Как выяснилось, беспокоился Матвей зря. Трезвость наступать не торопилась, а постэффектов, которые обычно следовали после отлива химической волны, не было и близко. И хотя такое положение дел должно было лишь обрадовать его, он совсем не радовался - тело будто заклинило на фазе спада. Дергано влетев в квартиру, случайно задев плечом Соню и даже не извинившись, Матвей заперся в комнате и, забыв разуться, принялся ходить по замкнутой траектории, которая из-за узости помещения представляла собой приплюснутый круг.
Уже перевалило за полдень, а Горбовского дома не было, но не стоило даже гадать, куда он в очередной раз запропастился. Естественно, он пил с ельцинистами. Политизированные знакомые Горбовского в массе своей были алкоголиками, и пить с ними наравне Матвей не мог – выдерживать их темп было сложно. Несовпадение аддикций делало совместный досуг тягостным.
Матвей запустил горячие пальцы в волосы, сжал ладонями пульсирующие виски и запрокинул голову, подставив лицо холодному ветру, который унывно стучал рамой форточки, и высокому потолку. Матвей косо улыбался, осознавал неуместность и жуткость этой улыбки, однако избавиться от нее не мог. Под глазами пролегли широкие серовато-лиловые дуги, а в широких зрачках отражалась то круговерть комнаты, то небо, в котором перекатывались рельефные, тяжеловесные, металлически-темные тучи. Карие глаза Матвея казались черными, лишенными радужки.
Затянувшееся бодрствование начинало нервировать. Устало потерев лицо руками, он все-таки сел на диван, где топорщилось морщинами мятое постельное белье, и достал из кармана телефон. Конечно, догадка, осенившая Матвея, стремительно превращалась в утвержденный план действий, но следовало хотя бы оповестить Горбовского, пока не стало хуже.
Горбовский взял трубку после первого же гудка. Решительно вскочив с дивана, ощущая дрожь во всем теле, Матвей выпалил:
- Ты где потерялся?
– В Кудрово я, - нехотя ответил тот.
– Кудрово? – вскричал Матвей, вдруг проникнувшись раздражением. - Ты что забыл в этом блядском Кудрово?
Горбовский снова замялся – уже второй раз, хотя даже минуты не прошло, но неуверенно произнес:
– Да хуй знает. Вчера пил со своими, сегодня проснулся в Кудрово. Я вечером приеду, ладно?
- Слава, я пережрал колес, и мне очень ебано, я займу у тебя несколько плюх, чтобы успокоиться, спасибо тебе большое, - скороговоркой сообщил Матвей сквозь сжатые зубы и сбросил, не дождавшись разрешения.
Не так давно Горбовский хвалился, что купил марроканский гашиш, который надо было бы опробовать, однако то у одного были дела, то у другого, и плитка сохранила цельную форму. Рассудив, что Горбовский не обидится, Матвей, не желающий в таком состоянии ехать за кладом, достал из-под дивана заранее заготовленную пол-литровую бутылку, в пластике которой сигаретой была прожжена дырка с оплавленными краями.
Сев за стол и разложив перед собой инструментарий, Матвей отщипнул от плитки четыре маленьких катышка, резко сжал их подушечками пальцев, превратив в тонкие плюхи. Операция была простой и знакомой: положив на зажженную сигарету плюху, Матвей аккуратно просунул сигарету в бутылку и дождался, пока та наполнится дымом. Когда прозрачность сменилась жемчужно-серой туманной густотой, он вытащил сигарету, зажал дырку пальцем и припал к горлышку бутылки. Вдохнув дым одним большим глотком, Матвей сразу же ощутил першение в горле и некое помутнение в голове, которые было предвестником грядущего успокоения.
К концу четвертой плюхи тело стало ватным. Улегшись на диван, Матвей закрыл глаза и приготовился задремать. Но сон не шел – его сбивали резкие подергивания сначала рук, а потом и ног. Контур тела перестал соответствовать расположению подрагивающего скелета, суставы которого так и норовили вырваться из-под кожного покрова.
Матвей с подозрением открыл глаза. Его взгляду предстала видоизменившаяся комната, очертания которой теперь окружала красно-синяя стереокайма. Он резко встал и пошатнулся, запутавшись в призрачных шлейфах движущейся перспективы. Картинка, воспринимаемая глазом, распадалась на запаздывающие кадры, которые рассыпались на фрагменты и опадали куда-то периферию зрения алыми лепестками герани и багровыми паучками.
«Соня дома, - подумал Матвей как можно короче, чтобы не потерять мысль, - и Женя с Евгением Львовичем»
Отыскав в искаженной комнате дверь, он еле как повернул ключ и вывалился в коридор, который тоже перестал быть знакомым. Взгляд фиксировал всё с опозданием, редкие кадры реальности, накладываясь друг на друга, смешивались в невнятную смесь образов. Матвей с трудом отыскал среди пестрого калейдоскопа подрагивающие лица Сони, Жени и Копейкина, внимание которых, видимо, привлек грохот его падения на пол коридора. Однако не успел он объяснить, какая именно помощь ему нужна, как только что найденные лица раскрошились на смазанные сегменты. В громком топоте шагов, человеческой, но непонятной речи и бытовых шумах проступил навязчивый, прежде незаметный ритм, который заполнял восприятие, погружая в транс и отвлекая от попыток осознать себя в пространстве.
Если бы Матвей был трезвым, то различил бы в ворохе шумов оглушительный хлопок входной двери, топот чужих ботинок и незнакомые грубые голоса. Но сделать это в настолько невменяемом состоянии было, к его несчастью, невозможно.
Незваные гости, почти не удивленные зрелищем, изучающе осмотрели жителей квартиры, столпившихся вокруг Матвея, который барахтался на полу и невнятно мычал. Жители квартиры так же изучающе, но с растущей внутри тревогой осмотрели незваных гостей.
На пороге стояли трое мужчин решительного вида, в гражданской одежде. Самым уверенным и, видимо, главным, был бледный и суховатый, за спиной которого стояли еще двое. Один из них хрипло покашливал, а второй гордо нес перед собой надувшийся за годы пивного алкоголизма живот.
- Майор Панкратов, ФСКН, - скупо произнес бледный и суховатый, предъявив багровую корочку, - освободите коридор.
Вид неадекватного Матвея, явно неспособного к побегу, заметно успокоил их, и они, прежде собранные, расслабились. Хрипло покашливающий оперативник, капитан Соловьев, вытащил из кармана свитера платок и вытер со лба пот. Дородный капитан Тищенко тускло улыбнулся.
Непричесанный, недавно проснувшийся Женя и Копейкин осторожно отступили к кухне, а Соня сноровисто шмыгнула к себе в комнату и закрылась изнутри. Прибывшие оперативники окружили Матвея, нависнув над ним и заняв их места.
- Мне плохо! – простонал Матвей, понимая, что над ним кто-то стоит, но не видя лиц.
– Что ты принимал, чепушила? – прикрикнул на него капитан Тищенко. У Матвея вырвался еще один стон, куда более слабый и горестный:
– Мне пло-о-охо…
Майор Соловьев помахал пятерней перед лицом Матвея, перед стеклянным взглядом широко распахнутых черных глаз. Разные внешне, но единые в своем порыве капитаны перевернули Матвея на живот, уткнув лицом в пол, скрутили ему руки за спиной, и на запястьях защелкнулись холодящие кожу наручники. Он дернулся, не осознав неладное, но почуяв его. Соловьев резким тычком в спину заставил его рухнуть обратно:
- Лежать, бля!
- Нет! Нет!
– Добегался, дружок, - отчетливо проговорил майор Панкратов, косясь в незапертую комнату Матвея, откуда тонко, но заметно пахло шмалью.
– Нет! – дрожащим голосом выкрикнул Матвей.
- Да успокойся ты уже! – осклабился капитан Соловьев и с оттяжкой пнул его в живот. Матвей сжался, закатив глаза, и судорожно раскрыл рот, глотая воздух, как выброшенная на сушу рыба. Очередной крик не удался и вышел из легких хрипом.
Панкратов перевел взгляд на капитана Тищенко:
- Обыщи комнату.
Обыск был поверхностным, словно тот знал, что именно искать и где – впрочем, так оно и было. Сразу же устремившись в угол, где под отсохшими фрагментами паркета скрывалась пустота, он изъял оставшиеся наркотики и электронные весы. Достав из внутреннего кармана легкой куртки плотный желтый конверт, похожий на те, в которых присылают бандероли, он упаковал вещественные доказательства, добавив к ним гашиш и телефон Матвея, лежащий на диване.
Взяв под мышку и ноутбук, который тоже был доказательством, Тищенко вышел из комнаты. На его округлом и румяном лице читалось чувство выполненного долга. Пока Панкратов закрывал дверь и клеил между ней и косяком бумажку с синей печатью и казенным во всех смыслах словом «опечатано», Соловьев рывком поднял Матвея и поволок в подъезд. На лестнице он ухватил его за ворот пиджака. Нетвердо стоящий на ногах Матвей смутно понимал происходящее и дергал скованными руками.
Сегодняшний маршрут Матвея, конечной точкой которой было уже известное управление ФСКН на Загородном проспекте, повторял маршрут, по которому шесть лет назад везли Максима Булыгина, арестованного в день его двадцатилетия во время контрольной закупки – с особо крупным размером. Сын обеспеченной семьи, известный под псевдонимом Yung Knife, выглядел не очень-то внушительно и даже интеллигентно, читал рэп о том, как он торгует наркотиками, и попутно продавал мерч. Естественно, его текстам никто не верил, считая их данью жанру и художественным преувеличением.
Это был второй арест Булыгина. Первый подарил ему условный срок, однако ума не придал. Загадочным образом, при всей очевидности доказательств следствие затянулось на год. Еще год пытались провести судебное заседание, которое всякий раз по разным причинам переносили на следующий месяц: то из-за неявки свидетелей, то из-за плохого состояния здоровья Булыгина. Общественность даже стала сомневаться в живом статусе неявляющихся свидетелей. Все это время Булыгин провел в СИЗО, где один день считался за два дня в колонии, и эта двугодичная задержка скостила ему срок аж на четыре года.
Когда же рецидивисту Булыгину, за плечами которого уже был условный срок и ряд отягчающих обстоятельств, вынесли приговор – шесть лет вместо ожидаемых семнадцати, его отправили в подмосковную колонию-поселение, и он, прежде мелькающий в медиаполе, на два года пропал из виду. А потом дал интервью.
Журналисты приехали к Булыгину прямо на территорию колонии-поселения. Виновник торжества встретил их в арендованном белом лимузине, побряцал часами за полмиллиона рублей и исполнил новую песню собственного сочинения, записанную совместно с сокамерником – сурового вида мокрушником, который сел еще до рождения Булыгина. Темой песни была опиатная зависимость, но Булыгин относился к происходящему с плохо скрываемым куражом. Завершающим штрихом было его заявление о том, что сбыт он признает, но ничуть не раскаивается.
Что только не мелькало в кадре: стриптизерша в костюме Снегурочки, которую почему-то пустили в периметр, уже упомянутый мокрушник в мерче Булыгина и сам Булыгин, кормящий морковкой нутрий.
Через несколько месяцев после интервью рецидивист и крупный наркоторговец Булыгин вышел по УДО.
Возможно, он мог бы прожить немного дольше. Наверняка гипотетическое продолжение его жизни было бы неплохим. Но он, к сожалению, был достаточно медийной личностью, чтобы стать жертвой резонансного убийства. Существовавший на тот момент «Антидилер» брал в оборот лишь тех наркоторговцев, на которых им указывали правоохранительные органы.
На Булыгина указала ФСКН. Так и закончилась его творческая биография, в которой поставили жирную точку некрологи рэп-комьюнити, и биография вообще. Уже через месяц про него начали забывать – слава не терпит отсутствия инфоповодов, а самый впечатляющий, последний в жизни Булыгина инфоповод заметно подостыл и растерял свежесть первых девяти дней. Еще месяц по инерции обсуждали дорогие часы, которые были обнаружены на трупе Булыгина, но потом бесследно пропали: то ли в чьем-то кармане, то ли в пыли архивов с вещдоками, но и эта тема исчерпала себя и неизбежно всем надоела.
Изящно устранив со сцены активистов «Антидилера» и лишив их государственной поддержки, ФСКН взялась за более крупных конкурентов, с которыми раньше приходилось договариваться и терпеть их на своей территории. Самый прибыльный сектор российского наркорынка, героиновый, еще с девяностых контролировали этнические диаспоры, в основном, цыганская. Когда ФСКН обрела силы, она выдавила цыган с героинового рынка: кого депортировали, ссылаясь на нарушение миграционного законодательства, кого посадили, кого устранили физически.
Этнические диаспоры были посредником между афганским Талибаном, опийный мак для которого за гроши выращивали нищие декхане, и российской сетью распространителей - от нуворишей-оптовиков до мелких уличных барыг, которые распространяли афганский героин и тем самым невольно подпитывали исламский терроризм.
Естественно, за посредничество этнические диаспоры накручивали процент сверх оптовой цены, за которую этот героин продавали им. Чем ниже по цепочке уходили фасуемые и бодяжимые порции, тем выше становилась розничная цена. Когда цепочка лишилась слабого звена, этнических диаспор, розничная цена на героин ощутимо упала. Это была значимая, даже глобальная для российского криминалитета смена парадигмы.
***
В кабинете следователя, который ничем не отличался от множества своих копий по всей России – ни деревянной мебелью, ни тусклым цветом стен, ни белыми жалюзи, собрались пять человек. В затененном углу, закинув ногу на ногу и сложив руки на груди, сидел на стуле Асфар Юнусович. Рядом стояла деревянная кадка с раскидистой диффенбахией, чьи зеленые листья были покрыты мелкими брызгами белого пигмента. С этой точки кабинета Асфару Юнусовичу открывался прекрасный обзор, и он выглядывал из-за крапчатых листьев, как мизгирь. Над его головой проходила выкрашенная в оранжевый цвет труба отопления, опоясывающая две смежные стены.
Под традиционным портретом Громова обосновался за столом следователь - майор Николенко, мужчина с напряженными желваками на щеках и максимально незапоминающимся лицом, которое как нельзя лучше подходило для работы в органах. Его серый шерстяной китель с одинокими звездами погон был расстегнут, открывая взгляду голубую форменную рубашку и серый галстук с золотистым зажимом. Он молча курил, будто дело, которым он занимался, совершенно не имело важности, и стряхивал пепел в круглую пепельницу, которая стояла возле выключенной настольной лампы на подвижной ножке.
Самыми младшими по званию среди собравшихся были капитан Картамышев и капитан Лушин. Картамышев, отталкивающий молодой человек с тяжелыми веками и зычным голосом, служил в ФСКН не первый год и инструктировал Лушина, совсем зеленого паренька с тонкими чертами лица и светлыми, почти невидимыми ресницами, который стал капитаном всего два месяца назад, а на службу в ФСКН перешел только на прошлой неделе. Оба стояли у стены, ожидая приказаний. Лушин при виде Асфара Юнусовича держался скованно, боялся даже смотреть в его сторону и молчал, чтобы не ляпнуть лишнего, а вот Картамышева присутствие высшего начальства лишь воодушевляло, ведь это был отличный шанс продемонстрировать лояльность и выслужиться.
Матвей, ради которого они сегодня здесь собрались, сидел на табуретке в центре кабинета, чуть поодаль от следовательского стола и был у всех на виду. Полностью он не оклемался, но хотя бы начал удерживать равновесие и прекратил мычать. Устремленные на него четыре пристальных взгляда не придавали уверенности, а скованные за спиной руки лишь подчеркивали беззащитность его положения, и сконфуженный Матвей, глядя в одну точку, молчал, по-прежнему невольно стискивая зубы.
- Что он принимал? – спросил Асфар Юнусович, поправив косо сидящую фуражку.
- Три таблетки экстази, курил гашиш, - проворчал следователь, мысленно сетуя на унылую перспективу несколько дней заниматься делом, которое можно было бы решить за пару часов. Не до конца доверяя его словам, Асфар Юнусович осмотрел Матвея с головы до ног.
- Вряд ли это был простой гашиш, - радостно добавил Картамышев, - наверняка ему продали какое-то дизайнерское говно.
- Возьмите кровь на анализ. Я не хочу, чтобы он от транквилизаторов у нас в камере умер, - строго приказал Асфар Юнусович, - дело и так… сложное.
Не до конца очнувшийся мозг Матвея, натренированный на триггеры, отреагировал на слово «анализ» и послал телу вполне однозначный сигнал. Матвей вскочил со стула и совершил бессмысленный в такой ситуации рывок к двери. Однако подвели ноги, и он растянулся на полу, как изломанная деревянная кукла. Подоспели Картамышев с Лушиным, которые вовремя сдержали Матвея, тут же начавшего остервенело вырываться. Пиджак и рубашка задрались, оголив заметно выступающие ребра. На нездорово-бледное лицо налипли спутанные светлые волосы. Руки у него снова крупно затряслись.
- Пустите! – истерично закричал Матвей то ли от страха, то ли от боли. Лушин и Картамышев пытались поднять его, ухватив за локти.
- Сволочи! Я не хочу!
Картамышев незамедлительно ударил его кулаком по печени. Дернувшись с резким вскриком, Матвей обмяк и умолк. Слышался лишь зубовный стук. Полицейские схватили его за локти и утащили его из кабинета. С шорохом волочились по полу ноги Матвея в новых ботинках.
Среди тяжелой прохлады двора, неровного многоугольника, который поднимался к нему грязно-кремовым колодцем домов, уже больше полувека скрывалось от звенящего ветра желтое двухэтажное здание казенного вида, совершенно лишенное эстетических излишеств, которые были бы просто неуместны на его шершавом фасаде. От Загородного проспекта к желтому дому вела строгая квадратная арка с постоянно открытыми воротами, готические ромбы которых складывались в черную решетку. Этот маршрут был не из тех, по которым люди ходили добровольно или с легким сердцем, и это было объяснимо: желтый дом представлял собой управление ФСКН, отвечающее за Санкт-Петербург и Ленинградскую область, и был вотчиной полковника Жарова, татарина сорока двух лет, которого многие знали как Асфара Юнусовича, а в представлении Асфар Юнусович не нуждался.
Его кабинет, обставленный скупо, но с общепринятой у высших чинов вежливой претензией на роскошь, располагался на втором этаже, и при первом же взгляде на интерьер становилось ясно, что владелец кабинета придерживается формальных правил приличия, однако не забывает и про гедонизм. Застекленному портрету Громова, висящему на стене, и российскому флажку, который соседствовал на столешнице мореного дуба с открытым ноутбуком и чашкой кофе, противостояли черный кожаный диван, занимающий пространство между окном и дверью, и стоящий на подоконнике лакированный горшок с пронзительно-сиреневым антуриумом. По темным кожистым листьям неохотно растекался дневной свет, а белое соцветие напоминало гипертрофированный клитор.
В комплекте с кожаным диваном шло такое же кресло, в котором сейчас сидел, закинув ногу на ногу, Асфар Юнусович. Посетителям же приходилось довольствоваться жестким деревянным стулом, который был заметно ниже кресла и ясно давал понять, кто здесь начальник, а кто дурак.
Начальником петербургского управления ФСКН Асфар Юнусович стал шесть лет назад, и хотя произошло это не без протекции, дела у него до сих пор шли гладко: кем Асфар Юнусович не был, так это простаком. Да и впечатление производил, несмотря на сухощавость фигуры, внушительное. Из-под лакового козырька серой фуражки изучающе смотрело сухое желтое лицо с резкими морщинами и татарским разрезом глаз, а на виски резким контуром спускались черные волосы, цветом напоминающее воронье крыло. На правом предплечье серого кителя темнел шеврон с непременным двуглавым орлом и щитом, на котором кольцами обвивала острый меч змея.
Левый глаз Асфара Юнусовича уже давно сменился своей искусственной копией с неподвижным широким зрачком, который обеспечивал остроту зрения даже в темноте и диссонировал со зрачком правого глаза, который на свет и тьму реагировал естественно. Точно так же отличалась и левая кисть руки от правой: если правую покрывали желтоватый загар, пигментные пятна и тонкие волоски, то левая была бледной, как у призрака, а волос на ней не было совсем. Кисть была идентична натуральной, но слишком точно ее копировала, и ее вид вызывал легкий дискомфорт. Еще больший дискомфорт она вызывала у тех, кого Асфар Юнусович не гнушался бить: механическая конструкция была гораздо сильнее мясной, и удары оказывались болезненными, заставляя сгибаться в три погибели и обмякать на месте.
Жизненный путь Асфара Юнусовича был простым и предсказуемым: девять классов, средняя школа полиции, откуда он вышел младшим лейтенантом, высшая школа полиции, лишившая его эпитета «младший», и служба в МВД, плавно перетекшая в службу в ФСКН. А служба в ФСКН, само собой, так же плавно перетекла в наращивание деловых связей – Асфар Юнусович крышевал барыг еще в бытность лейтенантом, и это было задолго до того, как ФСКН стала контролировать весь российский наркопоток, так что Асфар Юнусович свое дело знал и никогда в нем не плошал.
Прошло двадцать лет, и молодой казанский полицейский, который пошел в силовики скорее из-за финансовых притязаний, чем из-за чувства справедливости, превратился в нового русского кшатрия железного века, облаченного в серый мундир.
На жестком стуле, куда обычно попадали нерадивые сотрудники и несговорчивые, но перспективные в финансовом плане господа, сидела просительница, которая должна была оказаться там в последнюю очередь. На лацкане ее наглухо застегнутого жакета мелко искрилась венозно-красным рубиновая брошь, а светлые волосы были склеены лаком в высокую башню. Пока она нервно поджимала губы, Асфар Юнусович скупо касался тачпада ноутбука и пролистывал инстаграм Матвея Германовича Грязева, формально русского юноши, в чертах лица которого проглядывало нечто эрзянское. Рассматривать в его фотографиях было нечего: завтраки, алкоголь, повседневные натюрморты и снова завтраки. В аккаунте не было свидетельств криминала, лишь иногда мелькали на фото расширенные зрачки, но даже это можно было списать на падающую тень и естественную для живого человека реакцию глаз. Судя по редким фотографиям Грязева, где он был запечатлен то с бутылкой пива, то с сигаретой, то с перламутрово-синим баяном, жизнь его была скучной, однообразной и бесцельной.
Просительницей, которая ожидала ответа Асфара Юнусовича на удивление терпеливо, была Елена Полтинина – депутат госдумы от «Великой России», дочь олигарха, который нажил капитал нечестно, но все же самостоятельно, и родная тетя осиротевшего в раннем детстве Славы Горбовского. Послужной список Полтининой был красноречивым: запрет бэби-боксов, мораторий на аборты каждый четвертый месяц года, запрет полового просвещения... Все продвигаемые ей законопроекты поставляли мясцо Молоху, который еще с десятых годов раздувался от имперских амбиций и громовского комплекса неполноценности.
- Чем ты думала, когда лишала его денег? – вскинул брови Асфар Юнусович, наконец закрыв вкладку с похожими друг на друга фотографиями, качество которых варьировалось от приемлемого до откровенно плохого.
- Я хотела, чтобы он устроился на хорошую вакансию и понял…
- Можно похвалить Вячеслава, он выбрал рыбные места, - бледно улыбнулся Асфар Юнусович, - и мошенничество, и наркоторговля приносят много денег. Не так много, конечно, как статус депутата.
Племянника Полтининой арестовали в «Этажах» во время контрольной закупки, когда тот передавал клиенту и весьма близкому другу три грамма амфетамина. Меченых денег при Горбовском не было, однако с точки зрения закона бесплатное распространение тоже считалось сбытом.
Держался Горбовский недолго. Избиение он вытерпел, а вот обещания рандеву с лейтенантом и бутылкой шампанского уже не вынес. Не привыкший к статусу шудры и грубому обращению, он расклеился и все выложил: и про причину, которая толкнула его на сбыт, и про дружескую помощь некоего Грязева, и зачем-то даже про деятельность на ниве мошенничества, хотя об этом его никто не спрашивал. Словом, сдал себя и причастных лиц со всеми потрохами. Возможно, из него вышел бы хороший, мечтающий выслужиться стукач. Если бы не Полтинина, которая ближайшим рейсом прилетела из Москвы выручать провинившегося племянника.
- Я не понимаю! – округлила Полтинина слабо накрашенные губы, но тут же одернула себя и придала мимике привычную сдержанность моралистки. - Почему он выбрал такой отвратительный образ жизни? Почему они с этим наркоманом вскладчину снимали каморку? И почему он не поселился в центре? Жить в центре было бы гораздо удобнее.
- Ты правда не понимаешь? – с удивлением посмотрел на нее Асфар Юнусович. Он не впервые сталкивался с ее взглядом на мир, но предел непонимания был еще далеко. Полтинина отупело уставилась на него.
Территориально Асфар Юнусович и Полтинина жили в одной России, но фактически все было иначе: в его России существовали неустроенные города, умирающие деревни и дети, изъясняющиеся на блатной фене, одним из которых когда-то был и Асфар Юнусович, а ее Россия ограничивалась парадной личиной Петербурга, горящей неоновыми всполохами Москвой и мкадом, за которым начинались неизведанные территории регионов. Иногда ему казалось, что они с Полтининой даже говорят на разных языках, и в нем просыпалась кастовая ненависть, от которой так и подмывало по-пролетарски покрыть Полтинину матом, однако он стойко воздерживался.
- Ты мой должник, Асфар. Кто тебе помог шесть лет назад? Вот и ты теперь мне помоги. Придумай что-нибудь.
- С учетом предыдущего дела, московского, будет сложно сделать твоего Вячеслава исключительно свидетелем, - произнес он после задумчивой паузы, - придется очень постараться.
– Его нельзя сажать за торговлю наркотиками. Что будет с моей репутацией? Пьяный наезд это все-таки непреднамеренный поступок, а торговля - осознанное и продуманное решение. Пусть за торговлю сядет второй.
– Грязев? – спросил Асфар Юнусович, откинувшись на спинку кресла.
–Да, он.
Грубо зашаркала во дворе метла дворника. Асфар Юнусович замолчал, забарабанил искусственными пальцами по столешнице, и на светлом дереве запрыгали их вытянутые тени. Полтинина не отрывала от него взгляда, ожидая исключительно положительного ответа. Наконец он вздохнул и заговорил:
- Можно подвести к тому, что Вячеслав был жертвой внешних обстоятельств.
Услышав нечто, отдаленно похожее на согласие, Полтинина оживилась, и взгляд ее стал пристальным, как у грифа, который заметил разлагающуюся под пеклом солнца лошадиную тушу.
- Уточни, - попросила она, не сдерживая поднимающихся уголков рта.
– Жертвой вполне конкретного обстоятельства. Он ведь мягкий, ведомый. Его заставили, угрожая убийством, - ответил Асфар Юнусович, - но для этого ему придется на три месяца уйти в монастырь, чтобы появилось смягчающее обстоятельство. Ты все равно хочешь отправить его в рехаб, а монастырь отлично подходит. К тому же, он стоит на учете, ходит на терапию, хоть и редко. Словом, твой Вячеслав – наркоман, который борется со своим недугом и очень хочет снова стать полноценным гражданином.
Полтинина слушала его, подавшись вперед. На свету брошь заблестела еще ярче, и среди венозной красноты проступили алые переливы.
- А Грязев, с которым он распространял, нигде не работает, высшего образования не получает и в ребцентр не обращается, хотя стоило бы – он инъекционный наркоман. До дна он почти добрался, впереди только опиаты и крокодил. Схему сбыта, кстати, продумал именно он, а твой драгоценный Вячеслав всего лишь сделал ему абстрактное предложение. Его признают потерпевшим.
- Сколько? – деловито спросила Полтинина, пропустив мимо ушей непонятный ей комментарий про опиаты и крокодил.
– Полтора миллиона. Сегодня. Не я один занимаюсь этим делом, нужно умаслить остальных, пока расследование не зашло слишком далеко.
- Вышли мне реквизиты, - кивнула Полтинина и встала. Разгладив юбку, на которой почти не было помятостей, она снова кивнула, на этот раз глядя перед собой, и вышла из кабинета, не удостоив Асфара Юнусовича даже этикетным прощанием – слишком уж далеко сейчас были ее мысли.
Асфар Юнусович снова прокрутил в голове факты биографии Грязева, известные официальным документам: начиная с Офтони и заканчивая нынешним статусом безработного. Из показаний Горбовского следовало, что Грязев занимается сбытом не впервые. Доказательств, к сожалению, не было, но Асфару Юнусовичу доказательства были не нужны – он мог напугать Грязева одним лишь своим присутствием, а остальное было уже делом техники и отработанным алгоритмом.
«Этот вполне сгодится, - подумал он, - весьма правдоподобная версия».
***
Через четыре дня должны были нагрянуть сотрудники службы охраны, и Матвей готов был гостеприимно их встретить, наконец-то отдать Рубцову требуемые сто тысяч и, навсегда с ним распрощавшись, забыть произошедшее, как страшный сон. Из роли драгдилера Матвей уже вышел, однако после нее остались излишки в виде десяти граммов порошков и пятнадцати таблеток – желтых маусов, судьба которых была очевидной.
Больше двух суток назад Матвей надел поверх рубашки теплый черный пиджак из грубого сукна, обулся в новые ботинки, которые купил по случаю еще весной и которые пришли на смену окончательно изношенным кроссовкам, и, прихватив с собой шесть желтых таблеток, отправился на электричку. Горбовский, страдающий от водочно-пивного похмелья, остался дома. К тому же, ему нужно было прийти в себя и заработать еще пять тысяч, а интернет-мошенничество требовало холодной головы.
- Удачно тебе потусить, - напоследок сказал ему осипший после вчерашнего загула Горбовский, держа в руках банку с огуречным рассолом. Он пытался придумать правдоподобное оформление аккаунта, на которое могли купиться недостаточно опытные наркоманы, но пока вспоминались только засвеченные шаблоны.
Употребив три таблетки и проведя с Асей два полных дня, Матвей до боли искусал щеки и поехал домой лишь тогда, когда обнаружил в своей скудной слюне кровянистую примесь. Ехал он с мыслью о том, что скоро иссякнет запас энергии, взятой у собственного тела в кредит, что нужно поймать момент и лечь спать до того, как наступит окончательная черно-серая трезвость.
Как выяснилось, беспокоился Матвей зря. Трезвость наступать не торопилась, а постэффектов, которые обычно следовали после отлива химической волны, не было и близко. И хотя такое положение дел должно было лишь обрадовать его, он совсем не радовался - тело будто заклинило на фазе спада. Дергано влетев в квартиру, случайно задев плечом Соню и даже не извинившись, Матвей заперся в комнате и, забыв разуться, принялся ходить по замкнутой траектории, которая из-за узости помещения представляла собой приплюснутый круг.
Уже перевалило за полдень, а Горбовского дома не было, но не стоило даже гадать, куда он в очередной раз запропастился. Естественно, он пил с ельцинистами. Политизированные знакомые Горбовского в массе своей были алкоголиками, и пить с ними наравне Матвей не мог – выдерживать их темп было сложно. Несовпадение аддикций делало совместный досуг тягостным.
Матвей запустил горячие пальцы в волосы, сжал ладонями пульсирующие виски и запрокинул голову, подставив лицо холодному ветру, который унывно стучал рамой форточки, и высокому потолку. Матвей косо улыбался, осознавал неуместность и жуткость этой улыбки, однако избавиться от нее не мог. Под глазами пролегли широкие серовато-лиловые дуги, а в широких зрачках отражалась то круговерть комнаты, то небо, в котором перекатывались рельефные, тяжеловесные, металлически-темные тучи. Карие глаза Матвея казались черными, лишенными радужки.
Затянувшееся бодрствование начинало нервировать. Устало потерев лицо руками, он все-таки сел на диван, где топорщилось морщинами мятое постельное белье, и достал из кармана телефон. Конечно, догадка, осенившая Матвея, стремительно превращалась в утвержденный план действий, но следовало хотя бы оповестить Горбовского, пока не стало хуже.
Горбовский взял трубку после первого же гудка. Решительно вскочив с дивана, ощущая дрожь во всем теле, Матвей выпалил:
- Ты где потерялся?
– В Кудрово я, - нехотя ответил тот.
– Кудрово? – вскричал Матвей, вдруг проникнувшись раздражением. - Ты что забыл в этом блядском Кудрово?
Горбовский снова замялся – уже второй раз, хотя даже минуты не прошло, но неуверенно произнес:
– Да хуй знает. Вчера пил со своими, сегодня проснулся в Кудрово. Я вечером приеду, ладно?
- Слава, я пережрал колес, и мне очень ебано, я займу у тебя несколько плюх, чтобы успокоиться, спасибо тебе большое, - скороговоркой сообщил Матвей сквозь сжатые зубы и сбросил, не дождавшись разрешения.
Не так давно Горбовский хвалился, что купил марроканский гашиш, который надо было бы опробовать, однако то у одного были дела, то у другого, и плитка сохранила цельную форму. Рассудив, что Горбовский не обидится, Матвей, не желающий в таком состоянии ехать за кладом, достал из-под дивана заранее заготовленную пол-литровую бутылку, в пластике которой сигаретой была прожжена дырка с оплавленными краями.
Сев за стол и разложив перед собой инструментарий, Матвей отщипнул от плитки четыре маленьких катышка, резко сжал их подушечками пальцев, превратив в тонкие плюхи. Операция была простой и знакомой: положив на зажженную сигарету плюху, Матвей аккуратно просунул сигарету в бутылку и дождался, пока та наполнится дымом. Когда прозрачность сменилась жемчужно-серой туманной густотой, он вытащил сигарету, зажал дырку пальцем и припал к горлышку бутылки. Вдохнув дым одним большим глотком, Матвей сразу же ощутил першение в горле и некое помутнение в голове, которые было предвестником грядущего успокоения.
К концу четвертой плюхи тело стало ватным. Улегшись на диван, Матвей закрыл глаза и приготовился задремать. Но сон не шел – его сбивали резкие подергивания сначала рук, а потом и ног. Контур тела перестал соответствовать расположению подрагивающего скелета, суставы которого так и норовили вырваться из-под кожного покрова.
Матвей с подозрением открыл глаза. Его взгляду предстала видоизменившаяся комната, очертания которой теперь окружала красно-синяя стереокайма. Он резко встал и пошатнулся, запутавшись в призрачных шлейфах движущейся перспективы. Картинка, воспринимаемая глазом, распадалась на запаздывающие кадры, которые рассыпались на фрагменты и опадали куда-то периферию зрения алыми лепестками герани и багровыми паучками.
«Соня дома, - подумал Матвей как можно короче, чтобы не потерять мысль, - и Женя с Евгением Львовичем»
Отыскав в искаженной комнате дверь, он еле как повернул ключ и вывалился в коридор, который тоже перестал быть знакомым. Взгляд фиксировал всё с опозданием, редкие кадры реальности, накладываясь друг на друга, смешивались в невнятную смесь образов. Матвей с трудом отыскал среди пестрого калейдоскопа подрагивающие лица Сони, Жени и Копейкина, внимание которых, видимо, привлек грохот его падения на пол коридора. Однако не успел он объяснить, какая именно помощь ему нужна, как только что найденные лица раскрошились на смазанные сегменты. В громком топоте шагов, человеческой, но непонятной речи и бытовых шумах проступил навязчивый, прежде незаметный ритм, который заполнял восприятие, погружая в транс и отвлекая от попыток осознать себя в пространстве.
Если бы Матвей был трезвым, то различил бы в ворохе шумов оглушительный хлопок входной двери, топот чужих ботинок и незнакомые грубые голоса. Но сделать это в настолько невменяемом состоянии было, к его несчастью, невозможно.
Незваные гости, почти не удивленные зрелищем, изучающе осмотрели жителей квартиры, столпившихся вокруг Матвея, который барахтался на полу и невнятно мычал. Жители квартиры так же изучающе, но с растущей внутри тревогой осмотрели незваных гостей.
На пороге стояли трое мужчин решительного вида, в гражданской одежде. Самым уверенным и, видимо, главным, был бледный и суховатый, за спиной которого стояли еще двое. Один из них хрипло покашливал, а второй гордо нес перед собой надувшийся за годы пивного алкоголизма живот.
- Майор Панкратов, ФСКН, - скупо произнес бледный и суховатый, предъявив багровую корочку, - освободите коридор.
Вид неадекватного Матвея, явно неспособного к побегу, заметно успокоил их, и они, прежде собранные, расслабились. Хрипло покашливающий оперативник, капитан Соловьев, вытащил из кармана свитера платок и вытер со лба пот. Дородный капитан Тищенко тускло улыбнулся.
Непричесанный, недавно проснувшийся Женя и Копейкин осторожно отступили к кухне, а Соня сноровисто шмыгнула к себе в комнату и закрылась изнутри. Прибывшие оперативники окружили Матвея, нависнув над ним и заняв их места.
- Мне плохо! – простонал Матвей, понимая, что над ним кто-то стоит, но не видя лиц.
– Что ты принимал, чепушила? – прикрикнул на него капитан Тищенко. У Матвея вырвался еще один стон, куда более слабый и горестный:
– Мне пло-о-охо…
Майор Соловьев помахал пятерней перед лицом Матвея, перед стеклянным взглядом широко распахнутых черных глаз. Разные внешне, но единые в своем порыве капитаны перевернули Матвея на живот, уткнув лицом в пол, скрутили ему руки за спиной, и на запястьях защелкнулись холодящие кожу наручники. Он дернулся, не осознав неладное, но почуяв его. Соловьев резким тычком в спину заставил его рухнуть обратно:
- Лежать, бля!
- Нет! Нет!
– Добегался, дружок, - отчетливо проговорил майор Панкратов, косясь в незапертую комнату Матвея, откуда тонко, но заметно пахло шмалью.
– Нет! – дрожащим голосом выкрикнул Матвей.
- Да успокойся ты уже! – осклабился капитан Соловьев и с оттяжкой пнул его в живот. Матвей сжался, закатив глаза, и судорожно раскрыл рот, глотая воздух, как выброшенная на сушу рыба. Очередной крик не удался и вышел из легких хрипом.
Панкратов перевел взгляд на капитана Тищенко:
- Обыщи комнату.
Обыск был поверхностным, словно тот знал, что именно искать и где – впрочем, так оно и было. Сразу же устремившись в угол, где под отсохшими фрагментами паркета скрывалась пустота, он изъял оставшиеся наркотики и электронные весы. Достав из внутреннего кармана легкой куртки плотный желтый конверт, похожий на те, в которых присылают бандероли, он упаковал вещественные доказательства, добавив к ним гашиш и телефон Матвея, лежащий на диване.
Взяв под мышку и ноутбук, который тоже был доказательством, Тищенко вышел из комнаты. На его округлом и румяном лице читалось чувство выполненного долга. Пока Панкратов закрывал дверь и клеил между ней и косяком бумажку с синей печатью и казенным во всех смыслах словом «опечатано», Соловьев рывком поднял Матвея и поволок в подъезд. На лестнице он ухватил его за ворот пиджака. Нетвердо стоящий на ногах Матвей смутно понимал происходящее и дергал скованными руками.
Сегодняшний маршрут Матвея, конечной точкой которой было уже известное управление ФСКН на Загородном проспекте, повторял маршрут, по которому шесть лет назад везли Максима Булыгина, арестованного в день его двадцатилетия во время контрольной закупки – с особо крупным размером. Сын обеспеченной семьи, известный под псевдонимом Yung Knife, выглядел не очень-то внушительно и даже интеллигентно, читал рэп о том, как он торгует наркотиками, и попутно продавал мерч. Естественно, его текстам никто не верил, считая их данью жанру и художественным преувеличением.
Это был второй арест Булыгина. Первый подарил ему условный срок, однако ума не придал. Загадочным образом, при всей очевидности доказательств следствие затянулось на год. Еще год пытались провести судебное заседание, которое всякий раз по разным причинам переносили на следующий месяц: то из-за неявки свидетелей, то из-за плохого состояния здоровья Булыгина. Общественность даже стала сомневаться в живом статусе неявляющихся свидетелей. Все это время Булыгин провел в СИЗО, где один день считался за два дня в колонии, и эта двугодичная задержка скостила ему срок аж на четыре года.
Когда же рецидивисту Булыгину, за плечами которого уже был условный срок и ряд отягчающих обстоятельств, вынесли приговор – шесть лет вместо ожидаемых семнадцати, его отправили в подмосковную колонию-поселение, и он, прежде мелькающий в медиаполе, на два года пропал из виду. А потом дал интервью.
Журналисты приехали к Булыгину прямо на территорию колонии-поселения. Виновник торжества встретил их в арендованном белом лимузине, побряцал часами за полмиллиона рублей и исполнил новую песню собственного сочинения, записанную совместно с сокамерником – сурового вида мокрушником, который сел еще до рождения Булыгина. Темой песни была опиатная зависимость, но Булыгин относился к происходящему с плохо скрываемым куражом. Завершающим штрихом было его заявление о том, что сбыт он признает, но ничуть не раскаивается.
Что только не мелькало в кадре: стриптизерша в костюме Снегурочки, которую почему-то пустили в периметр, уже упомянутый мокрушник в мерче Булыгина и сам Булыгин, кормящий морковкой нутрий.
Через несколько месяцев после интервью рецидивист и крупный наркоторговец Булыгин вышел по УДО.
Возможно, он мог бы прожить немного дольше. Наверняка гипотетическое продолжение его жизни было бы неплохим. Но он, к сожалению, был достаточно медийной личностью, чтобы стать жертвой резонансного убийства. Существовавший на тот момент «Антидилер» брал в оборот лишь тех наркоторговцев, на которых им указывали правоохранительные органы.
На Булыгина указала ФСКН. Так и закончилась его творческая биография, в которой поставили жирную точку некрологи рэп-комьюнити, и биография вообще. Уже через месяц про него начали забывать – слава не терпит отсутствия инфоповодов, а самый впечатляющий, последний в жизни Булыгина инфоповод заметно подостыл и растерял свежесть первых девяти дней. Еще месяц по инерции обсуждали дорогие часы, которые были обнаружены на трупе Булыгина, но потом бесследно пропали: то ли в чьем-то кармане, то ли в пыли архивов с вещдоками, но и эта тема исчерпала себя и неизбежно всем надоела.
Изящно устранив со сцены активистов «Антидилера» и лишив их государственной поддержки, ФСКН взялась за более крупных конкурентов, с которыми раньше приходилось договариваться и терпеть их на своей территории. Самый прибыльный сектор российского наркорынка, героиновый, еще с девяностых контролировали этнические диаспоры, в основном, цыганская. Когда ФСКН обрела силы, она выдавила цыган с героинового рынка: кого депортировали, ссылаясь на нарушение миграционного законодательства, кого посадили, кого устранили физически.
Этнические диаспоры были посредником между афганским Талибаном, опийный мак для которого за гроши выращивали нищие декхане, и российской сетью распространителей - от нуворишей-оптовиков до мелких уличных барыг, которые распространяли афганский героин и тем самым невольно подпитывали исламский терроризм.
Естественно, за посредничество этнические диаспоры накручивали процент сверх оптовой цены, за которую этот героин продавали им. Чем ниже по цепочке уходили фасуемые и бодяжимые порции, тем выше становилась розничная цена. Когда цепочка лишилась слабого звена, этнических диаспор, розничная цена на героин ощутимо упала. Это была значимая, даже глобальная для российского криминалитета смена парадигмы.
***
В кабинете следователя, который ничем не отличался от множества своих копий по всей России – ни деревянной мебелью, ни тусклым цветом стен, ни белыми жалюзи, собрались пять человек. В затененном углу, закинув ногу на ногу и сложив руки на груди, сидел на стуле Асфар Юнусович. Рядом стояла деревянная кадка с раскидистой диффенбахией, чьи зеленые листья были покрыты мелкими брызгами белого пигмента. С этой точки кабинета Асфару Юнусовичу открывался прекрасный обзор, и он выглядывал из-за крапчатых листьев, как мизгирь. Над его головой проходила выкрашенная в оранжевый цвет труба отопления, опоясывающая две смежные стены.
Под традиционным портретом Громова обосновался за столом следователь - майор Николенко, мужчина с напряженными желваками на щеках и максимально незапоминающимся лицом, которое как нельзя лучше подходило для работы в органах. Его серый шерстяной китель с одинокими звездами погон был расстегнут, открывая взгляду голубую форменную рубашку и серый галстук с золотистым зажимом. Он молча курил, будто дело, которым он занимался, совершенно не имело важности, и стряхивал пепел в круглую пепельницу, которая стояла возле выключенной настольной лампы на подвижной ножке.
Самыми младшими по званию среди собравшихся были капитан Картамышев и капитан Лушин. Картамышев, отталкивающий молодой человек с тяжелыми веками и зычным голосом, служил в ФСКН не первый год и инструктировал Лушина, совсем зеленого паренька с тонкими чертами лица и светлыми, почти невидимыми ресницами, который стал капитаном всего два месяца назад, а на службу в ФСКН перешел только на прошлой неделе. Оба стояли у стены, ожидая приказаний. Лушин при виде Асфара Юнусовича держался скованно, боялся даже смотреть в его сторону и молчал, чтобы не ляпнуть лишнего, а вот Картамышева присутствие высшего начальства лишь воодушевляло, ведь это был отличный шанс продемонстрировать лояльность и выслужиться.
Матвей, ради которого они сегодня здесь собрались, сидел на табуретке в центре кабинета, чуть поодаль от следовательского стола и был у всех на виду. Полностью он не оклемался, но хотя бы начал удерживать равновесие и прекратил мычать. Устремленные на него четыре пристальных взгляда не придавали уверенности, а скованные за спиной руки лишь подчеркивали беззащитность его положения, и сконфуженный Матвей, глядя в одну точку, молчал, по-прежнему невольно стискивая зубы.
- Что он принимал? – спросил Асфар Юнусович, поправив косо сидящую фуражку.
- Три таблетки экстази, курил гашиш, - проворчал следователь, мысленно сетуя на унылую перспективу несколько дней заниматься делом, которое можно было бы решить за пару часов. Не до конца доверяя его словам, Асфар Юнусович осмотрел Матвея с головы до ног.
- Вряд ли это был простой гашиш, - радостно добавил Картамышев, - наверняка ему продали какое-то дизайнерское говно.
- Возьмите кровь на анализ. Я не хочу, чтобы он от транквилизаторов у нас в камере умер, - строго приказал Асфар Юнусович, - дело и так… сложное.
Не до конца очнувшийся мозг Матвея, натренированный на триггеры, отреагировал на слово «анализ» и послал телу вполне однозначный сигнал. Матвей вскочил со стула и совершил бессмысленный в такой ситуации рывок к двери. Однако подвели ноги, и он растянулся на полу, как изломанная деревянная кукла. Подоспели Картамышев с Лушиным, которые вовремя сдержали Матвея, тут же начавшего остервенело вырываться. Пиджак и рубашка задрались, оголив заметно выступающие ребра. На нездорово-бледное лицо налипли спутанные светлые волосы. Руки у него снова крупно затряслись.
- Пустите! – истерично закричал Матвей то ли от страха, то ли от боли. Лушин и Картамышев пытались поднять его, ухватив за локти.
- Сволочи! Я не хочу!
Картамышев незамедлительно ударил его кулаком по печени. Дернувшись с резким вскриком, Матвей обмяк и умолк. Слышался лишь зубовный стук. Полицейские схватили его за локти и утащили его из кабинета. С шорохом волочились по полу ноги Матвея в новых ботинках.
☸
Проведя вечер и ночь в одиночной камере, пронизанной темнотой, холодом и сыростью, за эти пятнадцать часов основательно отоспавшись, Матвей, который до сих пор ощущал на себе действие транквилизатора и сохранял некоторую осоловелость, занял прежнее место в кабинете следователя – на неудобной табуретке. Словно повторялся зацикленный день, похожий на худший кошмар Франца Кафки: и вопросы, и окружающие люди были точно такими же, как вчера.
Несмотря на утро, настольная лампа горела, однако направлена была не на стол, а на Матвея, который представлял собой крайне жалкое зрелище. Он старался не поднимать голову, пряча бегающий взгляд и дрожащий подбородок. Когда он смотрел перед собой, то видел не следователя, а лишь слепящий ясный свет, из-за которого доносился уже ставший знакомым утомленный голос. Свет ложился на колени Матвея и отражался в светлой стали наручников.
В крови Матвея обнаружили не только МДМА и каннабиоиды, но и метамфетамин, МДА и неопознанное, как метко выразился Картамышев, «дизайнерское говно». И сегодня наступил неизбежный, тягостный отходняк. В ответ на все вопросы следователя Матвей отрицал вину и старался смотреть в пол. Лушин и Картамышев стояли у него за спиной. Он не видел их лиц, но был этому даже рад.
Дернув уголком рта, следователь Николенко закурил, нахмурился и исподлобья посмотрел на Матвея:
- Для себя так не фасуют, Грязев.
- Я в ноябре передознулся и с тех пор так делаю, - уже в который раз произнес Матвей. В его голосе слышалась свежая простудная хрипотца.
- Но свежатиной при этом не брезгуешь, - с любопытством посмотрел на него следователь.
- Я всегда покупают только кубовые баяны, чтобы не переборщить.
- То есть, шесть граммов мефедрона, четыре грамма амфетамина и девять таблеток экстази ты хранил исключительно для себя?
- Да.
- Расфасованные по пакетам?
- Да.
За завесой крапчатых листьев вздохнул Асфар Юнусович. Сегодня на него падал солнечный свет, и в его непроницаемое, немое лицо все глядели с разной степенью настороженности. Настороженность Матвея правильнее было бы назвать страхом, потому что он знал, кто такой Асфар Юнусович, и его присутствие лишало Матвея окончательной надежды.
- Не жирно для одного нарка? – посмотрел на него следователь. Взгляд его был странным и недобрым, как и всё вокруг.
Не поднимая головы, Матвей пробормотал:
- После свежести другие стимуляторы очень слабо ощущаются. Этого мне только на три раза могло хватить.
Следователь за лампой довольно хмыкнул. Матвей заметил часть его улыбающегося лица, не скрытую за веером света, и его скинули на пол резким ударом по корпусу. Застучали каблуки черных ботинок, Матвей сгруппировался, и на него нескончаемым пунктиром боли обрушились тяжелые пинки. Закусив губу, он сдерживал желание закричать. Он сосредоточился на лампе, он смотрел только на ясный свет и пытался зацепиться за мысль о свете, как за спасательный круг.
- Дальше, - раздался умиротворенный голос следователя. Поняв его намек, бывалый Картамышев снял с пояса резиновую дубинку «Аргумент». Осторожно наступив Матвею на голову, он принудил его прижаться виском к полу и сказал Лушину:
- По башке не попади, как в прошлый раз.
Боль от пинков оказалась лишь прелюдией к боли, порожденной спрессованной резиной. Если сначала Матвей хотя бы различал, от чьего удара он кричит, то уже на второй минуте разум померк, и он перестал концентрироваться на чем бы то ни было, чтобы как можно скорее потерять сознание. Картамышев с его опытом не мог понять, что подозреваемый на грани обморока. Чтобы убедиться, он заглянул ему в лицо и увидел злобный взгляд закатывающихся глаз.
- Хватит пока, - поморщился Картамышев и, отступив, повесил дубинку на пояс. Так же поступил и Лушин, уже робеющий не так сильно, как вчера. Адреналин и чувство власти вселили в него толику уверенности. Матвей съежился, некрасиво всхлипывая, и обхватил голову скованными руками.
- Лушин, принеси табуретку, - резко произнес следователь.
- Повыше или пониже, товарищ майор?
- Пониже, - ответил он, окинув взглядом высокого Матвея, рост которого бросался в глаза, хотя тот лежал на полу, сжавшись, как подстреленный лис.
Лушин выскочил из кабинета и быстро вернулся. В руках у него был низкий табурет, выкрашенный белой эмалью, густые капли которой застыли на его коротких ножках. Он прислонил табурет к стене, на которой оранжевой полосой горела тонкая труба отопления.
- Помоги мне, - позвал его Картамышев, - взгромоздим его туда.
Поставив пошатывающегося Матвея, взгляд которого был стеклянным, как при болезни, на табурет, они освободили одну его руку, однако пустое стальное кольцо сразу же прочно обхватило яркую трубу. Табурет был низким, и Матвею, чтобы избежать режущей боли от впивающейся в запястье тугой кромки, пришлось встать на мыски ботинок.
«Неужели я буду стоять так до вечера?» - промелькнуло у него в голове.
- Даже если я виновен, меня нельзя пытать, конституция запрещает… - едва слышно проговорил Матвей. Но его перебил Картамышев, который залился глумливым смехом:
- А кто сказал, что она написана для тебя? Думал, тебе всё с рук сойдет?
Матвей закрыл глаза, спрятавшись от лампы следователя, зоркого наблюдения Асфара Юнусовича и двух молодых ментов, один из которых пока не оперился. К горлу подкатил ком сдавленного плача, дернулся выступающий кадык.
- Слышал про пресс-хаты, Грязев? – спросил Картамышев, сняв китель, кинул его на подоконник и засучил рукава форменной рубашки. - У нас такая есть. Если будешь упираться, швырнем туда на ночь. Не убьют, естественно, но ты сам начнешь просить, чтобы тебя убили. Не веришь?
- Я фасовал для себя и никому ничего не продавал, - еле слышно проговорил Матвей.
Картамышев легонько пнул табурет, толкнув его совсем немного. Он явно собирался выбить его из-под Матвея, но не сразу. Ему хотелось растянуть процесс. Когда Матвей осознал это, страх превратился в ужас: сердце забилось быстрее, губы задрожали, а в кишках заворочалось, как моток колючей проволоки, нехорошее чувство.
- И чего ты молчишь? – продолжал Картамышев. - Хочешь, чтобы об тебя до утра окурки тушили? Чтобы по очереди притапливали в ведре? Ты же в любом случае всё подпишешь, Грязев, зачем портить себе здоровье?
Дабы подкрепить угрозу, он пнул табурет еще раз, и левый ботинок Матвея оказался на самом его краю. Широко распахнув глаза, Матвей вцепился пальцами в цепочку наручников, надеясь хоть как-то смягчить последствия.
- Отвечай: кому наркоту сбывали, на ком наживались? Стремно не было людей травить, а? – ткнул в него пальцем Картамышев.
- Я фасовал для себя и никому ничего…
- Давай, сволочь, посдавай своих торчков, - вдруг прерывисто начал тот, от которого таких слов никто не ожидал - Лушин, - все равно под нас ляжешь, эскобар мордовский. Это я, конечно, фигурально говорю, мы тут не пидоры.
Послышался сдавленный смешок следователя. Говорил Лушин несколько несуразно, явно подражая Картамышеву и выражениями, и интонацией, но несуразность нивелировалась тем, что он был представителем власти, который очень даже мог воплотить свои угрозы в жизнь.
- Или не фигурально, - мрачно произнес Картамышев, схватив Матвея за лацкан пиджака, - даже если ты побежишь жаловаться в ЕСПЧ, тебе никто не поверит. Ты же банчишь, у тебя дома столько всего нашли, неудивительно, что ты пытаешься нас оговорить.
- Я никогда ничего не продавал.
- Знаешь, как в тюрьме относятся к наркобарыгам вроде тебя? Прохладно относятся. А персонально тебе мы организуем «теплый» прием.
- Ага, такой теплый, что удавишься, - продолжил за ним Лушин, - будешь не только деньги на общак отстегивать, но и отбитые почки каждый день выкашливать. Сам не рад будешь, что живой остался.
- Я фасовал для себя и никому ничего не продавал… - слабым голосом прошептал Матвей. Взгляд его стал совсем уж воспаленным, а на искусанной нижней губе запеклась мелким бисером выступившая кровь.
Окончательно раздраженный Картамышев пнул табурет в третий раз. Левый ботинок Матвея заплясал в воздухе, как у висельников, а мыском другого ботинка он изо всех сил уперся в край табурета. Дыхание сбилось, а тело налилось очередной волной слабости.
- Не надо, пожалуйста! – закричал он, и его глаза набухли крупными слезами. – Хватит!
- Сбывал?
- Сбывал… На гидре брал по четырнадцать тысяч за десять грамм, закладки делал, они сами все забирали…
Говорил Матвей сбивчиво и торопливо, сбиваясь на плач отчаявшегося, выпаливая факты, словно боялся, что его признание могут не дослушать. Однако это была не та версия, которую хотело услышать следствие.
- Горбовский чем занимался? – спросил Картамышев.
- Ничем не занимался, я ему не предлагал торговать, не хотел с ним делиться, мне и так мало денег было…
- Мало ему было, вы посмотрите! - злобно процедил Картамышев, слабо встряхнув Матвея. - Чем занимался Горбовский? Шестерил на тебя?
- Ничем, он же мажор, я не говорил ему, не хотел делиться…
Сидящий за покровом зеленых листьев Асфар Юнусович устало потер виски. Физический садизм приносил жалкие плоды: Грязев уперся рогом и, кажется, вообще перестал осознавать смысл угроз, которые заключались в описании садистских картин и злорадных гомосексуальных намеках – типовом наборе для работника любой силовой структуры, построенной на старой, как мир, иерархии доминирования.
«Дурная, оторванная от реальности баба, - прикрыл глаза Асфар Юнусович, - если этот барыга помрет до суда, прилипнет ее дражайший Славик, а ради него она меня с потрохами сожрет»
- Возможности человеческого тела, конечно, удивительны, - мрачно заявил он, встав и сложив руки за спиной. Картамышев тут же перестал издеваться над Матвеем и повернул голову на его голос, как собака служебной породы.
- …но когда он признает вину, сажать будет уже некого, - заключил Асфар Юнусович.
Под закрывающимися веками Матвея темнел потухший взгляд. Шатко покачиваясь на табурете, он из последних сил держал равновесие, и ничто, кроме сдавленного запястья, которое он уже перестал чувствовать, кожа на котором натерлась, покраснела и покрылась кровавыми ссадинами, его не волновало.
- Снимите его и приведите Горбовского, - приказал Асфар Юнусович, - пусть Матвей выслушает показания своего друга.
Полковник Жаров раскусил Матвея: он был из тех, кто мог сломаться не от физического воздействия, но от предательства. Тело у него было куда выносливее психики, поэтому пришла пора надавить на ее хрупкий панцирь, чтобы тот хрустнул под зубами, как хитин жареной креветки.
Снова сковав Матвею руки, Картамышев усадил его на табуретку, а Лушин дал ему слабый, но унизительный подзатыльник.
- У-у, мордва упертая, - добавил он, не заметив на лице Матвея никакой реакции.
Когда Картамышев ввел Горбовского, одежда которого была измята, а спина сгорблена, Матвей вскинулся, но быстро взял себя в руки и сел обратно. Комкая дрожащими пальцами пиджачное сукно, он обратил внимание на неровные шаги Горбовского и его мимику, застывшую в маске печали. Если Матвей еще не растерял упрямства, то Горбовский был крайне подавлен.
Остановившись у стола следователя, Горбовский кинул на Матвея быстрый взгляд и с облегчением снова уставился в пол. Глаза у него были красные и опухшие, а подбородок мелко подрагивал.
- Слушаю вас, гражданин Горбовский, - облегченно улыбнулся следователь Николенко, - начинайте.
- Он угрожал убить меня, - медленно и неохотно произнес Горбовский, не меняя позы, - он заставил меня заниматься сбытом, сказав, что если я откажусь, он усыпит меня, вывезет в лес и зарежет.
- Это были настоящие угрозы?
Следователь ожидал, что уже после этих слов Грязев сломается, выйдет из себя и начнет кричать, что на самом деле всё было совсем не так, что сотрудники органов не должны заниматься оговорами, что он будет жаловаться во все инстанции, которые способны принимать жалобы. Однако Матвей лишь устремил тусклый взгляд сквозь Горбовского и, закусив губу, сглотнул. С места он даже не сдвинулся. Заметив похоронное спокойствие бывшего товарища, Горбовский остолбенел и прошептал:
- Он говорил очень серьезно. Я знаю его почти год, и он вполне мог это сделать. У Матвея… нет моральных тормозов.
- Он всегда таким был? – спросил следователь.
- Всегда. Но когда он начал колоться свежестью, то стал совсем дурной. Постоянно пытался занять денег, но я отказывал ему. Он пытался забирать деньги силой, а потом стал угрожать, что убьет меня, если я не начну ему помогать. Говорил, что если я разорву общение, то он ударит с неожиданной стороны и все равно скормит мне сильное снотворное.
- У него был доступ к таким препаратам?
- Естественно, был. Он аптечный наркоман и знает, где можно достать рецептуру, - Горбовский с потерянным видом произнес последнюю фразу заученной роли. От осознания того, что всё наконец закончилось, камень с души не упал. Стало только хуже.
Матвей по-прежнему сидел без движения и смотрел сквозь Горбовского. Его краткая, скомканная, но предельно ясная речь стала моральным ударом под дых, который превзошел даже недавние пытки и стал их филигранным завершением. Асфар Юнусович хорошо разбирался в людях, его не без причины пристроили на такую должность. Если несдержанный Картамышев и вошедший во вкус Лушин могли его покалечить, то Асфар Юнусович даже пальцем его не тронул, а попал при этом в самое больное место.
- Вы все переиначили… - сказал побледневший Матвей. Привстав, следователь наклонился к нему через стол и с очевидной неприязнью спросил:
- А ты хотел, чтобы мы обвинили в сбыте сына благополучной семьи, который лечится от наркозависимости? Разве он виноват в том, что по глупости связался с понаехавшим торчком без высшего образования, у которого мать ждуля, а отец зэк?
Насмешка словно разбудила Матвея от крепкого анабиоза: взгляд его вдруг сделался слишком уж пристальным и даже острым. Горбовский, завидев знакомое выражение лица, которое на этот раз было куда страшнее, чем в прошлый раз, попятился, но отойти не успел. Матвей набросился на Горбовского, повалил его на пол и сжал горло длинными костлявыми пальцами.
Картамышев и Лушин пытались оттащить Матвея, бездумно колотя его и по корпусу, и по голове, а Матвей, больше не ощущая боли, душил хрипящего Горбовского и колошматил его затылком об пол.
- Сука!.. – громко кричал он, сбиваясь на рыдания и не обращая внимания на предсмертные трепыхания чужого тела. – Племянничек любимый!.. Ебаный мажор!..
Остановил его только удар резиновой дубинкой по затылку, который нанес догадливый Картамышев. Рассуждал он здраво: если человека не останавливает боль, его нужно вырубить. И план сработал. Матвей обмяк, потерял сознание и повалился на откашливающегося, глотающего воздух Горбовского.
Лушин помог ему подняться и вывел из кабинета. Бессознательное тело Матвея осталось лежать на полу. Выражение лица разгладилось и теперь выражало безмятежность.
Асфар Юнусович, сохранивший спокойствие, за эту минуту не произнес ни слова. Он наблюдал за попыткой убийства с теплой улыбкой, которая в такой ситуации явно была неуместной. Издав тихий смешок, Асфар Юнусович направился к выходу и напоследок приказал:
- Картамышев, унеси Грязева в комнату для допросов. Дай ему транквилизатор и будь рядом, чтобы он ничего не натворил.
Оставив за дверью озадаченных Николенко и Картамышева, Асфар Юнусович прошел к окну, которым оканчивался узкий коридор. Серая шерсть его мундира, отражающаяся в стекле, сливалась с полумраком двора-колодца. Достав телефон, Асфар Юнусович набрал номер Полтининой.
- Звоню, чтобы обрадовать тебя, Лена, - заговорил он с той же теплой улыбкой, когда та взяла трубку, - есть возможность закрыть дело, не доводя до суда. Еще один транш, и формально этого дела никогда не существовало. Оно исчезнет сегодня же.
Несмотря на утро, настольная лампа горела, однако направлена была не на стол, а на Матвея, который представлял собой крайне жалкое зрелище. Он старался не поднимать голову, пряча бегающий взгляд и дрожащий подбородок. Когда он смотрел перед собой, то видел не следователя, а лишь слепящий ясный свет, из-за которого доносился уже ставший знакомым утомленный голос. Свет ложился на колени Матвея и отражался в светлой стали наручников.
В крови Матвея обнаружили не только МДМА и каннабиоиды, но и метамфетамин, МДА и неопознанное, как метко выразился Картамышев, «дизайнерское говно». И сегодня наступил неизбежный, тягостный отходняк. В ответ на все вопросы следователя Матвей отрицал вину и старался смотреть в пол. Лушин и Картамышев стояли у него за спиной. Он не видел их лиц, но был этому даже рад.
Дернув уголком рта, следователь Николенко закурил, нахмурился и исподлобья посмотрел на Матвея:
- Для себя так не фасуют, Грязев.
- Я в ноябре передознулся и с тех пор так делаю, - уже в который раз произнес Матвей. В его голосе слышалась свежая простудная хрипотца.
- Но свежатиной при этом не брезгуешь, - с любопытством посмотрел на него следователь.
- Я всегда покупают только кубовые баяны, чтобы не переборщить.
- То есть, шесть граммов мефедрона, четыре грамма амфетамина и девять таблеток экстази ты хранил исключительно для себя?
- Да.
- Расфасованные по пакетам?
- Да.
За завесой крапчатых листьев вздохнул Асфар Юнусович. Сегодня на него падал солнечный свет, и в его непроницаемое, немое лицо все глядели с разной степенью настороженности. Настороженность Матвея правильнее было бы назвать страхом, потому что он знал, кто такой Асфар Юнусович, и его присутствие лишало Матвея окончательной надежды.
- Не жирно для одного нарка? – посмотрел на него следователь. Взгляд его был странным и недобрым, как и всё вокруг.
Не поднимая головы, Матвей пробормотал:
- После свежести другие стимуляторы очень слабо ощущаются. Этого мне только на три раза могло хватить.
Следователь за лампой довольно хмыкнул. Матвей заметил часть его улыбающегося лица, не скрытую за веером света, и его скинули на пол резким ударом по корпусу. Застучали каблуки черных ботинок, Матвей сгруппировался, и на него нескончаемым пунктиром боли обрушились тяжелые пинки. Закусив губу, он сдерживал желание закричать. Он сосредоточился на лампе, он смотрел только на ясный свет и пытался зацепиться за мысль о свете, как за спасательный круг.
- Дальше, - раздался умиротворенный голос следователя. Поняв его намек, бывалый Картамышев снял с пояса резиновую дубинку «Аргумент». Осторожно наступив Матвею на голову, он принудил его прижаться виском к полу и сказал Лушину:
- По башке не попади, как в прошлый раз.
Боль от пинков оказалась лишь прелюдией к боли, порожденной спрессованной резиной. Если сначала Матвей хотя бы различал, от чьего удара он кричит, то уже на второй минуте разум померк, и он перестал концентрироваться на чем бы то ни было, чтобы как можно скорее потерять сознание. Картамышев с его опытом не мог понять, что подозреваемый на грани обморока. Чтобы убедиться, он заглянул ему в лицо и увидел злобный взгляд закатывающихся глаз.
- Хватит пока, - поморщился Картамышев и, отступив, повесил дубинку на пояс. Так же поступил и Лушин, уже робеющий не так сильно, как вчера. Адреналин и чувство власти вселили в него толику уверенности. Матвей съежился, некрасиво всхлипывая, и обхватил голову скованными руками.
- Лушин, принеси табуретку, - резко произнес следователь.
- Повыше или пониже, товарищ майор?
- Пониже, - ответил он, окинув взглядом высокого Матвея, рост которого бросался в глаза, хотя тот лежал на полу, сжавшись, как подстреленный лис.
Лушин выскочил из кабинета и быстро вернулся. В руках у него был низкий табурет, выкрашенный белой эмалью, густые капли которой застыли на его коротких ножках. Он прислонил табурет к стене, на которой оранжевой полосой горела тонкая труба отопления.
- Помоги мне, - позвал его Картамышев, - взгромоздим его туда.
Поставив пошатывающегося Матвея, взгляд которого был стеклянным, как при болезни, на табурет, они освободили одну его руку, однако пустое стальное кольцо сразу же прочно обхватило яркую трубу. Табурет был низким, и Матвею, чтобы избежать режущей боли от впивающейся в запястье тугой кромки, пришлось встать на мыски ботинок.
«Неужели я буду стоять так до вечера?» - промелькнуло у него в голове.
- Даже если я виновен, меня нельзя пытать, конституция запрещает… - едва слышно проговорил Матвей. Но его перебил Картамышев, который залился глумливым смехом:
- А кто сказал, что она написана для тебя? Думал, тебе всё с рук сойдет?
Матвей закрыл глаза, спрятавшись от лампы следователя, зоркого наблюдения Асфара Юнусовича и двух молодых ментов, один из которых пока не оперился. К горлу подкатил ком сдавленного плача, дернулся выступающий кадык.
- Слышал про пресс-хаты, Грязев? – спросил Картамышев, сняв китель, кинул его на подоконник и засучил рукава форменной рубашки. - У нас такая есть. Если будешь упираться, швырнем туда на ночь. Не убьют, естественно, но ты сам начнешь просить, чтобы тебя убили. Не веришь?
- Я фасовал для себя и никому ничего не продавал, - еле слышно проговорил Матвей.
Картамышев легонько пнул табурет, толкнув его совсем немного. Он явно собирался выбить его из-под Матвея, но не сразу. Ему хотелось растянуть процесс. Когда Матвей осознал это, страх превратился в ужас: сердце забилось быстрее, губы задрожали, а в кишках заворочалось, как моток колючей проволоки, нехорошее чувство.
- И чего ты молчишь? – продолжал Картамышев. - Хочешь, чтобы об тебя до утра окурки тушили? Чтобы по очереди притапливали в ведре? Ты же в любом случае всё подпишешь, Грязев, зачем портить себе здоровье?
Дабы подкрепить угрозу, он пнул табурет еще раз, и левый ботинок Матвея оказался на самом его краю. Широко распахнув глаза, Матвей вцепился пальцами в цепочку наручников, надеясь хоть как-то смягчить последствия.
- Отвечай: кому наркоту сбывали, на ком наживались? Стремно не было людей травить, а? – ткнул в него пальцем Картамышев.
- Я фасовал для себя и никому ничего…
- Давай, сволочь, посдавай своих торчков, - вдруг прерывисто начал тот, от которого таких слов никто не ожидал - Лушин, - все равно под нас ляжешь, эскобар мордовский. Это я, конечно, фигурально говорю, мы тут не пидоры.
Послышался сдавленный смешок следователя. Говорил Лушин несколько несуразно, явно подражая Картамышеву и выражениями, и интонацией, но несуразность нивелировалась тем, что он был представителем власти, который очень даже мог воплотить свои угрозы в жизнь.
- Или не фигурально, - мрачно произнес Картамышев, схватив Матвея за лацкан пиджака, - даже если ты побежишь жаловаться в ЕСПЧ, тебе никто не поверит. Ты же банчишь, у тебя дома столько всего нашли, неудивительно, что ты пытаешься нас оговорить.
- Я никогда ничего не продавал.
- Знаешь, как в тюрьме относятся к наркобарыгам вроде тебя? Прохладно относятся. А персонально тебе мы организуем «теплый» прием.
- Ага, такой теплый, что удавишься, - продолжил за ним Лушин, - будешь не только деньги на общак отстегивать, но и отбитые почки каждый день выкашливать. Сам не рад будешь, что живой остался.
- Я фасовал для себя и никому ничего не продавал… - слабым голосом прошептал Матвей. Взгляд его стал совсем уж воспаленным, а на искусанной нижней губе запеклась мелким бисером выступившая кровь.
Окончательно раздраженный Картамышев пнул табурет в третий раз. Левый ботинок Матвея заплясал в воздухе, как у висельников, а мыском другого ботинка он изо всех сил уперся в край табурета. Дыхание сбилось, а тело налилось очередной волной слабости.
- Не надо, пожалуйста! – закричал он, и его глаза набухли крупными слезами. – Хватит!
- Сбывал?
- Сбывал… На гидре брал по четырнадцать тысяч за десять грамм, закладки делал, они сами все забирали…
Говорил Матвей сбивчиво и торопливо, сбиваясь на плач отчаявшегося, выпаливая факты, словно боялся, что его признание могут не дослушать. Однако это была не та версия, которую хотело услышать следствие.
- Горбовский чем занимался? – спросил Картамышев.
- Ничем не занимался, я ему не предлагал торговать, не хотел с ним делиться, мне и так мало денег было…
- Мало ему было, вы посмотрите! - злобно процедил Картамышев, слабо встряхнув Матвея. - Чем занимался Горбовский? Шестерил на тебя?
- Ничем, он же мажор, я не говорил ему, не хотел делиться…
Сидящий за покровом зеленых листьев Асфар Юнусович устало потер виски. Физический садизм приносил жалкие плоды: Грязев уперся рогом и, кажется, вообще перестал осознавать смысл угроз, которые заключались в описании садистских картин и злорадных гомосексуальных намеках – типовом наборе для работника любой силовой структуры, построенной на старой, как мир, иерархии доминирования.
«Дурная, оторванная от реальности баба, - прикрыл глаза Асфар Юнусович, - если этот барыга помрет до суда, прилипнет ее дражайший Славик, а ради него она меня с потрохами сожрет»
- Возможности человеческого тела, конечно, удивительны, - мрачно заявил он, встав и сложив руки за спиной. Картамышев тут же перестал издеваться над Матвеем и повернул голову на его голос, как собака служебной породы.
- …но когда он признает вину, сажать будет уже некого, - заключил Асфар Юнусович.
Под закрывающимися веками Матвея темнел потухший взгляд. Шатко покачиваясь на табурете, он из последних сил держал равновесие, и ничто, кроме сдавленного запястья, которое он уже перестал чувствовать, кожа на котором натерлась, покраснела и покрылась кровавыми ссадинами, его не волновало.
- Снимите его и приведите Горбовского, - приказал Асфар Юнусович, - пусть Матвей выслушает показания своего друга.
Полковник Жаров раскусил Матвея: он был из тех, кто мог сломаться не от физического воздействия, но от предательства. Тело у него было куда выносливее психики, поэтому пришла пора надавить на ее хрупкий панцирь, чтобы тот хрустнул под зубами, как хитин жареной креветки.
Снова сковав Матвею руки, Картамышев усадил его на табуретку, а Лушин дал ему слабый, но унизительный подзатыльник.
- У-у, мордва упертая, - добавил он, не заметив на лице Матвея никакой реакции.
Когда Картамышев ввел Горбовского, одежда которого была измята, а спина сгорблена, Матвей вскинулся, но быстро взял себя в руки и сел обратно. Комкая дрожащими пальцами пиджачное сукно, он обратил внимание на неровные шаги Горбовского и его мимику, застывшую в маске печали. Если Матвей еще не растерял упрямства, то Горбовский был крайне подавлен.
Остановившись у стола следователя, Горбовский кинул на Матвея быстрый взгляд и с облегчением снова уставился в пол. Глаза у него были красные и опухшие, а подбородок мелко подрагивал.
- Слушаю вас, гражданин Горбовский, - облегченно улыбнулся следователь Николенко, - начинайте.
- Он угрожал убить меня, - медленно и неохотно произнес Горбовский, не меняя позы, - он заставил меня заниматься сбытом, сказав, что если я откажусь, он усыпит меня, вывезет в лес и зарежет.
- Это были настоящие угрозы?
Следователь ожидал, что уже после этих слов Грязев сломается, выйдет из себя и начнет кричать, что на самом деле всё было совсем не так, что сотрудники органов не должны заниматься оговорами, что он будет жаловаться во все инстанции, которые способны принимать жалобы. Однако Матвей лишь устремил тусклый взгляд сквозь Горбовского и, закусив губу, сглотнул. С места он даже не сдвинулся. Заметив похоронное спокойствие бывшего товарища, Горбовский остолбенел и прошептал:
- Он говорил очень серьезно. Я знаю его почти год, и он вполне мог это сделать. У Матвея… нет моральных тормозов.
- Он всегда таким был? – спросил следователь.
- Всегда. Но когда он начал колоться свежестью, то стал совсем дурной. Постоянно пытался занять денег, но я отказывал ему. Он пытался забирать деньги силой, а потом стал угрожать, что убьет меня, если я не начну ему помогать. Говорил, что если я разорву общение, то он ударит с неожиданной стороны и все равно скормит мне сильное снотворное.
- У него был доступ к таким препаратам?
- Естественно, был. Он аптечный наркоман и знает, где можно достать рецептуру, - Горбовский с потерянным видом произнес последнюю фразу заученной роли. От осознания того, что всё наконец закончилось, камень с души не упал. Стало только хуже.
Матвей по-прежнему сидел без движения и смотрел сквозь Горбовского. Его краткая, скомканная, но предельно ясная речь стала моральным ударом под дых, который превзошел даже недавние пытки и стал их филигранным завершением. Асфар Юнусович хорошо разбирался в людях, его не без причины пристроили на такую должность. Если несдержанный Картамышев и вошедший во вкус Лушин могли его покалечить, то Асфар Юнусович даже пальцем его не тронул, а попал при этом в самое больное место.
- Вы все переиначили… - сказал побледневший Матвей. Привстав, следователь наклонился к нему через стол и с очевидной неприязнью спросил:
- А ты хотел, чтобы мы обвинили в сбыте сына благополучной семьи, который лечится от наркозависимости? Разве он виноват в том, что по глупости связался с понаехавшим торчком без высшего образования, у которого мать ждуля, а отец зэк?
Насмешка словно разбудила Матвея от крепкого анабиоза: взгляд его вдруг сделался слишком уж пристальным и даже острым. Горбовский, завидев знакомое выражение лица, которое на этот раз было куда страшнее, чем в прошлый раз, попятился, но отойти не успел. Матвей набросился на Горбовского, повалил его на пол и сжал горло длинными костлявыми пальцами.
Картамышев и Лушин пытались оттащить Матвея, бездумно колотя его и по корпусу, и по голове, а Матвей, больше не ощущая боли, душил хрипящего Горбовского и колошматил его затылком об пол.
- Сука!.. – громко кричал он, сбиваясь на рыдания и не обращая внимания на предсмертные трепыхания чужого тела. – Племянничек любимый!.. Ебаный мажор!..
Остановил его только удар резиновой дубинкой по затылку, который нанес догадливый Картамышев. Рассуждал он здраво: если человека не останавливает боль, его нужно вырубить. И план сработал. Матвей обмяк, потерял сознание и повалился на откашливающегося, глотающего воздух Горбовского.
Лушин помог ему подняться и вывел из кабинета. Бессознательное тело Матвея осталось лежать на полу. Выражение лица разгладилось и теперь выражало безмятежность.
Асфар Юнусович, сохранивший спокойствие, за эту минуту не произнес ни слова. Он наблюдал за попыткой убийства с теплой улыбкой, которая в такой ситуации явно была неуместной. Издав тихий смешок, Асфар Юнусович направился к выходу и напоследок приказал:
- Картамышев, унеси Грязева в комнату для допросов. Дай ему транквилизатор и будь рядом, чтобы он ничего не натворил.
Оставив за дверью озадаченных Николенко и Картамышева, Асфар Юнусович прошел к окну, которым оканчивался узкий коридор. Серая шерсть его мундира, отражающаяся в стекле, сливалась с полумраком двора-колодца. Достав телефон, Асфар Юнусович набрал номер Полтининой.
- Звоню, чтобы обрадовать тебя, Лена, - заговорил он с той же теплой улыбкой, когда та взяла трубку, - есть возможность закрыть дело, не доводя до суда. Еще один транш, и формально этого дела никогда не существовало. Оно исчезнет сегодня же.
☸
Комната для допросов габаритами напоминала узкий гроб. В одной из серо-голубых стен виднелась железная дверь с глазком, окон не было вообще, а из мебели были только стол и два стула. Под потолком в два ряда висели люминесцентные лампы, окруженные ореолом бледного света.
Вновь охваченный эмоциональным отупением транквилизатора, Матвей сидел за столом, уронив тяжелую голову на скованные руки. К затекшей левой руке неспешно возвращалась чувствительность, а содранное запястье опухло, покрывшись багровой коркой и желтой шелухой сукровицы. У двери со скучающим видом сторожил Картамышев, который то и дело косился на Матвея, однако тот вел себя спокойно и бузить не собирался. На всякий случай Картамышев держал руку возле резиновой дубинки.
Когда скрипнули железные петли открывающейся двери, вошел Асфар Юнусович и взмахом руки попросил Картамышева удалиться. Тот не замедлил это сделать, словно уже давно ожидал такого приказа. Когда дверь закрылась, Асфар Юнусович сел напротив Матвея и положил на стол плотный пакет из фикс-прайса. Под белым пластиком в зелено-синий горох просматривались очертания ноутбука и желтое пятно конверта.
Даже седативный эффект не сдержал страх Матвея, который тот испытал при виде Асфара Юнусовича. Теперь он не просто наблюдал со стороны, а хотел поговорить. Если бы Матвей стоял, у него бы подкосились ноги. Боясь разозлить его, Матвей подобрался и выпрямил спину, но все равно не сумел сдержать скорбно искривившийся рот.
Асфар Юнусович всмотрелся в Матвея. Его искусственный зрачок был ледянисто-черным, в нем мертвым блеском отражался свет. Серый китель цветом напоминал прах, оставшийся от человека после кремации.
- Давно пора было, давно пора… - задумчиво, но весьма непринужденно заговорил он. - Какой толк от денег, если на течение жизни влияют еще и внешние факторы? Ее три миллиона не воскресили бы Вячеслава. Конечно, деньги многое решают, но проигрывают рукам озлобившегося наркомана.
Продолжая наблюдать за Матвеем с некоторым лукавством, Асфар Юнусович снял китель и повесил его на спинку стула. Заметив неестественную белизну его левой кисти, Матвей догадался, что она искусственная, и поежился – сам не понимая, что именно ему в этой кисти так не понравилось.
- Прошло двести лет, русские мальчики теперь орудуют совсем не так, - пустился Асфар Юнусович в более отвлеченные рассуждения, - знает ли обычный гражданин номер статьи о краже? Номер статьи об убийстве? Нет, зато все знают, что 228 это наркотики: употребление, хранение, сбыт… Больше половины преступников по всей России осуждены и сидят именно по этой статье. Если бы ты интересовался статистикой, то сразу бы вспомнил, что еще в двадцатом веке расклад был на стороне воровства. Мир меняется.
- Пожалуйста, скажите, к чему вы клоните? – дрожащим голосом спросил Матвей. Оговор Горбовского выбил из него последние силы, и теперь Матвей был как шелковый. Притворившись, что он не услышал вопроса, Асфар Юнусович продолжил свой монолог:
- На улице, где я рос, дети выражались словами, которые раньше относились исключительно к тюремной сфере, и взрослые не находили это странным. Потому что так повелось, что одни сидят, а другие охраняют. Но речь даже не о детях. Образованные, вроде бы интеллигентные люди, а все равно знают, как продолжить «запахло весной», «владимирский централ»…
- Вы не просто так начали рассуждать, - повторил попытку Матвей, но сбился на всхлип, - про русских мальчиков…
- Да и кого считать интеллигентом? Того, у кого в семье никто не сидел? Так ни одного интеллигента не найдешь. А образцы интеллигенции, как правило, сидели, хоть и по политическим статьям. Оппозиционный интеллигент без срока это, можно сказать, моветон. Даже Достоевский сидел. Четыре года. И теперь все даже дышать бояться на память о политзэке, который был зависимым от азартных игр и верил в Христа. Теперь это, видишь ли, лицо русского мира и пример для подражания.
- Зачем вы меня мучаете? – умоляюще посмотрел на него Матвей. – Прошу вас, скажите прямо, я больше не могу…
- А все очень просто, - без обиняков перешел к сути Асфар Юнусович. Как будто он только и ждал этого вопроса, как будто он доводил Матвея до нужного градуса каления, чтобы перековать под свои нужды.
- Понимаю, у тебя много предположений, но высказываться ты боишься. Неудивительно. В этом и заключается наша работа - чтобы люди боялись высказываться. У тебя только два варианта. Первый, хороший, заключается в том, что ты работаешь, как раньше, но под нашим присмотром. Присмотр наш стоит пятьдесят тысяч в месяц. При нынешнем уровне твоих доходов. У тебя был ненадежный товарищ, он тебя и выдал. С нами все будет иначе. Если не хочешь продавать, можешь получить законный за такие объемы срок – положенные тебе тринадцать лет. Думай, Грязев, думай.
Совершенно потерянный от открывшихся перспектив, Матвей замер от страха. Осознание было мгновенное и совершенно ясное: вход в эту организацию стоил рубль, а выход – два. В лучшем случае два. Согласие автоматически означало смирение с ролью мальчика на побегушках, пса, которого держат на коротком поводке. Дав сегодня согласие, можно было влипнуть всерьез и надолго.
Что сказал бы его отец, время от времени выходящий на волю и возвращающийся обратно в тюрьму? Решительно отказался бы и сотрудничать не стал. Что сказал бы его прадед, без вести пропавший в сталинских лагерях? Судя по тому, как закончилась его жизнь, он тоже ответил бы твердым и уверенным «нет». Что сказал бы его дальний предок из опричнины? Ничего – он и сам был частью силовой структуры, носил черный кафтан и наверняка не без удовольствия резал неугодных Ивану Грозному бояр. Ему даже не стали бы задавать подобный вопрос.
«Я хочу, чтобы все закончилось», - подумал отчаявшийся Матвей, и его пронзила внезапная, тяжелая, но очень простая догадка.
- Я согласен, - сбивчиво произнес он, стараясь не глядеть на Асфара Юнусовича.
- Вот и прекрасно, - улыбнулся тот, но доброго в его улыбке было мало. Матвея не покидало ощущение, что Асфар Юнусович вот-вот обратится в криволапого мизгиря, покрытого песочно-коричневой шерстью, опутает его всеми лапами, а потом прокусит кожный слой хелицерами и досуха выпьет его отравленный труп. Но Асфар Юнусович всего лишь снял с него наручники, и Матвей потер затекшие запястья.
- Чем больше доход, тем выше такса. Естественно, ради твоего же блага лучше платить вовремя. Хочешь узнать, чем чреваты задержки?
- Вы меня убьете, - отрешенно пробормотал Матвей. Асфар Юнусович довольно хохотнул:
- К чему такой пессимизм? Не сразу, Грязев, не сразу. Если исчерпаешь кредит доверия – убьем, конечно.
- Задержек не будет.
- В Наполеоны метишь… - задумчиво произнес он, начав прохаживаться по узкой комнате. – Очень легко заявлять такое на берегу. Кто знает, вдруг ты перестанешь так считать, когда займешься по-настоящему серьезным делом? Вдруг тебя начнет мучить совесть?
Оставив его вопрос без ответа, Матвей взял пакет со своими вещами и крепко прижал к груди, словно опасался, что его могут снова отнять.
- Впрочем, время рассудит, ошибся я насчет тебя или нет. Я даже готов закрыть глаза на то, что ты колешься. Такие, знаешь ли, долго не работают, - похлопал его по плечу Асфар Юнусович, проходя мимо, - все в твоих руках, Матвей Германович.
От его прикосновения Матвей чуть не дернулся, но на этот раз ему все-таки удалось скрыть испуг. Вдруг повернувшись на месте, Асфар Юнусович остановился, подозрительно сверкнул живым глазом и поинтересовался:
- Кстати, что за история с ограблением, которого не было? Расскажи подробнее.
Не до конца осознав смысл вопроса, Матвей рассказал про Ладу, про Марата, про попытку отравления и драку, про инцидент на кладбище… Асфар Юнусович слушал его и с каждой минутой мрачнел.
- Иди домой, отдохни. Ты немного не в себе. Послезавтра за тобой заедут и введут в курс дела, - сказал он и добавил, - и не забывай, что попытка побега лишь усугубит твое положение. За границу тебя все равно пока не выпустят, а в пределах России мы тебя быстро найдем.
- Я всё понимаю, - заверил его Матвей, - я не собираюсь сбегать.
За сутки, которые Матвей провел в управлении ФСКН, погода стала только хуже. Над Загородным проспектом висели тяжелыми пластами дегтярно-черные тучи, глухо завывал над крышами ветер, гоняя из стороны в сторону пропахший морской сыростью воздух. Матвей брел к метро мимо домов старого фонда с фронтонами и эркерами, построенных в девятнадцатом веке, мимо розовых и зеленых граффити, которые украшали двухвековые стены. С фасадов домов и асфальта его зазывали объявления со славянскими и азиатскими женскими именами, а одно даже обещало пятнадцать тысяч рублей за место временного директора. Требовался русский без опыта, а Матвей именно таким и был.
Возле Достоевской, в паутине черных проводов подрагивал под вихрями ветра сдувшийся воздушный шар, ставший из белого сероватым. Миновав ларек, где продавались магниты, кружки и футболки с Громовым, Матвей добрался до эскалатора, и тот повез его вниз, в жерло метро, которое своими полукруглыми сводами напоминало трахею. Чем ближе была платформа, тем заметнее становился подземный ветер, приносящий с собой душноватый, влажный запах бетонной пыли.
Возвращения Матвея никто не ждал. Когда он зашел в коридор, никто даже не вышел на звук шагов, потому что не услышал их – слишком уж шумно было на кухне. Матвей учуял запах спиртного и множества выкуренных сигарет, доносящийся с кухни, прислушался и понял, что Соня, Женя и Копейкин заняты бурным обсуждением вчерашнего дня. Прокравшись мимо своей комнаты, казенная бумажка на двери которой уже была порвана, Матвей стал слышать их лучше.
- …а он в Омск уехал, - жаловалась Соня, - спрашиваю его: «Саша, ты что там потерял?». И правда, на кой ему сдался Омск? Там даже метро нет. Невезение какое-то: один уехал, второго уже через месяц приняли. Я до сих пор так и не нашла…
Договорить Соня не успела, потому что осеклась, заметив Матвея, который вышел из сумрака коридора в дверной проем кухни, и замерла с раскинутыми в негодующей жестикуляции руками. Слева от нее сидел недвижимый Женя, подавшийся в ее сторону корпусом, а справа согнулся вопросительным знаком Копейкин. Он держал в руке наполовину полную рюмку, которую не успел донести до рта, а на столе перед ним стояла открытая бутылка. Все смотрели на Матвея с таким удивлением, словно ожидали его возвращения только через несколько лет.
- Тебя отпустили? – вскинула брови Соня. – Что произошло?
Матвей был не в настроении отвечать на вопросы. Он подошел к столу и положил на него пакет, из которого выскользнул, выглянув наружу желтым уголком, конверт с вещдоками. Взяв бутылку, Матей сделал из горла несколько больших глотков, от которых заходил ходуном кадык. Поморщившись, он поставил бутылку обратно.
- Мусора тебя, конечно, потрепали, - озадаченно почесал в затылке Копейкин. Арест его смущал, однако тот факт, что Матвей все же вернулся, радовал, и радость была сильнее непонимания. А вот Женя, его тезка, отреагировал не так радушно. Смерив Матвея взглядом, он с заметной брезгливостью спросил:
- Ты че, серьезно барыга?
- Да. Не ожидал, что все закончится так, - ответил Матвей с мрачной уверенностью. В коридоре раздался шорох, и Женя, втянув голову в плечи, на всякий случай отодвинулся вместе со стулом в угол.
Обернувшись, Матвей увидел стоящего на пороге кухни Горбовского. На плече у него висела туго набитая спортивная сумка, с которой он месяц назад сюда переехал. Кажется, он тоже не ожидал, что Матвей вернется так быстро.
- Ты дома? В чем дело? Как тебя отпустили? – часто заморгал Горбовский, одновременно желая и обнять Матвея, и убежать от него подальше.
- Столкнулся с дилеммой клоунов и пидарасов, - усмехнулся Матвей.
- Послушай, я не думал… Не думал, что они окажутся такими садистами, я не знал… - начал мямлить Горбовский, но Матвей грубо перебил его:
- Не в буквальном смысле, тупица.
Наконец увидев лежащий на столе пакет, в частности, конверт с доказательствами, который ему показывал следователь, Горбовский сопоставил все детали и кое-что понял.
- Под мусорами ходить неэтично! – воскликнул он – Евгений Львович, он же…
– А вкидывать меня было этично? – холодно спросил Матвей.
- По первой судимости за 228 почти всегда дают условный срок, ты сам мне говорил.
– И поэтому ты выставил крайним меня? Мараться не хотел?
Горбовский потупился и переступил с ноги на ногу.
- Они обещали, что если я расскажу про тебя, то ты получишь условку.
- Дебил, - злобно засмеялся Матвей, - неприспособленный к жизни дебил. Это ты учился на юрфаке, а не я, это ты должен знать, что предварительный сговор только увеличивает срок. Ты пронюхал свои два курса, Горбовский.
Соня тихо щелкнула зажигалкой, и к потолку кухни потянулись извилистые струйки дыма. Заинтересованно упершись подбородком в ладонь, а локтем в стол, Соня затянулась и выдохнула дым в сторону отсевшего Жени.
- Что-то я не помню, чтобы мне предлагали условку. Мне предлагали тринадцать лет. Они же обещали, Слава. Или они тебя наебали? Кто же мог подумать, что менты наебут? Никогда такого не было, и вот опять.
Горбовский отступил назад, его фигура частично потерялась в тени.
- И что за неожиданная смена показаний? Тетка твоя вмешалась? Хорошо быть мажором, правда?
- Прекрати! – выкрикнул Горбовский. – Не моя вина, что ты родился в медвежьем углу!
Намереваясь закрыться в комнате и не желая больше с ним разговаривать, Матвей взял пакет со стола, однако просто так Горбовский его отпускать не хотел.
- Ты ведь барыжить больше не будешь? – обеспокоенно спросил он.
- С чего ты взял? В конце концов, мне это дается лучше, чем тебе.
- И все-таки я не понимаю, зачем тебе так серьезно в это ввязываться, - смутился Горбовский. Матвей впервые за год их дружбы говорил с ним таким холодным, ненавидящим тоном, и у него – это следовало признать – были на то серьезные основания.
- Ты или издеваешься, или тупой. Судя по тому, что погорел я из-за твоей болтовни, ты тупой.
Горбовский поправил ремень сумки, сползший с плеча, и напоследок сказал Матвею:
- Тетя говорила, что после монастыря положит меня в бельгийский рехаб, но я…
- Мне неинтересно, - резко оборвал его Матвей.
Умолкнув, поникший Горбовский исчез в тени коридора, хлопнул дверью квартиры, а потом стих и дробный стук его шагов, бьющих по деревянным ступеням. Это был последний день, когда Матвей видел Славу Горбовского.
Вскоре после того, как Матвей закрылся в комнате, за стеной заиграло радио Сони, настроенное на ее любимую ретро-волну. Примерно с час он лежал на диване, собираясь с мыслями, но не хватало финального толчка. Взяв с книжной полки «Тибетскую книгу мертвых», он открыл ее на форзаце и шепотом прочитал пожелание Юши, которое наконец стало для него кристально ясным:
- Эмпирически познай извечную тайну смерти…
Если прежде фраза была туманной и бессмысленной, то теперь она обрела единственно верную и неумолимую суть.
Матвей солгал Асфару Юнусовичу. Согласившись сотрудничать, он сразу же принял внутреннее решение сбежать. Асфар Юнусович мог дотянуться до него, скройся он в любом субъекте Российской Федерации, он запросто мог не выпустить Матвея за границу, однако руки у него были не такие уж и длинные. Существовали места, до которых он добраться не мог.
Из-за стены глухо доносился модернизированный восточный мотив, сопровождаемый русскоязычным и вполне типичным для поп-музыки женским пением. Ведомый тяжелым отходняком от экстази, накопившимся нервным напряжением и эффектом выпитого алкоголя, Матвей осмотрел высокий потолок. Решительный взгляд переполз с потолка на трубу отопления и свисающую с нее бельевую веревку, которая витком спускалась на комод.
Матвей достал из комода оранжевый кусок мыла, пахнущий апельсином, и смочил его в чайнике. Связав из висящего конца веревки петлю под свой рост, он принялся методично ее намыливать. Когда петля была готова, Матвей отодвинул комод от стены, чтобы можно было забраться на него, а потом оттолкнуть и лишиться опоры. На это ушло не больше двух минут.
Осторожно забравшись на комод, Матвей нырнул в петлю, проверил, достаточно ли хорош скользящий узел, и замер. Шею холодило мыльной пленкой. Напряженно выжидая, он вслушался в звуки мира.
Стоит только захотеть, можно и звезды,
Стоит только захотеть – с неба собрать…
Матвей шумно выдохнул и толкнул ногами шаткий комод. Тот опрокинулся на бок, звонко загрохотав содержимым.
Голову сдавило изнутри, руки судорожно метнулись к петле, сдавливающей горло, но резко нахлынувшая слабость превратила их в бесполезные висящие конечности. Силясь сделать хотя бы крошечный вдох, издавая хрипы и клекот, Матвей дергался в петле, пытался дотянуться руками до шеи и сучил ногами в бессмысленных поисках опоры. Удушье нарастало, кровь в голове шумела все громче, а в глазах стремительно мутнело.
Матвей не учел одного - он был пьян, поэтому проверил только один узел. Наверное, впервые за последние несколько лет ему по-настоящему повезло: слабо завязанный верхний узел не выдержал пятидесяти килограммов его веса, и веревка отвязалась от трубы.
Вместе с намыленной петлей Матвей рухнул на пол, ударился лбом об угол комода и, откашливаясь по-собачьи, как пес, поперхнувшийся костью, распластался на полу. Горло жгло изнутри, лоб пульсировал болью. Постанывая, Матвей коснулся места удара и увидел на кончиках пальцев кровь.
- Да чтоб тебя! – с досадой прошипел он, выпутываясь из петли. Прислонившись к стене, он задумался еще раз. Боль привела его в чувство, вернула осознание телесности, обладания этим нескладным истощенным телом, и он уже не находил в себе прежней решимости умереть. После удара об комод желание умирать исчезло окончательно.
За дверью послышались шаркающие шаги, и кто-то громко постучал. Ногой затолкав веревку с петлей под холодильник, Матвей вытер мыльную шею и лишь потом открыл.
- Слушай, у тебя есть меф? – выпалила Соня, как только его увидела. Она была в домашней клетчатой рубашке, которая доходила ей до колен, и резиновых шлепанцах.
– У меня обыск был, дура, - с запозданием произнес Матвей. Всего несколько минут назад его мысли были совсем о другом.
– И куда мне теперь ехать?
– Езжай, куда хочешь, - хмуро сказал он.
- А завтра? Завтра будет?
Вместо ответа Матвей захлопнул дверь у нее перед носом и повернул ключ. Окончательно отбросив суицидальные намерения, он повалился на диван. Спину кололо одеяло из верблюжьей шерсти, которым совсем недавно укрывался Горбовский.
В голове разбухал черный ком сновидений. Матвей стоял у платформы, на Достоевской. Ее черные решетки тускло мерцали в полутьме, рассеиваемой лишь цветными лампами – плоскими огнями, что висели под покатым потолком. По кованым изгибам решеток и граниту пола были раскиданы синие блики, желто-белые отсветы и красно-зеленые лучистые искры.
Матвей хотел доехать до Балтийского вокзала, но все поезда проносились мимо. Когда очередной поезд скрылся в туннеле, он вдруг ощутил чье-то присутствие и обернулся. За решеткой стоял Максим Булыгин, и он был совсем не таким, каким его запомнили поклонники. Вместо расхристанного, суетливого и постоянно упоротого юноши из-за частокола прутьев на Матвея смотрел белый и очень холодный мертвец в строгом черном костюме, волосы которого были аккуратно причесаны.
Матвей осторожно сделал шаг в сторону, намереваясь в случае нападения побежать к выходу в город. Булыгин приблизился к нему, но без единого движения – проскочив сквозь решетку смазанным рывком.
- Тебе выжгут глаза зеленкой, - произнес он со злобой неправильно умершего человека, и Матвей учуял в подземном ветре резкий запах моченых яблок.
Пропорции тела Булыгина резко сдвинулись, искривив его фигуру, а пальцы вытянулись, превратившись в изломанные паучьи лапы. Не мешкая, Матвей кинулся к выходу в город и добрался до эскалатора быстрее Булыгина. Наверх пестрыми цепочками уходили ряды цилиндрических ламп. Матвей прорывался сквозь серовато-белое свечение, желтовато-красное мерцание и сине-зеленые бледные переливы.
Резкий удар по затылку заставил его растянуться на брусчатке. Подняв пульсирующую болью голову, Матвей посмотрел на свою руку, но это была чужая рука. Из рукава черной кожаной куртки торчала окровавленная, покрытая гематомами кисть с ухоженными ногтями. На запястье виднелись черно-серебристые часы – те самые пропавшие часы, которые обсуждали целый месяц после убийства Булыгина.
Вновь охваченный эмоциональным отупением транквилизатора, Матвей сидел за столом, уронив тяжелую голову на скованные руки. К затекшей левой руке неспешно возвращалась чувствительность, а содранное запястье опухло, покрывшись багровой коркой и желтой шелухой сукровицы. У двери со скучающим видом сторожил Картамышев, который то и дело косился на Матвея, однако тот вел себя спокойно и бузить не собирался. На всякий случай Картамышев держал руку возле резиновой дубинки.
Когда скрипнули железные петли открывающейся двери, вошел Асфар Юнусович и взмахом руки попросил Картамышева удалиться. Тот не замедлил это сделать, словно уже давно ожидал такого приказа. Когда дверь закрылась, Асфар Юнусович сел напротив Матвея и положил на стол плотный пакет из фикс-прайса. Под белым пластиком в зелено-синий горох просматривались очертания ноутбука и желтое пятно конверта.
Даже седативный эффект не сдержал страх Матвея, который тот испытал при виде Асфара Юнусовича. Теперь он не просто наблюдал со стороны, а хотел поговорить. Если бы Матвей стоял, у него бы подкосились ноги. Боясь разозлить его, Матвей подобрался и выпрямил спину, но все равно не сумел сдержать скорбно искривившийся рот.
Асфар Юнусович всмотрелся в Матвея. Его искусственный зрачок был ледянисто-черным, в нем мертвым блеском отражался свет. Серый китель цветом напоминал прах, оставшийся от человека после кремации.
- Давно пора было, давно пора… - задумчиво, но весьма непринужденно заговорил он. - Какой толк от денег, если на течение жизни влияют еще и внешние факторы? Ее три миллиона не воскресили бы Вячеслава. Конечно, деньги многое решают, но проигрывают рукам озлобившегося наркомана.
Продолжая наблюдать за Матвеем с некоторым лукавством, Асфар Юнусович снял китель и повесил его на спинку стула. Заметив неестественную белизну его левой кисти, Матвей догадался, что она искусственная, и поежился – сам не понимая, что именно ему в этой кисти так не понравилось.
- Прошло двести лет, русские мальчики теперь орудуют совсем не так, - пустился Асфар Юнусович в более отвлеченные рассуждения, - знает ли обычный гражданин номер статьи о краже? Номер статьи об убийстве? Нет, зато все знают, что 228 это наркотики: употребление, хранение, сбыт… Больше половины преступников по всей России осуждены и сидят именно по этой статье. Если бы ты интересовался статистикой, то сразу бы вспомнил, что еще в двадцатом веке расклад был на стороне воровства. Мир меняется.
- Пожалуйста, скажите, к чему вы клоните? – дрожащим голосом спросил Матвей. Оговор Горбовского выбил из него последние силы, и теперь Матвей был как шелковый. Притворившись, что он не услышал вопроса, Асфар Юнусович продолжил свой монолог:
- На улице, где я рос, дети выражались словами, которые раньше относились исключительно к тюремной сфере, и взрослые не находили это странным. Потому что так повелось, что одни сидят, а другие охраняют. Но речь даже не о детях. Образованные, вроде бы интеллигентные люди, а все равно знают, как продолжить «запахло весной», «владимирский централ»…
- Вы не просто так начали рассуждать, - повторил попытку Матвей, но сбился на всхлип, - про русских мальчиков…
- Да и кого считать интеллигентом? Того, у кого в семье никто не сидел? Так ни одного интеллигента не найдешь. А образцы интеллигенции, как правило, сидели, хоть и по политическим статьям. Оппозиционный интеллигент без срока это, можно сказать, моветон. Даже Достоевский сидел. Четыре года. И теперь все даже дышать бояться на память о политзэке, который был зависимым от азартных игр и верил в Христа. Теперь это, видишь ли, лицо русского мира и пример для подражания.
- Зачем вы меня мучаете? – умоляюще посмотрел на него Матвей. – Прошу вас, скажите прямо, я больше не могу…
- А все очень просто, - без обиняков перешел к сути Асфар Юнусович. Как будто он только и ждал этого вопроса, как будто он доводил Матвея до нужного градуса каления, чтобы перековать под свои нужды.
- Понимаю, у тебя много предположений, но высказываться ты боишься. Неудивительно. В этом и заключается наша работа - чтобы люди боялись высказываться. У тебя только два варианта. Первый, хороший, заключается в том, что ты работаешь, как раньше, но под нашим присмотром. Присмотр наш стоит пятьдесят тысяч в месяц. При нынешнем уровне твоих доходов. У тебя был ненадежный товарищ, он тебя и выдал. С нами все будет иначе. Если не хочешь продавать, можешь получить законный за такие объемы срок – положенные тебе тринадцать лет. Думай, Грязев, думай.
Совершенно потерянный от открывшихся перспектив, Матвей замер от страха. Осознание было мгновенное и совершенно ясное: вход в эту организацию стоил рубль, а выход – два. В лучшем случае два. Согласие автоматически означало смирение с ролью мальчика на побегушках, пса, которого держат на коротком поводке. Дав сегодня согласие, можно было влипнуть всерьез и надолго.
Что сказал бы его отец, время от времени выходящий на волю и возвращающийся обратно в тюрьму? Решительно отказался бы и сотрудничать не стал. Что сказал бы его прадед, без вести пропавший в сталинских лагерях? Судя по тому, как закончилась его жизнь, он тоже ответил бы твердым и уверенным «нет». Что сказал бы его дальний предок из опричнины? Ничего – он и сам был частью силовой структуры, носил черный кафтан и наверняка не без удовольствия резал неугодных Ивану Грозному бояр. Ему даже не стали бы задавать подобный вопрос.
«Я хочу, чтобы все закончилось», - подумал отчаявшийся Матвей, и его пронзила внезапная, тяжелая, но очень простая догадка.
- Я согласен, - сбивчиво произнес он, стараясь не глядеть на Асфара Юнусовича.
- Вот и прекрасно, - улыбнулся тот, но доброго в его улыбке было мало. Матвея не покидало ощущение, что Асфар Юнусович вот-вот обратится в криволапого мизгиря, покрытого песочно-коричневой шерстью, опутает его всеми лапами, а потом прокусит кожный слой хелицерами и досуха выпьет его отравленный труп. Но Асфар Юнусович всего лишь снял с него наручники, и Матвей потер затекшие запястья.
- Чем больше доход, тем выше такса. Естественно, ради твоего же блага лучше платить вовремя. Хочешь узнать, чем чреваты задержки?
- Вы меня убьете, - отрешенно пробормотал Матвей. Асфар Юнусович довольно хохотнул:
- К чему такой пессимизм? Не сразу, Грязев, не сразу. Если исчерпаешь кредит доверия – убьем, конечно.
- Задержек не будет.
- В Наполеоны метишь… - задумчиво произнес он, начав прохаживаться по узкой комнате. – Очень легко заявлять такое на берегу. Кто знает, вдруг ты перестанешь так считать, когда займешься по-настоящему серьезным делом? Вдруг тебя начнет мучить совесть?
Оставив его вопрос без ответа, Матвей взял пакет со своими вещами и крепко прижал к груди, словно опасался, что его могут снова отнять.
- Впрочем, время рассудит, ошибся я насчет тебя или нет. Я даже готов закрыть глаза на то, что ты колешься. Такие, знаешь ли, долго не работают, - похлопал его по плечу Асфар Юнусович, проходя мимо, - все в твоих руках, Матвей Германович.
От его прикосновения Матвей чуть не дернулся, но на этот раз ему все-таки удалось скрыть испуг. Вдруг повернувшись на месте, Асфар Юнусович остановился, подозрительно сверкнул живым глазом и поинтересовался:
- Кстати, что за история с ограблением, которого не было? Расскажи подробнее.
Не до конца осознав смысл вопроса, Матвей рассказал про Ладу, про Марата, про попытку отравления и драку, про инцидент на кладбище… Асфар Юнусович слушал его и с каждой минутой мрачнел.
- Иди домой, отдохни. Ты немного не в себе. Послезавтра за тобой заедут и введут в курс дела, - сказал он и добавил, - и не забывай, что попытка побега лишь усугубит твое положение. За границу тебя все равно пока не выпустят, а в пределах России мы тебя быстро найдем.
- Я всё понимаю, - заверил его Матвей, - я не собираюсь сбегать.
За сутки, которые Матвей провел в управлении ФСКН, погода стала только хуже. Над Загородным проспектом висели тяжелыми пластами дегтярно-черные тучи, глухо завывал над крышами ветер, гоняя из стороны в сторону пропахший морской сыростью воздух. Матвей брел к метро мимо домов старого фонда с фронтонами и эркерами, построенных в девятнадцатом веке, мимо розовых и зеленых граффити, которые украшали двухвековые стены. С фасадов домов и асфальта его зазывали объявления со славянскими и азиатскими женскими именами, а одно даже обещало пятнадцать тысяч рублей за место временного директора. Требовался русский без опыта, а Матвей именно таким и был.
Возле Достоевской, в паутине черных проводов подрагивал под вихрями ветра сдувшийся воздушный шар, ставший из белого сероватым. Миновав ларек, где продавались магниты, кружки и футболки с Громовым, Матвей добрался до эскалатора, и тот повез его вниз, в жерло метро, которое своими полукруглыми сводами напоминало трахею. Чем ближе была платформа, тем заметнее становился подземный ветер, приносящий с собой душноватый, влажный запах бетонной пыли.
Возвращения Матвея никто не ждал. Когда он зашел в коридор, никто даже не вышел на звук шагов, потому что не услышал их – слишком уж шумно было на кухне. Матвей учуял запах спиртного и множества выкуренных сигарет, доносящийся с кухни, прислушался и понял, что Соня, Женя и Копейкин заняты бурным обсуждением вчерашнего дня. Прокравшись мимо своей комнаты, казенная бумажка на двери которой уже была порвана, Матвей стал слышать их лучше.
- …а он в Омск уехал, - жаловалась Соня, - спрашиваю его: «Саша, ты что там потерял?». И правда, на кой ему сдался Омск? Там даже метро нет. Невезение какое-то: один уехал, второго уже через месяц приняли. Я до сих пор так и не нашла…
Договорить Соня не успела, потому что осеклась, заметив Матвея, который вышел из сумрака коридора в дверной проем кухни, и замерла с раскинутыми в негодующей жестикуляции руками. Слева от нее сидел недвижимый Женя, подавшийся в ее сторону корпусом, а справа согнулся вопросительным знаком Копейкин. Он держал в руке наполовину полную рюмку, которую не успел донести до рта, а на столе перед ним стояла открытая бутылка. Все смотрели на Матвея с таким удивлением, словно ожидали его возвращения только через несколько лет.
- Тебя отпустили? – вскинула брови Соня. – Что произошло?
Матвей был не в настроении отвечать на вопросы. Он подошел к столу и положил на него пакет, из которого выскользнул, выглянув наружу желтым уголком, конверт с вещдоками. Взяв бутылку, Матей сделал из горла несколько больших глотков, от которых заходил ходуном кадык. Поморщившись, он поставил бутылку обратно.
- Мусора тебя, конечно, потрепали, - озадаченно почесал в затылке Копейкин. Арест его смущал, однако тот факт, что Матвей все же вернулся, радовал, и радость была сильнее непонимания. А вот Женя, его тезка, отреагировал не так радушно. Смерив Матвея взглядом, он с заметной брезгливостью спросил:
- Ты че, серьезно барыга?
- Да. Не ожидал, что все закончится так, - ответил Матвей с мрачной уверенностью. В коридоре раздался шорох, и Женя, втянув голову в плечи, на всякий случай отодвинулся вместе со стулом в угол.
Обернувшись, Матвей увидел стоящего на пороге кухни Горбовского. На плече у него висела туго набитая спортивная сумка, с которой он месяц назад сюда переехал. Кажется, он тоже не ожидал, что Матвей вернется так быстро.
- Ты дома? В чем дело? Как тебя отпустили? – часто заморгал Горбовский, одновременно желая и обнять Матвея, и убежать от него подальше.
- Столкнулся с дилеммой клоунов и пидарасов, - усмехнулся Матвей.
- Послушай, я не думал… Не думал, что они окажутся такими садистами, я не знал… - начал мямлить Горбовский, но Матвей грубо перебил его:
- Не в буквальном смысле, тупица.
Наконец увидев лежащий на столе пакет, в частности, конверт с доказательствами, который ему показывал следователь, Горбовский сопоставил все детали и кое-что понял.
- Под мусорами ходить неэтично! – воскликнул он – Евгений Львович, он же…
– А вкидывать меня было этично? – холодно спросил Матвей.
- По первой судимости за 228 почти всегда дают условный срок, ты сам мне говорил.
– И поэтому ты выставил крайним меня? Мараться не хотел?
Горбовский потупился и переступил с ноги на ногу.
- Они обещали, что если я расскажу про тебя, то ты получишь условку.
- Дебил, - злобно засмеялся Матвей, - неприспособленный к жизни дебил. Это ты учился на юрфаке, а не я, это ты должен знать, что предварительный сговор только увеличивает срок. Ты пронюхал свои два курса, Горбовский.
Соня тихо щелкнула зажигалкой, и к потолку кухни потянулись извилистые струйки дыма. Заинтересованно упершись подбородком в ладонь, а локтем в стол, Соня затянулась и выдохнула дым в сторону отсевшего Жени.
- Что-то я не помню, чтобы мне предлагали условку. Мне предлагали тринадцать лет. Они же обещали, Слава. Или они тебя наебали? Кто же мог подумать, что менты наебут? Никогда такого не было, и вот опять.
Горбовский отступил назад, его фигура частично потерялась в тени.
- И что за неожиданная смена показаний? Тетка твоя вмешалась? Хорошо быть мажором, правда?
- Прекрати! – выкрикнул Горбовский. – Не моя вина, что ты родился в медвежьем углу!
Намереваясь закрыться в комнате и не желая больше с ним разговаривать, Матвей взял пакет со стола, однако просто так Горбовский его отпускать не хотел.
- Ты ведь барыжить больше не будешь? – обеспокоенно спросил он.
- С чего ты взял? В конце концов, мне это дается лучше, чем тебе.
- И все-таки я не понимаю, зачем тебе так серьезно в это ввязываться, - смутился Горбовский. Матвей впервые за год их дружбы говорил с ним таким холодным, ненавидящим тоном, и у него – это следовало признать – были на то серьезные основания.
- Ты или издеваешься, или тупой. Судя по тому, что погорел я из-за твоей болтовни, ты тупой.
Горбовский поправил ремень сумки, сползший с плеча, и напоследок сказал Матвею:
- Тетя говорила, что после монастыря положит меня в бельгийский рехаб, но я…
- Мне неинтересно, - резко оборвал его Матвей.
Умолкнув, поникший Горбовский исчез в тени коридора, хлопнул дверью квартиры, а потом стих и дробный стук его шагов, бьющих по деревянным ступеням. Это был последний день, когда Матвей видел Славу Горбовского.
Вскоре после того, как Матвей закрылся в комнате, за стеной заиграло радио Сони, настроенное на ее любимую ретро-волну. Примерно с час он лежал на диване, собираясь с мыслями, но не хватало финального толчка. Взяв с книжной полки «Тибетскую книгу мертвых», он открыл ее на форзаце и шепотом прочитал пожелание Юши, которое наконец стало для него кристально ясным:
- Эмпирически познай извечную тайну смерти…
Если прежде фраза была туманной и бессмысленной, то теперь она обрела единственно верную и неумолимую суть.
Матвей солгал Асфару Юнусовичу. Согласившись сотрудничать, он сразу же принял внутреннее решение сбежать. Асфар Юнусович мог дотянуться до него, скройся он в любом субъекте Российской Федерации, он запросто мог не выпустить Матвея за границу, однако руки у него были не такие уж и длинные. Существовали места, до которых он добраться не мог.
Из-за стены глухо доносился модернизированный восточный мотив, сопровождаемый русскоязычным и вполне типичным для поп-музыки женским пением. Ведомый тяжелым отходняком от экстази, накопившимся нервным напряжением и эффектом выпитого алкоголя, Матвей осмотрел высокий потолок. Решительный взгляд переполз с потолка на трубу отопления и свисающую с нее бельевую веревку, которая витком спускалась на комод.
Матвей достал из комода оранжевый кусок мыла, пахнущий апельсином, и смочил его в чайнике. Связав из висящего конца веревки петлю под свой рост, он принялся методично ее намыливать. Когда петля была готова, Матвей отодвинул комод от стены, чтобы можно было забраться на него, а потом оттолкнуть и лишиться опоры. На это ушло не больше двух минут.
Осторожно забравшись на комод, Матвей нырнул в петлю, проверил, достаточно ли хорош скользящий узел, и замер. Шею холодило мыльной пленкой. Напряженно выжидая, он вслушался в звуки мира.
Стоит только захотеть, можно и звезды,
Стоит только захотеть – с неба собрать…
Матвей шумно выдохнул и толкнул ногами шаткий комод. Тот опрокинулся на бок, звонко загрохотав содержимым.
Голову сдавило изнутри, руки судорожно метнулись к петле, сдавливающей горло, но резко нахлынувшая слабость превратила их в бесполезные висящие конечности. Силясь сделать хотя бы крошечный вдох, издавая хрипы и клекот, Матвей дергался в петле, пытался дотянуться руками до шеи и сучил ногами в бессмысленных поисках опоры. Удушье нарастало, кровь в голове шумела все громче, а в глазах стремительно мутнело.
Матвей не учел одного - он был пьян, поэтому проверил только один узел. Наверное, впервые за последние несколько лет ему по-настоящему повезло: слабо завязанный верхний узел не выдержал пятидесяти килограммов его веса, и веревка отвязалась от трубы.
Вместе с намыленной петлей Матвей рухнул на пол, ударился лбом об угол комода и, откашливаясь по-собачьи, как пес, поперхнувшийся костью, распластался на полу. Горло жгло изнутри, лоб пульсировал болью. Постанывая, Матвей коснулся места удара и увидел на кончиках пальцев кровь.
- Да чтоб тебя! – с досадой прошипел он, выпутываясь из петли. Прислонившись к стене, он задумался еще раз. Боль привела его в чувство, вернула осознание телесности, обладания этим нескладным истощенным телом, и он уже не находил в себе прежней решимости умереть. После удара об комод желание умирать исчезло окончательно.
За дверью послышались шаркающие шаги, и кто-то громко постучал. Ногой затолкав веревку с петлей под холодильник, Матвей вытер мыльную шею и лишь потом открыл.
- Слушай, у тебя есть меф? – выпалила Соня, как только его увидела. Она была в домашней клетчатой рубашке, которая доходила ей до колен, и резиновых шлепанцах.
– У меня обыск был, дура, - с запозданием произнес Матвей. Всего несколько минут назад его мысли были совсем о другом.
– И куда мне теперь ехать?
– Езжай, куда хочешь, - хмуро сказал он.
- А завтра? Завтра будет?
Вместо ответа Матвей захлопнул дверь у нее перед носом и повернул ключ. Окончательно отбросив суицидальные намерения, он повалился на диван. Спину кололо одеяло из верблюжьей шерсти, которым совсем недавно укрывался Горбовский.
В голове разбухал черный ком сновидений. Матвей стоял у платформы, на Достоевской. Ее черные решетки тускло мерцали в полутьме, рассеиваемой лишь цветными лампами – плоскими огнями, что висели под покатым потолком. По кованым изгибам решеток и граниту пола были раскиданы синие блики, желто-белые отсветы и красно-зеленые лучистые искры.
Матвей хотел доехать до Балтийского вокзала, но все поезда проносились мимо. Когда очередной поезд скрылся в туннеле, он вдруг ощутил чье-то присутствие и обернулся. За решеткой стоял Максим Булыгин, и он был совсем не таким, каким его запомнили поклонники. Вместо расхристанного, суетливого и постоянно упоротого юноши из-за частокола прутьев на Матвея смотрел белый и очень холодный мертвец в строгом черном костюме, волосы которого были аккуратно причесаны.
Матвей осторожно сделал шаг в сторону, намереваясь в случае нападения побежать к выходу в город. Булыгин приблизился к нему, но без единого движения – проскочив сквозь решетку смазанным рывком.
- Тебе выжгут глаза зеленкой, - произнес он со злобой неправильно умершего человека, и Матвей учуял в подземном ветре резкий запах моченых яблок.
Пропорции тела Булыгина резко сдвинулись, искривив его фигуру, а пальцы вытянулись, превратившись в изломанные паучьи лапы. Не мешкая, Матвей кинулся к выходу в город и добрался до эскалатора быстрее Булыгина. Наверх пестрыми цепочками уходили ряды цилиндрических ламп. Матвей прорывался сквозь серовато-белое свечение, желтовато-красное мерцание и сине-зеленые бледные переливы.
Резкий удар по затылку заставил его растянуться на брусчатке. Подняв пульсирующую болью голову, Матвей посмотрел на свою руку, но это была чужая рука. Из рукава черной кожаной куртки торчала окровавленная, покрытая гематомами кисть с ухоженными ногтями. На запястье виднелись черно-серебристые часы – те самые пропавшие часы, которые обсуждали целый месяц после убийства Булыгина.
Глава 7

Горечь во рту у меня почти совсем прошла и осталась только та промерзлость гортани и десен, когда на морозе долго дышишь широко раскрытым ртом, и когда потом, закрыв его, он кажется еще холоднее от теплой слюны. Зубы же были заморожены совершенно, так что надавливая на один зуб, чувствовалось, как за ним безболезненно тянутся, словно друг с дружкой сцепленные, все остальные.
М. Агеев, «Роман с кокаином»
М. Агеев, «Роман с кокаином»
август, 2030 год
Сквозь мыльные разводы стекла просачивался в кухню, заполненную обедающими жильцами, тягучий солнечный свет. Соня, одетая в мешковатую рубашку, больше напоминающую платье, глухими ударами ножа шинковала на доске морковь. Эфемерные вьющиеся пряди, которые выбились из неаккуратного пучка, спускались по шее к лопаткам, однако Соня этого не замечала. Она мелко двигала челюстью, будто пережевывая воздух.
Сидящие за столом Женя и Копейкин, два Евгения разных лет, сосредоточенно ели. Женя, сжимая половник, черпал гороховый суп прямо из железной кастрюльки и равнодушно, как сваренный речной рак, всматривался в желтоватую гущу. Копейкин пил чай и курил, втягивая дряблые щеки, на которых синеватыми точками пробивалась щетина. Каждая затяжка завершалась постукиванием пальца по сигарете, и в консервную банку, где когда-то был паштет, осыпался черно-белый пепел.
- Да где он ходит, уже третий час пошел… - простонала нахлобученная Соня, особенно резко впечатав нож в доску.
- И он каждый раз так опаздывает? – посмотрел на нее Женя. Голос его прозвучал сонно, студенисто, туповато. В отличие от постоянно ускоренных соседей, Женя всегда выглядел так, будто ему не хватало сна.
- Конечно, - она округлила глаза, подкрашенные металлически-серым, - почему-то они все непунктуальные мудаки. А ты как думал?
- И когда он должен был прийти?
- Он не называл точное время. Он сказал: «скоро».
- Тогда почему ты решила, что он опаздывает? – пожал плечами Женя. – Технически он ни в чем перед тобой не виноват.
Резко повернувшись, Соня кинула на него ненавидящий, ядовитый взгляд. Благоразумно замолчав, Женя со скребущим звуком зачерпнул еще один половник супа.
Матвей пришел совсем скоро. Не снимая кроссовки, имитирующие классический «Адидас», которые раньше носил Горбовский, в спешке забывший их забрать, он прошел в кухню и стянул с лица повязку из черной марли. Спрятав ее в нагрудный карман расстегнутой рубашки, под которой виднелась футболка, он сдержанно сообщил всем вместо приветствия:
- Торфяники горят.
На постном лице возле уголка рта пухло зрел красноватый прыщ с перламутровой точкой гноя. Пока Матвей убирал маску в карман, левый рукав немного задрался, и Соня заметила на его запястье глубокие набухшие порезы, покрытые вишнево-темной коркой.
- У тебя рука болит? – участливо спросила она, с ножом подойдя к Матвею и заглянув ему в глаза.
- У меня всё болит, - вздохнул Матвей. Отоспавшись после освобождения, он почти не выходил из комнаты, выбираясь лишь в уборную, на кухню и в магазин за сигаретами. Сразу же после пробуждения дала о себе знать тянущая боль, пропитавшая все мышцы, а тело окончательно налилось темно-синими полосами от резиновой дубинки и просто синяками разной гаммы и калибра.
Соня выжидающе уставилась на Матвея, который в свою очередь с таким же выражением уставился на нее. Женя недоуменно моргнул, заметив возникшее между ними легкое напряжение. Лишь Копейкин не обратил на них внимания, словно совсем не хотел пропускать через себя чужие переживания.
- Деньги давай, - напомнил Матвей, глядя на Соню с высоты своего роста.
- Да, точно, - спохватилась она и запустила руку под подол рубашки, где обнаружились шорты, - забыла, что теперь ты наличкой берешь, представляешь?
Завистливым взглядом Женя проводил три тысячные купюры, которые скрылись в кармане Матвея, а потом заметил зиплок с белым порошком, который мелькнул между ладонями – мужской и женской.
- Вы можете хотя бы не проворачивать свои дела на общей территории! – негодующе воскликнул Женя.
Кинув нож рядом с нарезанной морковью, Соня торопливо вышла из кухни, оставив его замечание без внимания, будто его значимость на фоне мефедрона поблекла, впрочем, как и всё остальное. Матвей отупело посмотрел на Женю, но ничего не сказал. Несмотря на два дня отдыха, он до сих пор пребывал в некоторой прострации.
Усевшись рядом с Копейкиным, он закурил и подвинул пепельницу так, чтобы до нее могли дотянуться все курящие. К потолку потянулась вторая тающая нить сизого дыма.
- Как ты, Матвейка? – с отеческой заботой спросил Копейкин, повернувшись к нему.
- Пока нормально, - мрачно пробормотал Матвей.
- Ты на вокзале будешь играть? Если нет, я передам Епифанову, чтобы он тебя не искал. Ты ведь в другое ведомство перешел, зачем тебе на вокзал ходить? – улыбнулся Копейкин, подводя итог.
- Я пока мало что понимаю. Сегодня мне должны всё объяснить, и я потом вам точно скажу.
Кивнув, Копейкин погрузился в задумчивое молчание.
- Пиздец, вас тут еще и двое было, - коротко и неожиданно для всех выпалил Женя, который никак не мог переварить возмущение, возникшее еще в день ареста Матвея.
- Пока ты не знал этого факта, тебя устраивало мое соседство, и ты не шарахался от меня, как это делают недалекие моралисты.
- Лучше бы ты и дальше сидел с баяном на вокзале и не лез в это говно.
- Лучше бы ты на хуй шел, - рассеянно парировал Матвей.
Фыркнув, Женя понес опустевшую кастрюльку к раковине. Зажурчала вода, звонко бьющаяся об потрескавшуюся эмаль мойки, об погнутое дно, покрытое застарелой гарью. Благоухая ягодным парфюмом, в кухню вернулась Соня – запускающая пальцы в распущенные волосы, грациозно, по-рабочему качающая покатыми бедрами.
- Прекрасно, Мотя! – экстатически воскликнула она, с оттяжкой поцеловав Матвея, не готового к такой любезности, в макушку. – Вол-шеб-но!
- Не за что... – с неохотой ответил он, не успев увернуться от ее поцелуя. Всякий раз, передав Соне мефедрон, он старался уйти как можно дальше, потому что в оприходовавшейся Соне вспыхивали искры любви, и она в знак благодарности за доставленное счастье лезла к нему целоваться. Не найдя его, она меняла цель и искала кого-нибудь другого, на ком можно было выразить кратковременную радость, однако сегодня Матвей вел себя слишком рассеянно, поэтому никуда не ушел.
Заняв освободившуюся табуретку, Соня вытащила из пачки тонкую сигарету, плотно сдавив фильтр зубами, и присоединилась к ежечасной процедуре проживающих в квартире курильщиков. Следующие несколько минут прошли в тишине, прерываемой только шорохом губки об железо, выдохами и стуком Сониных челюстей.
За рокотом подъезжающего автомобиля, двигатель которого заглушился у них под окнами, последовал протяжный скрип входной двери, иногда не запирающейся даже на ночь, потому что в квартире всегда кто-то бодрствовал. Как и несколько дней назад, утробную коммуналку на улице Юты Бондаровской посетил непрошеный гость. Это был молодой быковатый мужчина, в сухощавом лице которого виднелся проблеск маскируемой интеллигентности. Под загибом шапки блестели глаза, а черную кожаную куртку несуразно дополняли темно-синие спортивные штаны. Непрошеный гость лучезарно улыбался и шириной был, как два Матвея.
Соня удивленно, с намеком на кокетство моргнула, взмахнув ресницами, а Копейкин оглядел пришедшего с подозрением, которое оказалось не напрасным. Матвей же при виде гостя несколько сник.
- День добрый, Грязев, - довольно сказал мужчина, оперевшись на дверной косяк и шмыгнув носом, - рад знакомству. Меня Гриша зовут.
Как и ожидалось, в его речи не оказалось неподражаемой тягучей интонации, свойственной дворовой гопоте. Искомого человека он заметил сразу, что говорило об его информированности, и Матвею, конечно же, всё стало ясно.
- А вы… - нерешительно начал он, вдавив окурок в толщу консервной банки.
- Ага, я от Асфара Юнусовича. Собирайся, нас на Лиговском ждут.
Смотрелись Матвей и Гриша максимально контрастно. Футболку с надписью «Россия живет скоростями», Матвей покупал, когда весил на десяток килограммов больше, и теперь она мешковато висела на нем, доказывая правоту своего утверждения, а когда-то узкие джинсы с подкатами демонстрировали исхудалые обнаженные щиколотки с шишковатыми костными выступами.
- А я уже собрался, - сообщил Матвей, стараясь сохранять спокойствие.
- Прекрасно, - опять улыбнулся Гриша, но уже уголком рта, обнажив блестящие кромки зубов.
Когда он покинул квартиру, совершенно проигнорировав остальных, а следом за ним ушел и Матвей, Соня подкралась к окну и поманила пальцем Женю с Копейкиным. Возле угла двухэтажного дома, который строили в пятидесятых годах прошлого века, планируя сделать из него временное жилье, в малахитовой тени раскидистых лип был припаркован черный гелендваген, рублеными формами напоминающий плохо сколоченный гроб. На заднем стекле красовалась гордая, но затасканная и донельзя пошлая наклейка – «спасибо деду за победу», хотя биологический дед Гриши вряд ли имел какое-то отношение к вполне конкретной исторической победе, а еще меньшее отношение – к немецкому автопрому.
Сначала сел за руль Гриша, потом занял место смертника Матвей, и гелендваген, плавно тронувшись с места, выехал на узкую асфальтовую дорогу и скрылся за пределами видимости.
- Надеюсь, он от нас съедет, - тихо сказал Женя. Выбирая комнату, доступную по цене для студента, он надеялся найти хотя бы такую, где он не будет сталкиваться с нарушителями закона и его представителями – встречи со вторыми обычно заканчивались даже хуже, чем с первыми. Но с реальностью пришлось смириться, и он решил, что не стоит обращать внимание на то, что официально его соседи нигде не трудоустроены, но при этом откуда-то берут деньги. Однако несколько дней назад выяснилось, что два соседа из четырех торговали наркотиками, а один из них даже безнаказанно вернулся и теперь, видимо, притягивал к себе людей, рядом с которыми Женя на всякий случай оказываться не желал.
***
Возле площади Восстания временно перекрыли движение, и на Лиговском проспекте перед опустевшим участком дороги образовалась набирающая протяженность пробка, в самом начале которой оказался черный гелендваген. Окажись он в этой точке маршрута на несколько минут раньше, он вполне мог бы уже давно достичь пункта назначения.
- Гондоны, - беззлобно выдохнул Гриша, барабаня пальцами по рулю. Матвей, который за прошедший час не сказал ни слова, оглядывал местность, и в его взгляде читалась легкая озадаченность, то ли оставшаяся после недавних событий, то ли появившаяся перед грядущими переменами.
Справа от обелиска, увенчанного звездой, на крыше одного из домов старого фонда светился экран, где на багровую громаду Кремля накладывался профиль Громова, облагороженный ретушью. На фоне пасмурного неба сияли железные крыши, в которых отражалась подступающая с другой стороны небесная синь – они сверкали настолько ярко, будто кто-то незримый натер их фосфором. В лужах, оставленных утренним дождем, отражалась черно-голубая граница туч и чистого небесного свода, медленно перемещающаяся все дальше. А вот пробка стояла на месте.
По тротуарам сновали казачьи патрули, взмыленные полицейские и хмурые люди в штатском, а над скопищем, которое походило на муравьиные круги смерти, жужжали пчелиным роем полицейские и казачьи дроны. В отличие от Матвея, которого представшее зрелище потрясло, Гриша с неподдельным безразличием проводил взглядом правительственный кортеж из маслянисто-черных люксовых иномарок, за которыми, как пчелиный рой, следовала цепочка боевых дронов. Замыкал кортеж двуногий робот «Игорек», порождение концерна «Калашников» - механическая пятиметровая конструкция с парой рук и огромной кабиной вместо тела, за тонированными стеклами которой скрывался оператор.
- Не бойся меня, я только с виду такой страшный. Пальцы ломать не буду. Если не дашь повода, конечно, - издал Гриша добродушный смешок, решив, что пришла пора всё разъяснить.
С удивлением, которое было скорее печальным, чем радостным, Матвей узнал, что теперь он работает на невский синдикат, а если точнее, то непосредственно на Асфара Юнусовича, который был куда влиятельнее мелкотравчатых капитанов, наслаждающихся локальной властью, как феодальные царьки. Гриша же должен был решать проблемы Матвея, связанные с неадекватными и конфликтными клиентами, которые были неизбежными элементами энтропии.
Каждое тридцатое число месяца Матвей обязан был переводить пятьдесят тысяч рублей на счет, открытый неизвестным лицом в Hong Kong Construction Bank, который был для российской правоохранительной системы недосягаемым и обеспечивал клиентам, какими бы они ни были, максимальную приватность. Зафиксировать подати Матвея налоговая РФ не могла, соответственно, формально они в природе не существовали, будучи лишь каплей в море черной, пока еще не отмытой денежной массы.
Когда Гриша сообщил, что повышение заработка влечет за собой и повышение поборов, Матвей не удивился и лишь болезненно поморщился.
- Все необходимое сообщать тебе буду я и больше никто. Ну или Асфар Юнусович, но для этого нужно быть рангом повыше, хе-хе… Если нарисуется некто, говорящий от имени Асфара Юнусовича или от моего имени, знай, что к нам он отношения не имеет.
- Понял, - глухо сказал Матвей.
- Тебе очень повезло, что ты столкнулся с Асфаром Юнусовичем, еще и при таких обстоятельствах, - задумчиво посмотрел на него Гриша, - с ним контактирует узкий круг внешних сотрудников, и раз уж он встроил тебя в систему, значит, где-то ты ему пригодишься.
Кортеж превратился в черную точку, скользящую по Невскому проспекту к невидимому горизонту. Под голубеющим небом исчезали в боковых улицах казаки и полицейские, за ними следовали дроны, рой которых постепенно распадался и терял целостность.
- Можешь что-нибудь спросить, - подытожил Гриша, - не стесняйся.
«Легко сказать», - промелькнуло в голове у Матвея, и он спросил:
- Вы куратор?
- Не совсем. Я старший сотрудник службы охраны. И, что гораздо важнее, помощник Асфара Юнусовича.
- Ясно, - произнес Матвей и робко потупился. Ответ не успокоил волнение, постепенно перерождающееся в страшок, а лишь подлил масла в огонь, и Матвею хотелось оказаться где угодно, но не в гелендвагене, резкие грани которого были бронированными. Соседство Гриши, который держался с непонятной веселостью, только усиливало нехорошие предчувствия, которые плодились в нутре Матвея, как смрадные тараканы. Заметив его смятение, Гриша доверительно заглянул ему в глаза и спросил:
- Что ты думаешь по поводу сложившейся ситуации? У тебя возникают моральные сомнения? Может, тебя возмущает тот факт, что наркоторговлей занимается ФСКН?
– Так вы же выполняете свою функцию, контролируете оборот. Не вижу причин возмущаться, - с мрачным лицом произнес Матвей, выдержав пытливый взгляд собеседника. Гриша довольно, искренне загоготал.
Когда кортеж удалился на достаточно безопасное расстояние, проезд наконец разрешили, и на тротуарах замелькали, сменяя друг друга, неоновые вывески баров, голографические меню в окнах столовых и разбредающиеся по центру города казачьи патрули.
Пунктом назначения оказался бар «Demente»: латинские буквы над входом мерцали бензиновыми переливами, а внутри были объяты полумраком барная стойка, общий зал и скромный танцпол. В дальнем углу, окружив столик с кальяном, сидела группка деловитых китайцев в брючных костюмах, а на танцполе, под радужными бликами цветомузыки танцевали не в такт музыке три женщины. Из неизвестной точки помещения доносился трэп с утробными басами, но женщины, кажется, слышали совсем другую, свою музыку.
Черные потолок и стены были расписаны мелом: шутливые фразы на грани фола, написанные старославянским шрифтом, перемежались анатомически точными фрагментами костей, относящихся к человеческому скелету. В дальнем углу зала, под четко очерченным контуром тазобедренных костей виднелся такой же темный коридор, проход в который обрамляла черная кожаная занавесь, собранная в тяжелые складки.
Гриша, час назад бывший крайне воодушевленным и даже фамильярным, словно в один момент помрачнел, и на его лице отпечаталась легкая мрачность, придавшая ему угрожающий вид. На всякий случай не задавая вопросов, Матвей прошел за ним в темный коридор, а потом и в самую дальнюю комнату.
В зеркальных панелях стен отражался потолок, исчерченный широкими флюоресцентными полосами, которые были единственным источником света – бледно-голубого, практически мертвенного. На квадратном столе не было ничего, кроме салфетницы и квадратно-синего блюдца, на котором стояла сахарница. В зеркалах отражались сидящие по левую сторону стола сотрудник Рубцов и Марат. Рубцов сегодня выглядел подавленно, даже вид у него был немного виноватый, а Марат угнетенно молчал, не обращая внимания на происходящее вокруг. Его угловато искривленная фигура со сгорбленной спиной растекалась по дивану. Сонливость Марата явно была неестественного происхождения: либо ее вызвали опиаты, либо транквилизаторы. Марата давно, очень давно не видели в таком состоянии.
Матвей нерешительно застыл у двери. Гриша мягко подтолкнул его в спину:
- Никого не бойся. Чувствуй себя, как дома.
С трудом сгибая ноги, Матвей сел на диван, который стоял по правую сторону стола, а свободное место рядом с ним занял Гриша. Матвею по какой-то причине вспомнилась кассирша из «Пятерочки», тетя Настя, которая часто пила чай с его матерью и была совсем из другого мира, нежели его нынешние собеседники. Вряд ли она часто задумывалась о существовании этого другого мира, возможно, она вообще считала его частью художественного вымысла, из которого состояли российские сериалы про любовь, преодолевающую чернушные преграды, и порывистых, зато честных ментов. Раздраженный тупостью подопечных, Гриша участливо, но с нескрываемой угрозой спросил:
- Как же ты так оплошал, Марат? В ограблении их обвинил, деньги с карты снял, а лицо на камеру засветил. Почему ты стал таким забывчивым?
Вопрос был саркастичный и, конечно же, риторический, несущий исключительно садистскую функцию, потому что взгляд живого Марата, лишенный всякой осознанности, был устремлен в одну точку. Гриша демонстративно посмотрел на Матвея:
- Как поступим с Маратом?
- Не знаю... – невнятно пробормотал Матвей.
- Нехорошо получилось, Федя, - обратился Гриша к поникшему Рубцову, - проморгал вранье, а человека уже взяли на карандаш. Ему теперь придется с нами работать, вряд ли он на это рассчитывал. Правда, Грязев?
Матвей нерешительно склонил голову. В лакированной столешнице сырыми бликами отражался рассеянный лазоревый свет. Раздался грудной, но твердый голос Рубцова:
- Я смотрел выписку операций, и снятие восьмидесяти тысяч было в указанное Маратом время.
Зыбкие бирюзовые полутени придавали происходящему вокруг малую долю неестественности, накладываясь на реальность комнаты рериховскими слоями. Матвей заметил, что у Рубцова аккуратные мелкие зубы, не соответствующие его массивным габаритам.
- Естественно, он ведь сам их снял. Возможно, тебе было лень смотреть записи с камер, но в следующий раз не ленись, пожалуйста. А то косячит один, - покосился Гриша на Марата, - а боком выходит всем. Правда же?
Снова ощутив на себе пристальный взгляд Гриши, Матвей робко поднял голову и краем глаза заметил в зеркальной стене свое растерянное лицо, погруженную в рыхлую синеву.
- Молчишь, как сыч, - издал Гриша тихий смешок и, расслабившись, приказал Рубцову, - как договаривались, Федя, на Пулковское.
Деловито кивнув, Рубцов подхватил Марата, закинув его руку себе на плечо, как обычно поступают с пьяными, которые худо-бедно могут идти, но уже ничего не соображают. Осторожно прикрыв за собой дверь, Рубцов вместе с невменяемым и равнодушным, как пустынное животное, Маратом исчез в полумраке.
Как будто сняв угрожающую маску, Гриша снова улыбнулся Матвею, хотя уже не так лучезарно, как в Новом Петергофе:
- Асфар Юнусович сказал, что ты колешься свежестью. Говно то еще.
Матвей нервно улыбнулся в ответ.
Видимо, посчитав поручение успешно выполненным, Гриша дал себе волю и достал из кармана спортивных штанов зиплок, туго набитый белым порошком, который в неживом свете комнаты казался бледно-голубым. Поставив перед собой квадратное блюдце, Гриша высыпал на него массивную щепоть. На столе появились кредитная карточка гонконгского банка и свернутая в тугую трубочку купюра, глядящая на Матвея выпученным глазом Бенджамина Франклина.
- Отчество у тебя забавное, - усмехнулся Гриша, вычерчивая на блюдце две равные жирноватые дорожки, выдающие стаж его употребления.
– Германович? - переспросил Матвей, сбитый с толку его заявлением. Ему свое отчество никогда смешным не казалось.
– Ага. Герыч! - захохотал Гриша с легкой ноткой визга. – Еще и фамилия… Тебе бы с такими паспортными данными опиатами торговать. Героиновый барыжка Грязев – смешно же.
- Ага, - сдержанно ответил Матвей. Всё встало на свои места. Ослепительная улыбка Гриши была обусловлена совсем не личным отношением, она была следствием уверенности, и уверенность эта была кокаиновой. В том, что за час его настроение из воодушевленного резко стало мрачным, не было ничего удивительного. Это был естественный ход вещей.
Приставив купюру к ноздре, Гриша резко шмыгнул, разом втянул толстый штрих дороги и блаженно запрокинул голову. Отдышавшись и поморгав в потолок, он хрустнул суставами пальцев и повел головой, чтобы размять шею.
- Грязев, ты пробовал кокаин?
- Нет, - осторожным полушепотом ответил Матвей, стараясь не смотреть на синее блюдце, чтобы не выдать своего интереса.
- Давай-ка одну, а то ты слишком зажатый, - решительно заявил Гриша и гостеприимно пододвинул к нему блюдце, - ты за все время три слова сказал. Куда это годится?
Матвею тяжело было разобраться в смятении чувств, однако цифры говорили сами за себя: в Петербурге, культурной столице и городе Петра Великого, грамм кокаина стоил от десяти тысяч рублей и выше, в Москве же цена доходила до двадцати пяти тысяч. Средняя зарплата в Офтони, если не учитывать заводчан, составляла пятнадцать тысяч рублей в месяц. Заводчане получали больше – двадцать тысяч. Так уж повелось, что половина жителей Офтони работала на вредном производстве, подвергая себя риску развития онкологии, а оставшаяся половина трудилась в сфере обслуживания, дыша загрязненным воздухом и тоже подвергая себя риску развития онкологии, хоть и в меньшей степени.
Торчковая натура, как и всегда, пересилила здравый смысл. Снюхав предложенный кокаин за два подхода, чтобы не слишком сильно пострадала одна ноздря, Матвей в первую же минуту ощутил горечь в носоглотке, а нёбо онемело, залившись холодком.
- Расскажи о себе, - приказал Гриша, его сдавленный голос вдруг сделался из веселого крайне убежденным, - про Офтонь, про семью, про переезд сюда.
- Я думал, вы уже всё про меня знаете, - вскинул брови Матвей, - но раз надо, я…
- Естественно, знаю. Однако мне интересно выслушать именно тебя.
Расспрашивая Матвея про его малую родину, про родителей, про жизнь в Петербурге, Гриша вслушивался в каждое его слово, всматривался в мимику лица и движения рук. В его щедрости крылся расчет. Он прощупывал Матвея психологически: обращал внимание, на каких событиях тот расставляет акценты, чему уделяет важное место в повествовании, а что задвигает на задний план.
«Да уж, трезвым я бы его долго мурыжил», - подумал Гриша.
И без того гнусавый голос Матвея обзавелся тихим придыханием, словно кто-то сдавил его грудную клетку, из речи пропали нотки настороженности, а глаза алмазно заблестели, и это было заметно даже в полутьме. Чем дальше заходил рассказ, тем свободнее держался Матвей: он выпрямил спину, начал постукивать дрожащим пальцем по столешнице, переводил взгляд с одного предмета на другой. Он даже заулыбался, однако нижняя челюсть чуть подрагивала, смазывая контур улыбки.
- Я ничего не чувствую, - вдруг сообщил Матвей без прежних извиняющихся интонаций, на полуслове оборвав свой рассказ, - у меня, наверное, рецепторы выжжены.
- Тебе тревожно? – с насмешливым любопытством посмотрел на него Гриша.
- Нет.
- Может, ты злишься?
- Нет.
- Уверен в себе?
Задумавшись, Матвей понял, что это действительно так. Безудержно радоваться не хотелось, но в голове была хрустальная ясность – словно он стал даже трезвее, чем обычно.
- Во-от, - довольно протянул Гриша, заметив его удивление, - он мягкий, ненавязчивый. Нет ощущения, будто по голове молотком ударили. После свежатины, конечно, ощущения притуплены, но суть ты уловил. К тому же, до нас он доходит такой бодяжный… В Колумбии качество совсем другое, да и цены ниже. Сорок долларов, если ты гринго, а местные платят вообще по двадцать. Сказочные расценки.
- А вы были в Колумбии?
- Да, и не раз. Люблю проводить там отпуск, - снова лучезарно оскалился Гриша, - вот тебе и мотивация хорошо работать. Будешь проворным, будет и кокаин. И давай перейдем на ты, а то я себя эйчаром чувствую.
- Хорошо, давай, - с готовностью согласился Матвей.
- Итак, Грязев, ты должен был шесть тысяч Марату. Уже не должен. Что касается ста тысяч, которые ты задолжал нам из-за этой некрасивой истории… Раз уж Марат тебя оговорил, выходит, ты не обязан ничего нам возвращать. Лучше потрать их на что-нибудь нужное. Сними квартиру – хотя бы в черте города, чтобы не жить у черта на рогах. Мы целый час сюда ехали.
- Конечно, я перееду.
- Есть крупные долги, о которых мы не знаем? Можем помочь. Ты теперь работаешь на нас, значит, у тебя не должно быть нерешенных проблем.
- Нет, - помотал головой Матвей, - так, по мелочи…
Матвей действительно был должен: десять тысяч Ларисе, шесть тысяч Копейкину, по четыре тысячи Ладе с Асей… Однако он понимал, что если сейчас согласится принять помощь, ему, конечно, помогут, но при случае непременно это припомнят, а ухудшать положение и плодить обязательства он не желал.
- Жди меня здесь и никуда не уходи, - сказал Гриша и вышел, оставив Матвея одного.
«Смирись с тем, что тебя нанюхали, как дурака, и раскрутили на разговор, - скорчил Матвей своему отражению злобную гримасу, - и что теперь делать? Что вообще теперь делать? Надо как-то выполнять обязательства, раз позавчера у меня ничего не получилось. А то умереть наконец получится, вот только я этого больше не хочу»
Встав с дивана, Матвей подошел к двери, немного приоткрыл ее и выглянул в коридор. Раскатистым эхом до Матвея доносилось камлание речитатива, где отчетливо слышалось слово «убийство», гулко повторялись басовые раскаты, от которых норовили зашевелиться нервы. Гриши снаружи не было. В коридоре вообще никого не было, только в проеме, угол которого срезала тяжелая занавесь из черной кожи, дергались искристые нити света: сверкающие белым, сияющие желтым, блестящие красным... Прозрачно-зеленые лучи сплетались с красочно-синими. Цветные нити переливались настолько ярко, что Матвею стало больно и даже неприятно на них смотреть.
Прикрыв дверь, он отрезал себя от траурно-черных помещений, тревожной музыки и беснования красок. Заняв прежнее место, он откинул голову на покатую спинку дивана и закрыл глаза.
«Когда я торговал по своим, я не особо расстраивался. Разве что ментов стремался, а теперь их можно не бояться – всё равно меня уже поймали. Что еще может мне помешать? Получится ли оседлать тигра?»
- Тигра, блядь… - процедил Матвей сквозь зубы, осознав нелепость аналогии, и открыл глаза. Потолок над ним недвижимо брезжил тусклыми полосами голубого света, которые отпечатывались в расширенных зрачках Матвея искривленными траекториями.
Сквозь мыльные разводы стекла просачивался в кухню, заполненную обедающими жильцами, тягучий солнечный свет. Соня, одетая в мешковатую рубашку, больше напоминающую платье, глухими ударами ножа шинковала на доске морковь. Эфемерные вьющиеся пряди, которые выбились из неаккуратного пучка, спускались по шее к лопаткам, однако Соня этого не замечала. Она мелко двигала челюстью, будто пережевывая воздух.
Сидящие за столом Женя и Копейкин, два Евгения разных лет, сосредоточенно ели. Женя, сжимая половник, черпал гороховый суп прямо из железной кастрюльки и равнодушно, как сваренный речной рак, всматривался в желтоватую гущу. Копейкин пил чай и курил, втягивая дряблые щеки, на которых синеватыми точками пробивалась щетина. Каждая затяжка завершалась постукиванием пальца по сигарете, и в консервную банку, где когда-то был паштет, осыпался черно-белый пепел.
- Да где он ходит, уже третий час пошел… - простонала нахлобученная Соня, особенно резко впечатав нож в доску.
- И он каждый раз так опаздывает? – посмотрел на нее Женя. Голос его прозвучал сонно, студенисто, туповато. В отличие от постоянно ускоренных соседей, Женя всегда выглядел так, будто ему не хватало сна.
- Конечно, - она округлила глаза, подкрашенные металлически-серым, - почему-то они все непунктуальные мудаки. А ты как думал?
- И когда он должен был прийти?
- Он не называл точное время. Он сказал: «скоро».
- Тогда почему ты решила, что он опаздывает? – пожал плечами Женя. – Технически он ни в чем перед тобой не виноват.
Резко повернувшись, Соня кинула на него ненавидящий, ядовитый взгляд. Благоразумно замолчав, Женя со скребущим звуком зачерпнул еще один половник супа.
Матвей пришел совсем скоро. Не снимая кроссовки, имитирующие классический «Адидас», которые раньше носил Горбовский, в спешке забывший их забрать, он прошел в кухню и стянул с лица повязку из черной марли. Спрятав ее в нагрудный карман расстегнутой рубашки, под которой виднелась футболка, он сдержанно сообщил всем вместо приветствия:
- Торфяники горят.
На постном лице возле уголка рта пухло зрел красноватый прыщ с перламутровой точкой гноя. Пока Матвей убирал маску в карман, левый рукав немного задрался, и Соня заметила на его запястье глубокие набухшие порезы, покрытые вишнево-темной коркой.
- У тебя рука болит? – участливо спросила она, с ножом подойдя к Матвею и заглянув ему в глаза.
- У меня всё болит, - вздохнул Матвей. Отоспавшись после освобождения, он почти не выходил из комнаты, выбираясь лишь в уборную, на кухню и в магазин за сигаретами. Сразу же после пробуждения дала о себе знать тянущая боль, пропитавшая все мышцы, а тело окончательно налилось темно-синими полосами от резиновой дубинки и просто синяками разной гаммы и калибра.
Соня выжидающе уставилась на Матвея, который в свою очередь с таким же выражением уставился на нее. Женя недоуменно моргнул, заметив возникшее между ними легкое напряжение. Лишь Копейкин не обратил на них внимания, словно совсем не хотел пропускать через себя чужие переживания.
- Деньги давай, - напомнил Матвей, глядя на Соню с высоты своего роста.
- Да, точно, - спохватилась она и запустила руку под подол рубашки, где обнаружились шорты, - забыла, что теперь ты наличкой берешь, представляешь?
Завистливым взглядом Женя проводил три тысячные купюры, которые скрылись в кармане Матвея, а потом заметил зиплок с белым порошком, который мелькнул между ладонями – мужской и женской.
- Вы можете хотя бы не проворачивать свои дела на общей территории! – негодующе воскликнул Женя.
Кинув нож рядом с нарезанной морковью, Соня торопливо вышла из кухни, оставив его замечание без внимания, будто его значимость на фоне мефедрона поблекла, впрочем, как и всё остальное. Матвей отупело посмотрел на Женю, но ничего не сказал. Несмотря на два дня отдыха, он до сих пор пребывал в некоторой прострации.
Усевшись рядом с Копейкиным, он закурил и подвинул пепельницу так, чтобы до нее могли дотянуться все курящие. К потолку потянулась вторая тающая нить сизого дыма.
- Как ты, Матвейка? – с отеческой заботой спросил Копейкин, повернувшись к нему.
- Пока нормально, - мрачно пробормотал Матвей.
- Ты на вокзале будешь играть? Если нет, я передам Епифанову, чтобы он тебя не искал. Ты ведь в другое ведомство перешел, зачем тебе на вокзал ходить? – улыбнулся Копейкин, подводя итог.
- Я пока мало что понимаю. Сегодня мне должны всё объяснить, и я потом вам точно скажу.
Кивнув, Копейкин погрузился в задумчивое молчание.
- Пиздец, вас тут еще и двое было, - коротко и неожиданно для всех выпалил Женя, который никак не мог переварить возмущение, возникшее еще в день ареста Матвея.
- Пока ты не знал этого факта, тебя устраивало мое соседство, и ты не шарахался от меня, как это делают недалекие моралисты.
- Лучше бы ты и дальше сидел с баяном на вокзале и не лез в это говно.
- Лучше бы ты на хуй шел, - рассеянно парировал Матвей.
Фыркнув, Женя понес опустевшую кастрюльку к раковине. Зажурчала вода, звонко бьющаяся об потрескавшуюся эмаль мойки, об погнутое дно, покрытое застарелой гарью. Благоухая ягодным парфюмом, в кухню вернулась Соня – запускающая пальцы в распущенные волосы, грациозно, по-рабочему качающая покатыми бедрами.
- Прекрасно, Мотя! – экстатически воскликнула она, с оттяжкой поцеловав Матвея, не готового к такой любезности, в макушку. – Вол-шеб-но!
- Не за что... – с неохотой ответил он, не успев увернуться от ее поцелуя. Всякий раз, передав Соне мефедрон, он старался уйти как можно дальше, потому что в оприходовавшейся Соне вспыхивали искры любви, и она в знак благодарности за доставленное счастье лезла к нему целоваться. Не найдя его, она меняла цель и искала кого-нибудь другого, на ком можно было выразить кратковременную радость, однако сегодня Матвей вел себя слишком рассеянно, поэтому никуда не ушел.
Заняв освободившуюся табуретку, Соня вытащила из пачки тонкую сигарету, плотно сдавив фильтр зубами, и присоединилась к ежечасной процедуре проживающих в квартире курильщиков. Следующие несколько минут прошли в тишине, прерываемой только шорохом губки об железо, выдохами и стуком Сониных челюстей.
За рокотом подъезжающего автомобиля, двигатель которого заглушился у них под окнами, последовал протяжный скрип входной двери, иногда не запирающейся даже на ночь, потому что в квартире всегда кто-то бодрствовал. Как и несколько дней назад, утробную коммуналку на улице Юты Бондаровской посетил непрошеный гость. Это был молодой быковатый мужчина, в сухощавом лице которого виднелся проблеск маскируемой интеллигентности. Под загибом шапки блестели глаза, а черную кожаную куртку несуразно дополняли темно-синие спортивные штаны. Непрошеный гость лучезарно улыбался и шириной был, как два Матвея.
Соня удивленно, с намеком на кокетство моргнула, взмахнув ресницами, а Копейкин оглядел пришедшего с подозрением, которое оказалось не напрасным. Матвей же при виде гостя несколько сник.
- День добрый, Грязев, - довольно сказал мужчина, оперевшись на дверной косяк и шмыгнув носом, - рад знакомству. Меня Гриша зовут.
Как и ожидалось, в его речи не оказалось неподражаемой тягучей интонации, свойственной дворовой гопоте. Искомого человека он заметил сразу, что говорило об его информированности, и Матвею, конечно же, всё стало ясно.
- А вы… - нерешительно начал он, вдавив окурок в толщу консервной банки.
- Ага, я от Асфара Юнусовича. Собирайся, нас на Лиговском ждут.
Смотрелись Матвей и Гриша максимально контрастно. Футболку с надписью «Россия живет скоростями», Матвей покупал, когда весил на десяток килограммов больше, и теперь она мешковато висела на нем, доказывая правоту своего утверждения, а когда-то узкие джинсы с подкатами демонстрировали исхудалые обнаженные щиколотки с шишковатыми костными выступами.
- А я уже собрался, - сообщил Матвей, стараясь сохранять спокойствие.
- Прекрасно, - опять улыбнулся Гриша, но уже уголком рта, обнажив блестящие кромки зубов.
Когда он покинул квартиру, совершенно проигнорировав остальных, а следом за ним ушел и Матвей, Соня подкралась к окну и поманила пальцем Женю с Копейкиным. Возле угла двухэтажного дома, который строили в пятидесятых годах прошлого века, планируя сделать из него временное жилье, в малахитовой тени раскидистых лип был припаркован черный гелендваген, рублеными формами напоминающий плохо сколоченный гроб. На заднем стекле красовалась гордая, но затасканная и донельзя пошлая наклейка – «спасибо деду за победу», хотя биологический дед Гриши вряд ли имел какое-то отношение к вполне конкретной исторической победе, а еще меньшее отношение – к немецкому автопрому.
Сначала сел за руль Гриша, потом занял место смертника Матвей, и гелендваген, плавно тронувшись с места, выехал на узкую асфальтовую дорогу и скрылся за пределами видимости.
- Надеюсь, он от нас съедет, - тихо сказал Женя. Выбирая комнату, доступную по цене для студента, он надеялся найти хотя бы такую, где он не будет сталкиваться с нарушителями закона и его представителями – встречи со вторыми обычно заканчивались даже хуже, чем с первыми. Но с реальностью пришлось смириться, и он решил, что не стоит обращать внимание на то, что официально его соседи нигде не трудоустроены, но при этом откуда-то берут деньги. Однако несколько дней назад выяснилось, что два соседа из четырех торговали наркотиками, а один из них даже безнаказанно вернулся и теперь, видимо, притягивал к себе людей, рядом с которыми Женя на всякий случай оказываться не желал.
***
Возле площади Восстания временно перекрыли движение, и на Лиговском проспекте перед опустевшим участком дороги образовалась набирающая протяженность пробка, в самом начале которой оказался черный гелендваген. Окажись он в этой точке маршрута на несколько минут раньше, он вполне мог бы уже давно достичь пункта назначения.
- Гондоны, - беззлобно выдохнул Гриша, барабаня пальцами по рулю. Матвей, который за прошедший час не сказал ни слова, оглядывал местность, и в его взгляде читалась легкая озадаченность, то ли оставшаяся после недавних событий, то ли появившаяся перед грядущими переменами.
Справа от обелиска, увенчанного звездой, на крыше одного из домов старого фонда светился экран, где на багровую громаду Кремля накладывался профиль Громова, облагороженный ретушью. На фоне пасмурного неба сияли железные крыши, в которых отражалась подступающая с другой стороны небесная синь – они сверкали настолько ярко, будто кто-то незримый натер их фосфором. В лужах, оставленных утренним дождем, отражалась черно-голубая граница туч и чистого небесного свода, медленно перемещающаяся все дальше. А вот пробка стояла на месте.
По тротуарам сновали казачьи патрули, взмыленные полицейские и хмурые люди в штатском, а над скопищем, которое походило на муравьиные круги смерти, жужжали пчелиным роем полицейские и казачьи дроны. В отличие от Матвея, которого представшее зрелище потрясло, Гриша с неподдельным безразличием проводил взглядом правительственный кортеж из маслянисто-черных люксовых иномарок, за которыми, как пчелиный рой, следовала цепочка боевых дронов. Замыкал кортеж двуногий робот «Игорек», порождение концерна «Калашников» - механическая пятиметровая конструкция с парой рук и огромной кабиной вместо тела, за тонированными стеклами которой скрывался оператор.
- Не бойся меня, я только с виду такой страшный. Пальцы ломать не буду. Если не дашь повода, конечно, - издал Гриша добродушный смешок, решив, что пришла пора всё разъяснить.
С удивлением, которое было скорее печальным, чем радостным, Матвей узнал, что теперь он работает на невский синдикат, а если точнее, то непосредственно на Асфара Юнусовича, который был куда влиятельнее мелкотравчатых капитанов, наслаждающихся локальной властью, как феодальные царьки. Гриша же должен был решать проблемы Матвея, связанные с неадекватными и конфликтными клиентами, которые были неизбежными элементами энтропии.
Каждое тридцатое число месяца Матвей обязан был переводить пятьдесят тысяч рублей на счет, открытый неизвестным лицом в Hong Kong Construction Bank, который был для российской правоохранительной системы недосягаемым и обеспечивал клиентам, какими бы они ни были, максимальную приватность. Зафиксировать подати Матвея налоговая РФ не могла, соответственно, формально они в природе не существовали, будучи лишь каплей в море черной, пока еще не отмытой денежной массы.
Когда Гриша сообщил, что повышение заработка влечет за собой и повышение поборов, Матвей не удивился и лишь болезненно поморщился.
- Все необходимое сообщать тебе буду я и больше никто. Ну или Асфар Юнусович, но для этого нужно быть рангом повыше, хе-хе… Если нарисуется некто, говорящий от имени Асфара Юнусовича или от моего имени, знай, что к нам он отношения не имеет.
- Понял, - глухо сказал Матвей.
- Тебе очень повезло, что ты столкнулся с Асфаром Юнусовичем, еще и при таких обстоятельствах, - задумчиво посмотрел на него Гриша, - с ним контактирует узкий круг внешних сотрудников, и раз уж он встроил тебя в систему, значит, где-то ты ему пригодишься.
Кортеж превратился в черную точку, скользящую по Невскому проспекту к невидимому горизонту. Под голубеющим небом исчезали в боковых улицах казаки и полицейские, за ними следовали дроны, рой которых постепенно распадался и терял целостность.
- Можешь что-нибудь спросить, - подытожил Гриша, - не стесняйся.
«Легко сказать», - промелькнуло в голове у Матвея, и он спросил:
- Вы куратор?
- Не совсем. Я старший сотрудник службы охраны. И, что гораздо важнее, помощник Асфара Юнусовича.
- Ясно, - произнес Матвей и робко потупился. Ответ не успокоил волнение, постепенно перерождающееся в страшок, а лишь подлил масла в огонь, и Матвею хотелось оказаться где угодно, но не в гелендвагене, резкие грани которого были бронированными. Соседство Гриши, который держался с непонятной веселостью, только усиливало нехорошие предчувствия, которые плодились в нутре Матвея, как смрадные тараканы. Заметив его смятение, Гриша доверительно заглянул ему в глаза и спросил:
- Что ты думаешь по поводу сложившейся ситуации? У тебя возникают моральные сомнения? Может, тебя возмущает тот факт, что наркоторговлей занимается ФСКН?
– Так вы же выполняете свою функцию, контролируете оборот. Не вижу причин возмущаться, - с мрачным лицом произнес Матвей, выдержав пытливый взгляд собеседника. Гриша довольно, искренне загоготал.
Когда кортеж удалился на достаточно безопасное расстояние, проезд наконец разрешили, и на тротуарах замелькали, сменяя друг друга, неоновые вывески баров, голографические меню в окнах столовых и разбредающиеся по центру города казачьи патрули.
Пунктом назначения оказался бар «Demente»: латинские буквы над входом мерцали бензиновыми переливами, а внутри были объяты полумраком барная стойка, общий зал и скромный танцпол. В дальнем углу, окружив столик с кальяном, сидела группка деловитых китайцев в брючных костюмах, а на танцполе, под радужными бликами цветомузыки танцевали не в такт музыке три женщины. Из неизвестной точки помещения доносился трэп с утробными басами, но женщины, кажется, слышали совсем другую, свою музыку.
Черные потолок и стены были расписаны мелом: шутливые фразы на грани фола, написанные старославянским шрифтом, перемежались анатомически точными фрагментами костей, относящихся к человеческому скелету. В дальнем углу зала, под четко очерченным контуром тазобедренных костей виднелся такой же темный коридор, проход в который обрамляла черная кожаная занавесь, собранная в тяжелые складки.
Гриша, час назад бывший крайне воодушевленным и даже фамильярным, словно в один момент помрачнел, и на его лице отпечаталась легкая мрачность, придавшая ему угрожающий вид. На всякий случай не задавая вопросов, Матвей прошел за ним в темный коридор, а потом и в самую дальнюю комнату.
В зеркальных панелях стен отражался потолок, исчерченный широкими флюоресцентными полосами, которые были единственным источником света – бледно-голубого, практически мертвенного. На квадратном столе не было ничего, кроме салфетницы и квадратно-синего блюдца, на котором стояла сахарница. В зеркалах отражались сидящие по левую сторону стола сотрудник Рубцов и Марат. Рубцов сегодня выглядел подавленно, даже вид у него был немного виноватый, а Марат угнетенно молчал, не обращая внимания на происходящее вокруг. Его угловато искривленная фигура со сгорбленной спиной растекалась по дивану. Сонливость Марата явно была неестественного происхождения: либо ее вызвали опиаты, либо транквилизаторы. Марата давно, очень давно не видели в таком состоянии.
Матвей нерешительно застыл у двери. Гриша мягко подтолкнул его в спину:
- Никого не бойся. Чувствуй себя, как дома.
С трудом сгибая ноги, Матвей сел на диван, который стоял по правую сторону стола, а свободное место рядом с ним занял Гриша. Матвею по какой-то причине вспомнилась кассирша из «Пятерочки», тетя Настя, которая часто пила чай с его матерью и была совсем из другого мира, нежели его нынешние собеседники. Вряд ли она часто задумывалась о существовании этого другого мира, возможно, она вообще считала его частью художественного вымысла, из которого состояли российские сериалы про любовь, преодолевающую чернушные преграды, и порывистых, зато честных ментов. Раздраженный тупостью подопечных, Гриша участливо, но с нескрываемой угрозой спросил:
- Как же ты так оплошал, Марат? В ограблении их обвинил, деньги с карты снял, а лицо на камеру засветил. Почему ты стал таким забывчивым?
Вопрос был саркастичный и, конечно же, риторический, несущий исключительно садистскую функцию, потому что взгляд живого Марата, лишенный всякой осознанности, был устремлен в одну точку. Гриша демонстративно посмотрел на Матвея:
- Как поступим с Маратом?
- Не знаю... – невнятно пробормотал Матвей.
- Нехорошо получилось, Федя, - обратился Гриша к поникшему Рубцову, - проморгал вранье, а человека уже взяли на карандаш. Ему теперь придется с нами работать, вряд ли он на это рассчитывал. Правда, Грязев?
Матвей нерешительно склонил голову. В лакированной столешнице сырыми бликами отражался рассеянный лазоревый свет. Раздался грудной, но твердый голос Рубцова:
- Я смотрел выписку операций, и снятие восьмидесяти тысяч было в указанное Маратом время.
Зыбкие бирюзовые полутени придавали происходящему вокруг малую долю неестественности, накладываясь на реальность комнаты рериховскими слоями. Матвей заметил, что у Рубцова аккуратные мелкие зубы, не соответствующие его массивным габаритам.
- Естественно, он ведь сам их снял. Возможно, тебе было лень смотреть записи с камер, но в следующий раз не ленись, пожалуйста. А то косячит один, - покосился Гриша на Марата, - а боком выходит всем. Правда же?
Снова ощутив на себе пристальный взгляд Гриши, Матвей робко поднял голову и краем глаза заметил в зеркальной стене свое растерянное лицо, погруженную в рыхлую синеву.
- Молчишь, как сыч, - издал Гриша тихий смешок и, расслабившись, приказал Рубцову, - как договаривались, Федя, на Пулковское.
Деловито кивнув, Рубцов подхватил Марата, закинув его руку себе на плечо, как обычно поступают с пьяными, которые худо-бедно могут идти, но уже ничего не соображают. Осторожно прикрыв за собой дверь, Рубцов вместе с невменяемым и равнодушным, как пустынное животное, Маратом исчез в полумраке.
Как будто сняв угрожающую маску, Гриша снова улыбнулся Матвею, хотя уже не так лучезарно, как в Новом Петергофе:
- Асфар Юнусович сказал, что ты колешься свежестью. Говно то еще.
Матвей нервно улыбнулся в ответ.
Видимо, посчитав поручение успешно выполненным, Гриша дал себе волю и достал из кармана спортивных штанов зиплок, туго набитый белым порошком, который в неживом свете комнаты казался бледно-голубым. Поставив перед собой квадратное блюдце, Гриша высыпал на него массивную щепоть. На столе появились кредитная карточка гонконгского банка и свернутая в тугую трубочку купюра, глядящая на Матвея выпученным глазом Бенджамина Франклина.
- Отчество у тебя забавное, - усмехнулся Гриша, вычерчивая на блюдце две равные жирноватые дорожки, выдающие стаж его употребления.
– Германович? - переспросил Матвей, сбитый с толку его заявлением. Ему свое отчество никогда смешным не казалось.
– Ага. Герыч! - захохотал Гриша с легкой ноткой визга. – Еще и фамилия… Тебе бы с такими паспортными данными опиатами торговать. Героиновый барыжка Грязев – смешно же.
- Ага, - сдержанно ответил Матвей. Всё встало на свои места. Ослепительная улыбка Гриши была обусловлена совсем не личным отношением, она была следствием уверенности, и уверенность эта была кокаиновой. В том, что за час его настроение из воодушевленного резко стало мрачным, не было ничего удивительного. Это был естественный ход вещей.
Приставив купюру к ноздре, Гриша резко шмыгнул, разом втянул толстый штрих дороги и блаженно запрокинул голову. Отдышавшись и поморгав в потолок, он хрустнул суставами пальцев и повел головой, чтобы размять шею.
- Грязев, ты пробовал кокаин?
- Нет, - осторожным полушепотом ответил Матвей, стараясь не смотреть на синее блюдце, чтобы не выдать своего интереса.
- Давай-ка одну, а то ты слишком зажатый, - решительно заявил Гриша и гостеприимно пододвинул к нему блюдце, - ты за все время три слова сказал. Куда это годится?
Матвею тяжело было разобраться в смятении чувств, однако цифры говорили сами за себя: в Петербурге, культурной столице и городе Петра Великого, грамм кокаина стоил от десяти тысяч рублей и выше, в Москве же цена доходила до двадцати пяти тысяч. Средняя зарплата в Офтони, если не учитывать заводчан, составляла пятнадцать тысяч рублей в месяц. Заводчане получали больше – двадцать тысяч. Так уж повелось, что половина жителей Офтони работала на вредном производстве, подвергая себя риску развития онкологии, а оставшаяся половина трудилась в сфере обслуживания, дыша загрязненным воздухом и тоже подвергая себя риску развития онкологии, хоть и в меньшей степени.
Торчковая натура, как и всегда, пересилила здравый смысл. Снюхав предложенный кокаин за два подхода, чтобы не слишком сильно пострадала одна ноздря, Матвей в первую же минуту ощутил горечь в носоглотке, а нёбо онемело, залившись холодком.
- Расскажи о себе, - приказал Гриша, его сдавленный голос вдруг сделался из веселого крайне убежденным, - про Офтонь, про семью, про переезд сюда.
- Я думал, вы уже всё про меня знаете, - вскинул брови Матвей, - но раз надо, я…
- Естественно, знаю. Однако мне интересно выслушать именно тебя.
Расспрашивая Матвея про его малую родину, про родителей, про жизнь в Петербурге, Гриша вслушивался в каждое его слово, всматривался в мимику лица и движения рук. В его щедрости крылся расчет. Он прощупывал Матвея психологически: обращал внимание, на каких событиях тот расставляет акценты, чему уделяет важное место в повествовании, а что задвигает на задний план.
«Да уж, трезвым я бы его долго мурыжил», - подумал Гриша.
И без того гнусавый голос Матвея обзавелся тихим придыханием, словно кто-то сдавил его грудную клетку, из речи пропали нотки настороженности, а глаза алмазно заблестели, и это было заметно даже в полутьме. Чем дальше заходил рассказ, тем свободнее держался Матвей: он выпрямил спину, начал постукивать дрожащим пальцем по столешнице, переводил взгляд с одного предмета на другой. Он даже заулыбался, однако нижняя челюсть чуть подрагивала, смазывая контур улыбки.
- Я ничего не чувствую, - вдруг сообщил Матвей без прежних извиняющихся интонаций, на полуслове оборвав свой рассказ, - у меня, наверное, рецепторы выжжены.
- Тебе тревожно? – с насмешливым любопытством посмотрел на него Гриша.
- Нет.
- Может, ты злишься?
- Нет.
- Уверен в себе?
Задумавшись, Матвей понял, что это действительно так. Безудержно радоваться не хотелось, но в голове была хрустальная ясность – словно он стал даже трезвее, чем обычно.
- Во-от, - довольно протянул Гриша, заметив его удивление, - он мягкий, ненавязчивый. Нет ощущения, будто по голове молотком ударили. После свежатины, конечно, ощущения притуплены, но суть ты уловил. К тому же, до нас он доходит такой бодяжный… В Колумбии качество совсем другое, да и цены ниже. Сорок долларов, если ты гринго, а местные платят вообще по двадцать. Сказочные расценки.
- А вы были в Колумбии?
- Да, и не раз. Люблю проводить там отпуск, - снова лучезарно оскалился Гриша, - вот тебе и мотивация хорошо работать. Будешь проворным, будет и кокаин. И давай перейдем на ты, а то я себя эйчаром чувствую.
- Хорошо, давай, - с готовностью согласился Матвей.
- Итак, Грязев, ты должен был шесть тысяч Марату. Уже не должен. Что касается ста тысяч, которые ты задолжал нам из-за этой некрасивой истории… Раз уж Марат тебя оговорил, выходит, ты не обязан ничего нам возвращать. Лучше потрать их на что-нибудь нужное. Сними квартиру – хотя бы в черте города, чтобы не жить у черта на рогах. Мы целый час сюда ехали.
- Конечно, я перееду.
- Есть крупные долги, о которых мы не знаем? Можем помочь. Ты теперь работаешь на нас, значит, у тебя не должно быть нерешенных проблем.
- Нет, - помотал головой Матвей, - так, по мелочи…
Матвей действительно был должен: десять тысяч Ларисе, шесть тысяч Копейкину, по четыре тысячи Ладе с Асей… Однако он понимал, что если сейчас согласится принять помощь, ему, конечно, помогут, но при случае непременно это припомнят, а ухудшать положение и плодить обязательства он не желал.
- Жди меня здесь и никуда не уходи, - сказал Гриша и вышел, оставив Матвея одного.
«Смирись с тем, что тебя нанюхали, как дурака, и раскрутили на разговор, - скорчил Матвей своему отражению злобную гримасу, - и что теперь делать? Что вообще теперь делать? Надо как-то выполнять обязательства, раз позавчера у меня ничего не получилось. А то умереть наконец получится, вот только я этого больше не хочу»
Встав с дивана, Матвей подошел к двери, немного приоткрыл ее и выглянул в коридор. Раскатистым эхом до Матвея доносилось камлание речитатива, где отчетливо слышалось слово «убийство», гулко повторялись басовые раскаты, от которых норовили зашевелиться нервы. Гриши снаружи не было. В коридоре вообще никого не было, только в проеме, угол которого срезала тяжелая занавесь из черной кожи, дергались искристые нити света: сверкающие белым, сияющие желтым, блестящие красным... Прозрачно-зеленые лучи сплетались с красочно-синими. Цветные нити переливались настолько ярко, что Матвею стало больно и даже неприятно на них смотреть.
Прикрыв дверь, он отрезал себя от траурно-черных помещений, тревожной музыки и беснования красок. Заняв прежнее место, он откинул голову на покатую спинку дивана и закрыл глаза.
«Когда я торговал по своим, я не особо расстраивался. Разве что ментов стремался, а теперь их можно не бояться – всё равно меня уже поймали. Что еще может мне помешать? Получится ли оседлать тигра?»
- Тигра, блядь… - процедил Матвей сквозь зубы, осознав нелепость аналогии, и открыл глаза. Потолок над ним недвижимо брезжил тусклыми полосами голубого света, которые отпечатывались в расширенных зрачках Матвея искривленными траекториями.
КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
ЧАСТЬ II
Пусть не привлечет тебя тусклый голубой свет мира животных; не будь слабым. Если он привлечет тебя, тебя унесет в мир животных, где царит глупость, и ты испытаешь безграничные муки рабства, тупости и глупости. И пройдет долгий срок, прежде чем ты сможешь выйти оттуда.
"Тибетская книга мертвых"
"Тибетская книга мертвых"
Глава 8
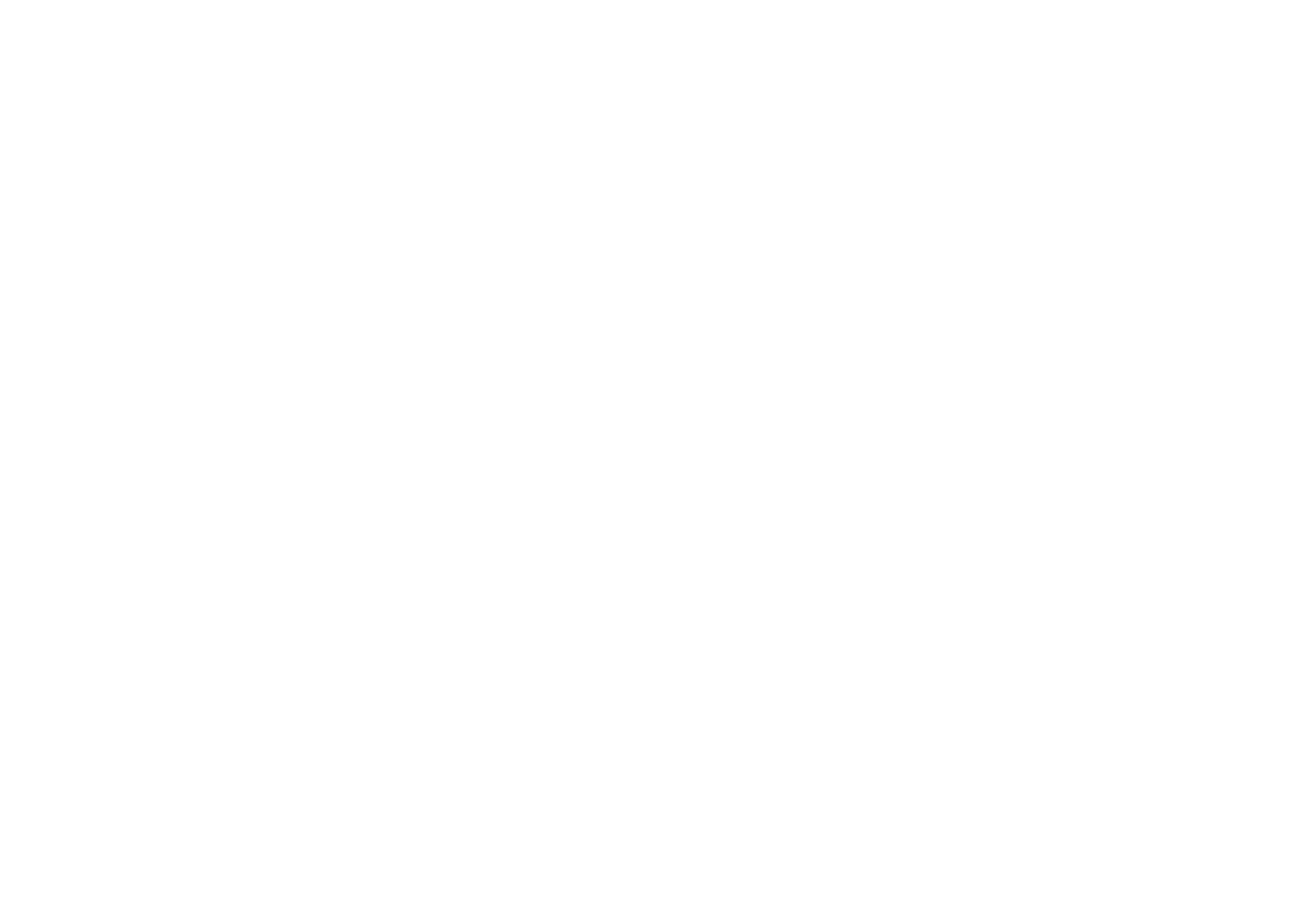
Внутренние конфликты, желания, угрызения совести делают из нас мучающихся существ, прикованных к своим страстям. Научись умиротворять свой разум, если ты хочешь быть счастливым.
Дугпа Ринпоче, «Жизненные наставления далай-ламы»
Дугпа Ринпоче, «Жизненные наставления далай-ламы»
декабрь, 2030 год
Поделив Петербург на кольца эпох, можно увидеть четкую границу между архитектурными волнами. Вокруг центра – сердцевины, где еще до революции возвели кирпичные дома малой этажности, ставшие памятниками архитектуры и диковинками для туристов – тянутся тонкие нити строгих геометрических форм, присущих ранней советской архитектуре. Следующее за ним монументальное изящество сталинского ампира ближе к окраинам сменяется тесным хороводом типовых панельных домов, группирующихся в спальные районы, до которых, впрочем, можно добраться на метро. Словно клопы, присасывающиеся к телу человека, спящего в дешевой ночлежке, коих в Петербурге много и по сей день, неровным контуром облепляют город свежие микрорайоны и пригороды – стеклянные высотки скандинавского вида и пестрой расцветки.
Хмурый, застывший декабрьский полдень осыпал Петербург густыми охапками серебристого снега, резные белые хлопья падали на мерцающие под искусственным светом сугробы и хрупкую ледяную корку, которая сковала людные улицы и глухие закоулки. На конце красной ветки метрополитена, перед Девяткино, дремал Калининский район: пустовали квартиры жильцов, ушедших на работу, сонно ворочались в постелях те, кому повезло отдыхать не только в воскресенье, но еще и в субботу.
Восемнадцатый дом на улице Ушинского, отделенный от метро двадцатью минутами пешей прогулки, не мог похвастать оригинальным фасадом. Щели между бетонными панелями были щедро и напоказ замазаны серыми штрихами герметика, а сами панели смотрели на заснеженные окрестности однотонным покрытием из бежевых квадратов, где виднелись слепые пустоты – не все сегменты выдержали испытание временем. Эстетичной можно было счесть разве что облицовку крылец. Железные двери с домофонами окружали черно-белые мозаики в виде повторяющегося паттерна – узких треугольников, от которых рябило в глазах, а дверь крайнего левого крыльца даже окаймляли черно-белые ленты древнегреческого меандра. Общим для обоих узоров была завуалированная свастичность.
Не было в доме и простора. Узкая парадная, на крошечных лестничных клетках которой парадоксальным образом умещался даже мусоропровод, лифт, навевающий мысли о цинковых гробах, черная железная дверь и тридцать квадратных метров, четыре из которых были щедро отведены под прихожую – именно такие декорации окружали Матвея уже пятый месяц подряд. Ежемесячно он отдавал за них по двадцать пять тысяч и находил новое жилье очень даже сносным. В конце концов, однокомнатная квартира принадлежала ему полностью: не было нужды делить с соседями плиту и санузел, не было опасения, что ушлая соседка может взломать замок, чтобы обнести уже наконец милого сердцу распространителя. Еще в квартире была надежная и всегда запертая входная дверь.
Хозяйка квартиры, Александра Сергеевна, была импозантной женщиной в возрасте сорока пяти лет, которая носила строгие брючные костюмы с остро выглаженными стрелками, красила симметричное каре в темно-фиолетовый цвет и никогда не закатывала рукава. Однако своеобразие ее заключалось совсем в другом: она никогда не приходила без предупреждения, не задавала лишних вопросов и даже не интересовалась, кем работает Матвей, как обычно делают хозяева квартир, чтобы убедиться в платежеспособности квартиранта.
- Значит, ты свободный копейщик, - звонко перебила его Александра Сергеевна, когда Матвей во время первой встречи решил соврать о профессии и упомянул копирайтинг, - и дым отечества тебе сладок и приятен. Вот и прекрасно. В квартире хороший вай-фай.
Небрежность тона неприкрыто демонстрировала, что Александре Сергеевне, в общем-то, было все равно, где Матвей работает. Ее интересовал лишь конечный результат в виде ренты. Иногда, если приходилось к слову, она делилась скупыми фрагментами биографии, где присутствовали детство, проведенное в Нижней Салде, тянущий голодок девяностых, столкновение родителей с рэкетирами и всегда заряженное ружье, лежащее на шкафу, так что Матвей ничуть не удивился ее тяге к деньгам.
Памятуя о необходимой для профессии умеренной паранойе, Матвей решил подстраховаться и спрятал в коридоре, за подставкой для обуви бейсбольную биту, а спать начал с электрошокером под подушкой. На улицу он теперь с пустыми карманами не выходил: в одном лежала сложенная телескопическая дубинка, а в другом два телефона - личный, для связи с друзьями и Гришей, и рабочий.
Через неделю после переезда Матвей встретился на Гражданском проспекте с Ларисой, которая обязалась принести ему куб свежести. В темном, как морские глубины, куполе неба, тускло мерцал лунный серп, омывающий застывшим светом длинный кирпичный дом советской постройки, нагромождение конструктивистских кубов, и асфальтовую дорогу, в лужах которой отпечатывались мимолетные огни фар и хлюпкий рельеф шин. Широко растягивая губы в тонкой улыбке, но не показывая, как обычно, зубов, Лариса передала Матвею прохладный фурик, на дне которого плескалась желтоватая жидкость.
- У тебя не было проблем… из-за случившегося? – осторожно спросил Матвей, убрав фурик.
- Конечно, не было, - бросила на него загадочный взгляд Лариса, поняв суть его вопроса, - я ведь ничего не знала.
Август прошел без особых проблем, однако все равно оказался для Матвея напряженным. Несмотря на то, что он наконец поставил взамен разрушившегося зуба искусственный, несмотря на то, что он лишился вынужденной необходимости в продуктах «Красная цена», несмотря на то, что денег на первый месяц хватило, Матвей все равно ощущал нависающий над головой дамоклов меч. Если бы не сто тысяч, которые Гриша любезно разрешил не возвращать, ничего этого не было бы.
Жить с таким ощущением оказалось слишком тягостно, с этим срочно нужно было что-то делать, и в круг клиентов добавились друзья друзей, которые только обрадовались перспективе брать у проверенного товарищами поставщика, которого уж точно внезапно не примут. Поразмышляв, Матвей нанял трафаретчика, который добавил к многочисленным объявлениям на петербургском асфальте скромную сотню объявлений Матвея, и клиентов стало ощутимо больше. Вот только их Матвей совсем не знал, поэтому лицом к лицу с ними не встречался, отправляя искать закладки. Делать надежные клады он научился еще в Офтони и, как показала практика, сноровки не растерял. Оставалось только принимать заявки и отправлять страждущих по готовым адресам.
В размеренном темпе Матвей дожил до декабря, отметил двадцатилетие, и ничто пока не омрачало его существование в новом статусе, который, надо признать, в чем-то был даже комфортным. Поборы Асфара Юнусовича возросли до ста тысяч, но отдавать четверть дохода, который со временем тоже возрос, было гораздо лучше, чем сидеть. Дни проходили однообразно: утром, которое наступало в обед, Матвей фасовал товар, вечером встречался с друзьями, которые постепенно превращались в клиентов, а ближе к ночи раскладывал свежие закладки. Свободное время он проводил в барах и кальянных и с долей горечи замечал, что круг друзей так и норовит разрастись, поэтому не допускал в него новых знакомых, которые пытались набиться в приятели исключительно из личной корысти.
Этот декабрьский день ничем не отличался от остальных. В обрамлении зеленых штор наползали друг на друга плотные волны туч, сквозь которые с трудом пробивался блеклый, свойственный зиме огонь солнца. Шумно гудел за стенкой соседский бойлер. Сидя за кухонным столом, где были разложены катушки разноцветной изоленты, упаковки мелких круглых магнитов и зиплоки, Матвей нервно постукивал пальцем по электронным весам и разочарованно смотрел на возвышающуюся на блюдце горку мефедрона. Только что Матвей растер между подушечками пальцев скромную щепотку, проверяя порошок на однородность, и его однородность оказалась очень неоднозначной.
- Да уж, негусто… - протянул Матвей, кисло поморщившись, щупая кончиком языка непривычно гладкую металлокерамику. Разбавлять такое ассорти было рискованно.
«Потом разберусь», - решил он, недолго думая, и ссыпал мефедрон обратно в зиплок. Убрав инструментарий в ящик стола, где раньше лежали столовые приборы, Матвей встал с табуретки, потянулся, хрустнув спиной, и направился в зал.
Хотя квадратных метров в зале было больше, чем в комнате на Юты Бондаровской, из-за узости стен он казался таким же. Пластиковое окно, открывающее обзор на двор с высоты девятого этажа, закрывали не только тяжеловесные шторы, но и тонкий, как паутина, тюль, а светло-желтый паркет, опять уложенный елочкой, дополнял красный ковер старого производства, узбекский орнамент которого был немного фрактальным даже для трезвого глаза. На обоях тускло блестели огоньки оранжевых цветов, а деревянная односпальная кровать из икеи, упирающаяся изголовьем в подоконник, была застлана постельным бельем похожей расцветки. Изножьем кровать касалась темного лакированного шкафа, закрытая половина которого служила гардеробом, а открытая половина, разбитая на полки, была занята книгами Матвея, золотистой статуэткой Будды и лава-лампой.
Однако Матвея интересовало мягкое кресло с подлокотниками, стоящее напротив кровати, по другую сторону окна. На спинке кресла лежал скомканный плед, под которым виднелась подушка с вышивкой на наволочке – яркого оперения петухом.
Матвей расстегнул молнию наволочки, запустил руку в складки синтепона и извлек оттуда контейнер для таблеток, купленный в фикс-прайсе за сто рублей. Он деловито осмотрел его доверху набитое нутро, разделенное на пять секций. Две секции были заполнены мелкими фитюлями со спидами и мефедроном, туго обмотанными желтой и синей изолентой, а в оставшихся трех лежали таблетки экстази – белые домино, красные сердца и розовые вишни. Цена содержимого измерялась десятками тысяч, которые Матвей терять ни в коем случае не хотел.
Близилось время двух встреч, из которых наиболее любопытной для Матвея была вторая. Достав три синие фитюли, предназначенные Соне, и одну желтую, которую хотел получить второй клиент, Матвей защелкнул крышку, спрятал контейнер обратно и застегнул наволочку. На белом пластике подоконника, в бедном свете зимнего дня четыре фитюли напоминали крупные бусины. Завершали красноречивый натюрморт новый шприц в хрустящей упаковке, фурик свежести и резиновый жгут.
Перед выходом на улицу следовал взбодриться. Матвей удобно расположился в кресле и набрал в шприц полтора куба свежести, звякнув стальной иглой об стеклянное горлышко. Закатал рукав светлой рубашки и сделал аккуратную инъекцию в левое запястье. Посмаковав слабое подобие прежних обжигающих приходов, он вздохнул полной грудью и пружинисто встал на ноги. Надел темно-синюю приталенную кожаную куртку. Убрал в нагрудный карман в меру разбодяженные фитюли. Проверил ширину зрачков, заглянув перед выходом в зеркало, висящее в прихожей.
За окнами вагона, направляющегося к Лиговскому проспекту, мелькали стены метро, увитые толстыми черными проводами, похожими на жирных гадюк, вагон несся сквозь подземелье, как дождевой червь, останавливаясь на станциях, чтобы впустить и выпустить муравьиную толпу пассажиров – многоголосую, густую, кипучую. Уместившись рядом с дверью, Матвей читал карманное издание Мамлеева, «Мир и хохот», однако погрузиться в книгу полностью не удавалось – отвлекали внешние импульсы и обрывки разговоров.
- …мало того, что он по сердцу бьет, так еще и зависимость вызывает… - сказал в толпе юношеский голос неопределенного пола.
Матвей поднял голову и черными от зрачков глазами скользнул по ряду рекламных плакатов, приклеенных к оконному стеклу. Выглядывал из зеленой листвы дружелюбный 3D-енот в клетчатой рубашке, живущий, судя по броской надписи, в ЖК «Юнтолово», низкорослый и не менее дружелюбный корги иллюстрировал обещание самых низких процентов по ипотеке, а с третьего плаката самоуверенно улыбался шоумен, один из представителей ТНТ. Надменную ухмылку шоумена дополняли горящий взгляд и суховатые кокаиновые щеки.
Оказавшись под Лиговским проспектом, Матвей убрал книгу во внутренний карман куртки, вышел из вагона и поднялся на стылую поверхность. Хмурое небо налилось синевой, снег посыпался еще ожесточеннее – набиваясь в волосы, за ворот, касаясь голой шеи. Это было скорее неприятно, чем холодно, и ускоренный Матвей надел капюшон толстовки. Стало жарковато, но дискомфортное тактильное ощущение исчезло.
Соня ждала его на Контейнерной улице, как они и договаривались. Миновав стайку курящих ровесников неформально-хипстерского вида и лоток с носками психоделической расцветки, прячущийся в арке, Матвей разглядел впереди ее нескладный силуэт. Положив ногу на ногу, Соня сидела на одной из строительных катушек, которые рядком стояли под зеленым окном японской закусочной, и покачивала ногой, обутой в огненно-красный ботинок на высокой платформе. В полотне черных волос появились перья мелирования, которых позавчера не было.
Матвей нахмурился, однако Соня, то ли не замечая этого, то ли просто игнорируя, вскочила с катушки и целеустремленно зашагала к нему. Скупо поздоровавшись и ответив на этикетное «как дела», он отдал Соне фитюли с мефедроном, которые она не замедлила убрать в карман бледно-синей шубы, открывающей ноги.
- Может, акцию сделаешь? Три по цене двух? – осведомилась Соня, взглянув на Матвея настороженно и в то же время с долей надежды. Чтобы усилить эффект, она интимным жестом положила ладонь Матвею на плечо.
- Нет, не сделаю, - ответил он, сбросив с себя ее руку, - а три тысячи ты в понедельник отдашь.
- Как скажешь, Мотенька. Злой ты сегодня, хотя упоротый. Странно это.
Сказано это было невинным тоном, будто под ним не скрывался злорадный и весьма конкретный посыл: Соня видела темные глаза Матвея, налившиеся тяжелым блеском, видела чуть влажное от пота и внутреннего жара лицо, однако прежде эти два признака не сопровождались угрюмым поведением. Соня уловила важную для Матвея досадную перемену, а Матвей уловил ядовитый подтекст ее удивленной реплики.
- Будешь так долбить, никогда на Грузию не накопишь, - разозлился он.
Уже больше года свежесть меняла его мировосприятие не в лучшую сторону: Матвей все чаще и чаще ловил себя на неожиданных агрессивных порывах, которые не зависели от опьянения и случались даже в трезвые дни. Порывы, к счастью, быстро гасли и принимали пока только вербальную форму, да и говорить иначе с жертвами порывов было нельзя – хорошее отношение они принимали за терпильство, а понимали только грубый и однозначный отказ. Но растущий с каждым днем толер был куда хуже, потому что тащил вверх и дозировку, а прежнего результата все равно не давал.
– Ты мне еще мораль почитай, мразота. Как новоселье? Совесть не мучает? – прошипела Соня в лицо Матвею, вмиг стряхнув напускную ласку, как выбежавшая из воды собака.
– Не вали все на меня. Я вношу в ситуацию лишь половину вклада. Ты взрослая и дееспособная, обладаешь свободной волей. Не будь меня, ты бы у другого брала. Вы же сами находите, даже делать ничего не надо.
Соня бросилась на Матвея, но в последний момент, когда он уже хотел ее оттолкнуть, отшатнулась, чуть не упав на притоптанный подошвами снег, и воскликнула:
– «Вы»? То есть, мысленно ты уже границу провел? Сам-то торчал только в путь, а теперь брезгливо рожу воротишь! Теперь у тебя деньги есть!
– Не долблю, как поехавший, потому и деньги есть.
Развернувшись на месте и покинув вспылившую Соню, Матвей с облегчением зашагал по обратному маршруту. Он надеялся, что Соня отъедет раньше, чем придет срок возвращать долги, потому что сегодняшний долг был не первым, и минус, в который она ушла, насчитывал уже девять тысяч. Никакие обещания не могли скрыть того, что по-хорошему она возвращать деньги не собиралась, а Матвею не хотелось принуждать ее силой. Хотя понимал, что в какой-то момент ему придется это сделать.
Спустившись в метро, Матвей забился в самый конец вагона и вернулся к чтению. Подрагивал пол под ногами, стучали по рельсам стальные блины колес, высекая монотонных двухтактный ритм. В кармане остался только грамм амфетамина, заказанный и оплаченный пользователем со смутно знакомым юзернеймом Zedolor. Матвей взял за правило не встречаться с незнакомыми покупателями, однако сегодня ехал на Сенную, в кафе «Кристалл», где забронировал столик на имя Анатолия.
Собеседник не скрывал номер телефона, и Матвей, вбив его в поиск, узнал, что по этому номеру можно связаться с оппозиционным активистом Глебом Щипцовым, консультирующим людей по вопросам правозащиты. Нагуглив фотографии активиста, Матвей увидел поджарого молодого мужчину с широким размахом плеч и увесистыми кулаками. Это действительно был Глеб, тот самый Глеб Щипцов из Офтони, который на пару с Матвеем через силу пропихивал в желудок коричневый от мускатного ореха кефир, который бегал по цветочным магазинам, скупая десятками пачек семена ипомеи, чем обескураживал ничего не понимающих продавщиц преклонного возраста.
За прошедший год кафе почти не изменилось: у входа Матвей заметил бисерные капли крови, вмерзшие в лед, а внутри его встретил запыхавшийся официант, который временно заменял администратора. В руках он держал поднос с грязной посудой, а одет был в белую рубашку и коричневый фартук, который, судя по катышкам, был тут еще в дни работы Матвея.
- Вы куда? – с кислой миной спросил официант Евгений, который намеревался унести поднос на кухню. Судя по всему, он устроился сюда после прошлого ноября, потому что Матвею его лицо было совершенно незнакомо.
- Я к Анатолию, он бронировал стол, - сухо кашлянул Матвей в кулак. Сняв капюшон, он окинул помещение свежим взглядом: прозрачные стекла в окнах заменили синими, а в центре зала установили большой аквариум. Проворными струями поднимались к поверхности воды легкие пузырьки, глодал вандалоустойчивое стекло пятнистый сом, а среди водорослей извивались сонные цихлиды, неоново поблескивая чешуйчатыми боками.
- Сейчас, погодьте, - сосредоточенно повернулся к залу официант, - вон столик в углу, видите? Где мужчина сидит? Только Анатолий еще не пришел.
- Спасибо, - рассеянно ответил Матвей, вглядываясь в одинокого посетителя. Повзрослевший и окрепший Глеб, одетый в куртку с катафотами, сидел в самом дальнем углу и буравил взглядом опустевший пивной бокал. Он был настолько погружен в себя, что не сразу заметил подсевшего Матвея. Зато когда заметил, взорвался таким радушием, что Матвей даже немного оробел. Сдавив его пальцы медвежьим рукопожатием, Глеб звучно пробасил на маяковский манер:
- Вот это да, Грязев! Неужели ты тоже в Питере?
- Как видишь, - бледно улыбнулся Матвей.
- Да-а, жизнь тебя, конечно, потрепала. Где твои румяные щеки? Сколько ты, блин, весишь теперь? Я только на тебя посмотрел и сразу подумал: такого одним ударом зашибить можно. Даже если бы хотелось, я не стал бы тебя бить – вдруг ты случайно помрешь.
- Я ширяюсь свежатиной. Уже год. Вешу пятьдесят килограммов.
- Следовало догадаться, - покачал головой Глеб, - вон у тебя болты какие. Не страшно так по улице ходить?
Не дождавшись ответа, он принялся тараторить, сыпля новостями с малой родины. Сын тети Насти и дяди Ильича, тщедушный Витя, изъявил желание поступать через два года в Саранск, но тетя Настя против, а дядя Ильич, который желает, чтобы сын уехал, но слишком сильно любит жену, вмешиваться в конфликт не хочет. У дяди Сережи, мужа Вероники Николаевны, обнаружили рак легких в третьей стадии, и теперь они с боем выбивают справки на медицинские опиаты, которые дяде Сереже выдавать, естественно, не хотят, потому что стадия всего лишь третья. Кажется, про цель их встречи Глеб совсем забыл.
- Кстати, он ведь еще не приходил? Ты его не видел? – вдруг сменил тему Глеб. Его взгляд забегал по легкой синеве полупустого зала, в которой бродил от столика к столику официант. Под потолком подвывал включенный кондиционер, выталкивая в помещение воздух.
- Анатолия? – спросил Матвей, вскинув бровь.
- Кого же еще? Ты ведь тоже к нему пришел. Наверное, знаешь, как облупленного, привык, что он опаздывает, потому и сам опоздал.
До Матвея не сразу дошло, что все это время Глеб беседовал с ним, как с товарищем по несчастью, который тоже мается в ожидании и думает, чем бы убить тянущееся, как резина, время. Держать его в неведении и дальше был бы не по-товарищески. Запустив пальцы в нагрудный карман куртки, Матвей выложил перед Глебом канареечно-желтую фитюлю с амфетамином. Фитюля произвела на Глеба катарсическое впечатление - он развел руки в удивленном жесте, словно хотел обнять пустоту, и приоткрыл рот, в овале которого мелькнули очертания будущей улыбки.
- Погоди-ка. Ты приторговываешь? Ты - пушер? – тихо спросил Глеб, наклонившись к Матвею через стол, чтобы их разговор не подслушали посторонние. Не забыв при этом положить на желтый комочек изоленты широкую мозолистую ладонь.
- Пушеры в Европе. В русском языке уже есть старинное и очень красноречивое слово. Впрочем, даже оно тюркское.
- Что же ты мне голову морочил! – облегченно выдохнул Глеб, нервно взъерошив пятерней бобрик волос. Спрятав заветную фитюлю в карман, он хитро подмигнул Матвею:
- Слушай, мне не нравятся все эти мутки. Давай ты будешь приносить ко мне домой? За доплату. Душевно посидим, все-таки четыре года не виделись.
- Тысячу сверху цены. Но для тебя пятьсот, - сказал Матвей.
- А с тобой приятно иметь дело, - воодушевился Глеб и снова сдавил его пальцы в тисках рукопожатия. На этот раз в знак прощания.
Не виня Глеба за ожидаемую, в общем-то, торопливость, Матвей отправился домой. Перед ночной вылазкой следовало отдохнуть, и еще в метро он настроился на сообщения от незнакомцев, кальян и легкий ужин. Однако так просто день закончиться не мог.
Тускло переливались воздушные копны снега, перечеркнутые крохотными птичьими следами. Среди кровавых гроздьев рябины, которая росла рядом с парадной, прыгали желтопузые синички. У домофонной двери на фоне змеящегося меандра топталась женщина в бугристом пуховике, на гусеничный воротник которого всклокоченной волной спускались рыжевато-желтые волосы. Под иссиня-черными, широкими, жирно очерченными бровями нездорово сверкали глаза, а нервно подрагивающие пальцы тянулись ко рту. Грызя ногти, переступая от холода с ноги на ногу, Матвея поджидала Туся, которую он видеть у себя под окнами не мог и не хотел.
Однако он заметил ее, а она заметила его. Беседа была неизбежна.
- Герыч! – радостно вскрикнула она, завидев его, и подбежала странной приплясывающей походкой. Снег под ее сапогами колко захрустел. Выражением лица Матвей сейчас мог посоперничать с несчастным официантом – столько в его чертах проступило неприкрытой заебанности.
- Откуда у тебя мой адрес? – спокойно, но угрожающе поинтересовался он.
- Вычислила по твоему инстаграму.
Не до конца веря изнывающей от нахлобучке Тусе, Матвей пристально посмотрел на нее.
- Господи, да ничего сложного! – пустилась она в объяснения, продолжая топтаться на месте. – Вид из окна, фотографии заведений, где ты часто бываешь! Элементарно же: красная ветка, Калининский район, улица Ушинского. Тут только одно крыльцо с греческими узорами.
«Сраный инстаграм, - мелькнуло в удрученной голове Матвея запоздалое сожаление, - сраный Гражданский проспект, сраный меандр».
- Герыч, мне очень, очень нужна твоя помощь. Понимаю, ты каждый день выслушиваешь подобное, да и я у тебя не одна, и пусть наши просьбы однообразные… Меф, как известно, меняет личность, приводит всех, так сказать, к единому сознанию Кришны… Это единственный раз, когда я что-то прошу. Понимаешь? Два. Грамма. Мефа.
Телеграфно выпалив три последних слова, Туся потянулась к волосам Матвея, намереваясь нежно провести по ним пальцами, но Матвей, уже ставший сегодня жертвой подобного маневра, оттолкнул ее руку еще в воздухе.
- У тебя денег нет, что ли? – прямо спросил он.
- Вот видишь, ты меня с полуслова понял, это ли не знак? Клянусь, что больше такого не повторится, и я могу заплатить потом, потому что сегодня я на мели… - складно тараторила Туся, косясь на Матвея лисьим прищуром.
- Я тебе в долг не дам.
- Рынок, милый мой Герыч, зародился в такой древности, что ты даже не представляешь, и валюта появилась не сразу, да ты и сам должен это знать. Началось-то все с натурального обмена.
Предприняв третью, контрольную попытку, она подалась к нему всем телом, призывно приоткрыв губы. Матвей же шагнул назад, чтобы сохранить прежнюю дистанцию. Болезненный вид Туси – буровато-смуглый цвет кожи, корки мелких язвочек и зубы в кариозную крапинку – выдавал в ней носительницу щедрого букета, и не факт, что букет был исключительно венерическим.
- Вот принесешь справку из кожвена, тогда и поговорим, - угрюмо съязвил Матвей.
- Не будь таким букой, эта эмоция тебя портит. Если бы ты улыбался почаще, а не хмурился, как сибирский медведь…
- Не беси меня, - отрезал он и пошел к домофонной двери.
- Стой! – слезно воскликнула Туся. Снова преградив дорогу, она сунула ему под нос серебряный портсигар с гравировкой. На крышке портсигара искрилась шипастая морская раковина, сужающаяся книзу, как рогалик, и окруженная пузыристой пеной.
- Ну и зачем он мне? – не выдержал наконец Матвей.
- Это кубачинский серебряный портсигар, мне его муж подарил на юбилей, покупал за двадцать четыре тысячи. Думаешь, я совсем тупая и без чека пришла? Сам посмотри. Видишь? Двадцать четыре тысячи, 875 проба! – в знак своей искренности Туся продемонстрировала Матвею измятый, но все же подлинный чек.
«Надо же, действительно не врет», - задумался он, но вслух произнес:
- Деньгами давай. Ломбардов много.
- Ну что тебе стоит, Герыч! Пожалуйста, войди в мое положение! Сам подумай: два грамма стоят шесть тысяч, а портсигар мне брали за двадцать четыре тысячи. Это серебро, ручная работа, к тому же, ты курильщик… Прошу, Герыч!
Смерив Тусю глазами, Матвей подцепил пальцами портсигар и спрятал к себе в карман:
- В качестве исключения. Здесь подожди.
Заслонив собой домофон, чтобы целеустремленная и хитрая Туся не разглядела код, он поднялся в квартиру, а потом быстро вернулся – с двумя граммами мефедрона.
- Тебе повезло, у меня как раз заканчивалось, - сказал он, вручив ей две синие фитюли. Туся широко распахнула глаза, словно мысленно уже вмазалась, и ее энергичный взгляд загорелся маниакальностью.
- А-ха-ха… - неразборчиво выдохнула она, застучав блестящими от слюны зубами, и спрятала фитюли в голенище сапога.
Матвею не хотелось, чтобы клиенты знали, где он живет, но условия оказались далеки от идеальных, и он решил на всякий случай убедить Тусю, что дома у него товара нет. Конечно, Туся варилась в этом не первый год и наверняка догадывалась, что барыга нагло врет, однако виду не подала.
- Больше такое не прокатит, - напоследок предупредил ее Матвей.
- Ага, спасибо огромное, до встречи, я пошла! – скороговоркой выпалила Туся, стремительно зашагав по льдистой тропинке, над которой покачивались ветви рябины, и скрылась за углом дома, под покровом протяжно засвистевшего ветра. Стая синичек желтыми брызгами сорвалась с ветвей и устремилась в небо.
«Только бы она у меня в подъезде не кололась, - подумал Матвей с нехорошим предчувствием, - и без нее говорят всякое. Вдруг отъедет, а после трупа уже не отмажешься…»
Поделив Петербург на кольца эпох, можно увидеть четкую границу между архитектурными волнами. Вокруг центра – сердцевины, где еще до революции возвели кирпичные дома малой этажности, ставшие памятниками архитектуры и диковинками для туристов – тянутся тонкие нити строгих геометрических форм, присущих ранней советской архитектуре. Следующее за ним монументальное изящество сталинского ампира ближе к окраинам сменяется тесным хороводом типовых панельных домов, группирующихся в спальные районы, до которых, впрочем, можно добраться на метро. Словно клопы, присасывающиеся к телу человека, спящего в дешевой ночлежке, коих в Петербурге много и по сей день, неровным контуром облепляют город свежие микрорайоны и пригороды – стеклянные высотки скандинавского вида и пестрой расцветки.
Хмурый, застывший декабрьский полдень осыпал Петербург густыми охапками серебристого снега, резные белые хлопья падали на мерцающие под искусственным светом сугробы и хрупкую ледяную корку, которая сковала людные улицы и глухие закоулки. На конце красной ветки метрополитена, перед Девяткино, дремал Калининский район: пустовали квартиры жильцов, ушедших на работу, сонно ворочались в постелях те, кому повезло отдыхать не только в воскресенье, но еще и в субботу.
Восемнадцатый дом на улице Ушинского, отделенный от метро двадцатью минутами пешей прогулки, не мог похвастать оригинальным фасадом. Щели между бетонными панелями были щедро и напоказ замазаны серыми штрихами герметика, а сами панели смотрели на заснеженные окрестности однотонным покрытием из бежевых квадратов, где виднелись слепые пустоты – не все сегменты выдержали испытание временем. Эстетичной можно было счесть разве что облицовку крылец. Железные двери с домофонами окружали черно-белые мозаики в виде повторяющегося паттерна – узких треугольников, от которых рябило в глазах, а дверь крайнего левого крыльца даже окаймляли черно-белые ленты древнегреческого меандра. Общим для обоих узоров была завуалированная свастичность.
Не было в доме и простора. Узкая парадная, на крошечных лестничных клетках которой парадоксальным образом умещался даже мусоропровод, лифт, навевающий мысли о цинковых гробах, черная железная дверь и тридцать квадратных метров, четыре из которых были щедро отведены под прихожую – именно такие декорации окружали Матвея уже пятый месяц подряд. Ежемесячно он отдавал за них по двадцать пять тысяч и находил новое жилье очень даже сносным. В конце концов, однокомнатная квартира принадлежала ему полностью: не было нужды делить с соседями плиту и санузел, не было опасения, что ушлая соседка может взломать замок, чтобы обнести уже наконец милого сердцу распространителя. Еще в квартире была надежная и всегда запертая входная дверь.
Хозяйка квартиры, Александра Сергеевна, была импозантной женщиной в возрасте сорока пяти лет, которая носила строгие брючные костюмы с остро выглаженными стрелками, красила симметричное каре в темно-фиолетовый цвет и никогда не закатывала рукава. Однако своеобразие ее заключалось совсем в другом: она никогда не приходила без предупреждения, не задавала лишних вопросов и даже не интересовалась, кем работает Матвей, как обычно делают хозяева квартир, чтобы убедиться в платежеспособности квартиранта.
- Значит, ты свободный копейщик, - звонко перебила его Александра Сергеевна, когда Матвей во время первой встречи решил соврать о профессии и упомянул копирайтинг, - и дым отечества тебе сладок и приятен. Вот и прекрасно. В квартире хороший вай-фай.
Небрежность тона неприкрыто демонстрировала, что Александре Сергеевне, в общем-то, было все равно, где Матвей работает. Ее интересовал лишь конечный результат в виде ренты. Иногда, если приходилось к слову, она делилась скупыми фрагментами биографии, где присутствовали детство, проведенное в Нижней Салде, тянущий голодок девяностых, столкновение родителей с рэкетирами и всегда заряженное ружье, лежащее на шкафу, так что Матвей ничуть не удивился ее тяге к деньгам.
Памятуя о необходимой для профессии умеренной паранойе, Матвей решил подстраховаться и спрятал в коридоре, за подставкой для обуви бейсбольную биту, а спать начал с электрошокером под подушкой. На улицу он теперь с пустыми карманами не выходил: в одном лежала сложенная телескопическая дубинка, а в другом два телефона - личный, для связи с друзьями и Гришей, и рабочий.
Через неделю после переезда Матвей встретился на Гражданском проспекте с Ларисой, которая обязалась принести ему куб свежести. В темном, как морские глубины, куполе неба, тускло мерцал лунный серп, омывающий застывшим светом длинный кирпичный дом советской постройки, нагромождение конструктивистских кубов, и асфальтовую дорогу, в лужах которой отпечатывались мимолетные огни фар и хлюпкий рельеф шин. Широко растягивая губы в тонкой улыбке, но не показывая, как обычно, зубов, Лариса передала Матвею прохладный фурик, на дне которого плескалась желтоватая жидкость.
- У тебя не было проблем… из-за случившегося? – осторожно спросил Матвей, убрав фурик.
- Конечно, не было, - бросила на него загадочный взгляд Лариса, поняв суть его вопроса, - я ведь ничего не знала.
Август прошел без особых проблем, однако все равно оказался для Матвея напряженным. Несмотря на то, что он наконец поставил взамен разрушившегося зуба искусственный, несмотря на то, что он лишился вынужденной необходимости в продуктах «Красная цена», несмотря на то, что денег на первый месяц хватило, Матвей все равно ощущал нависающий над головой дамоклов меч. Если бы не сто тысяч, которые Гриша любезно разрешил не возвращать, ничего этого не было бы.
Жить с таким ощущением оказалось слишком тягостно, с этим срочно нужно было что-то делать, и в круг клиентов добавились друзья друзей, которые только обрадовались перспективе брать у проверенного товарищами поставщика, которого уж точно внезапно не примут. Поразмышляв, Матвей нанял трафаретчика, который добавил к многочисленным объявлениям на петербургском асфальте скромную сотню объявлений Матвея, и клиентов стало ощутимо больше. Вот только их Матвей совсем не знал, поэтому лицом к лицу с ними не встречался, отправляя искать закладки. Делать надежные клады он научился еще в Офтони и, как показала практика, сноровки не растерял. Оставалось только принимать заявки и отправлять страждущих по готовым адресам.
В размеренном темпе Матвей дожил до декабря, отметил двадцатилетие, и ничто пока не омрачало его существование в новом статусе, который, надо признать, в чем-то был даже комфортным. Поборы Асфара Юнусовича возросли до ста тысяч, но отдавать четверть дохода, который со временем тоже возрос, было гораздо лучше, чем сидеть. Дни проходили однообразно: утром, которое наступало в обед, Матвей фасовал товар, вечером встречался с друзьями, которые постепенно превращались в клиентов, а ближе к ночи раскладывал свежие закладки. Свободное время он проводил в барах и кальянных и с долей горечи замечал, что круг друзей так и норовит разрастись, поэтому не допускал в него новых знакомых, которые пытались набиться в приятели исключительно из личной корысти.
Этот декабрьский день ничем не отличался от остальных. В обрамлении зеленых штор наползали друг на друга плотные волны туч, сквозь которые с трудом пробивался блеклый, свойственный зиме огонь солнца. Шумно гудел за стенкой соседский бойлер. Сидя за кухонным столом, где были разложены катушки разноцветной изоленты, упаковки мелких круглых магнитов и зиплоки, Матвей нервно постукивал пальцем по электронным весам и разочарованно смотрел на возвышающуюся на блюдце горку мефедрона. Только что Матвей растер между подушечками пальцев скромную щепотку, проверяя порошок на однородность, и его однородность оказалась очень неоднозначной.
- Да уж, негусто… - протянул Матвей, кисло поморщившись, щупая кончиком языка непривычно гладкую металлокерамику. Разбавлять такое ассорти было рискованно.
«Потом разберусь», - решил он, недолго думая, и ссыпал мефедрон обратно в зиплок. Убрав инструментарий в ящик стола, где раньше лежали столовые приборы, Матвей встал с табуретки, потянулся, хрустнув спиной, и направился в зал.
Хотя квадратных метров в зале было больше, чем в комнате на Юты Бондаровской, из-за узости стен он казался таким же. Пластиковое окно, открывающее обзор на двор с высоты девятого этажа, закрывали не только тяжеловесные шторы, но и тонкий, как паутина, тюль, а светло-желтый паркет, опять уложенный елочкой, дополнял красный ковер старого производства, узбекский орнамент которого был немного фрактальным даже для трезвого глаза. На обоях тускло блестели огоньки оранжевых цветов, а деревянная односпальная кровать из икеи, упирающаяся изголовьем в подоконник, была застлана постельным бельем похожей расцветки. Изножьем кровать касалась темного лакированного шкафа, закрытая половина которого служила гардеробом, а открытая половина, разбитая на полки, была занята книгами Матвея, золотистой статуэткой Будды и лава-лампой.
Однако Матвея интересовало мягкое кресло с подлокотниками, стоящее напротив кровати, по другую сторону окна. На спинке кресла лежал скомканный плед, под которым виднелась подушка с вышивкой на наволочке – яркого оперения петухом.
Матвей расстегнул молнию наволочки, запустил руку в складки синтепона и извлек оттуда контейнер для таблеток, купленный в фикс-прайсе за сто рублей. Он деловито осмотрел его доверху набитое нутро, разделенное на пять секций. Две секции были заполнены мелкими фитюлями со спидами и мефедроном, туго обмотанными желтой и синей изолентой, а в оставшихся трех лежали таблетки экстази – белые домино, красные сердца и розовые вишни. Цена содержимого измерялась десятками тысяч, которые Матвей терять ни в коем случае не хотел.
Близилось время двух встреч, из которых наиболее любопытной для Матвея была вторая. Достав три синие фитюли, предназначенные Соне, и одну желтую, которую хотел получить второй клиент, Матвей защелкнул крышку, спрятал контейнер обратно и застегнул наволочку. На белом пластике подоконника, в бедном свете зимнего дня четыре фитюли напоминали крупные бусины. Завершали красноречивый натюрморт новый шприц в хрустящей упаковке, фурик свежести и резиновый жгут.
Перед выходом на улицу следовал взбодриться. Матвей удобно расположился в кресле и набрал в шприц полтора куба свежести, звякнув стальной иглой об стеклянное горлышко. Закатал рукав светлой рубашки и сделал аккуратную инъекцию в левое запястье. Посмаковав слабое подобие прежних обжигающих приходов, он вздохнул полной грудью и пружинисто встал на ноги. Надел темно-синюю приталенную кожаную куртку. Убрал в нагрудный карман в меру разбодяженные фитюли. Проверил ширину зрачков, заглянув перед выходом в зеркало, висящее в прихожей.
За окнами вагона, направляющегося к Лиговскому проспекту, мелькали стены метро, увитые толстыми черными проводами, похожими на жирных гадюк, вагон несся сквозь подземелье, как дождевой червь, останавливаясь на станциях, чтобы впустить и выпустить муравьиную толпу пассажиров – многоголосую, густую, кипучую. Уместившись рядом с дверью, Матвей читал карманное издание Мамлеева, «Мир и хохот», однако погрузиться в книгу полностью не удавалось – отвлекали внешние импульсы и обрывки разговоров.
- …мало того, что он по сердцу бьет, так еще и зависимость вызывает… - сказал в толпе юношеский голос неопределенного пола.
Матвей поднял голову и черными от зрачков глазами скользнул по ряду рекламных плакатов, приклеенных к оконному стеклу. Выглядывал из зеленой листвы дружелюбный 3D-енот в клетчатой рубашке, живущий, судя по броской надписи, в ЖК «Юнтолово», низкорослый и не менее дружелюбный корги иллюстрировал обещание самых низких процентов по ипотеке, а с третьего плаката самоуверенно улыбался шоумен, один из представителей ТНТ. Надменную ухмылку шоумена дополняли горящий взгляд и суховатые кокаиновые щеки.
Оказавшись под Лиговским проспектом, Матвей убрал книгу во внутренний карман куртки, вышел из вагона и поднялся на стылую поверхность. Хмурое небо налилось синевой, снег посыпался еще ожесточеннее – набиваясь в волосы, за ворот, касаясь голой шеи. Это было скорее неприятно, чем холодно, и ускоренный Матвей надел капюшон толстовки. Стало жарковато, но дискомфортное тактильное ощущение исчезло.
Соня ждала его на Контейнерной улице, как они и договаривались. Миновав стайку курящих ровесников неформально-хипстерского вида и лоток с носками психоделической расцветки, прячущийся в арке, Матвей разглядел впереди ее нескладный силуэт. Положив ногу на ногу, Соня сидела на одной из строительных катушек, которые рядком стояли под зеленым окном японской закусочной, и покачивала ногой, обутой в огненно-красный ботинок на высокой платформе. В полотне черных волос появились перья мелирования, которых позавчера не было.
Матвей нахмурился, однако Соня, то ли не замечая этого, то ли просто игнорируя, вскочила с катушки и целеустремленно зашагала к нему. Скупо поздоровавшись и ответив на этикетное «как дела», он отдал Соне фитюли с мефедроном, которые она не замедлила убрать в карман бледно-синей шубы, открывающей ноги.
- Может, акцию сделаешь? Три по цене двух? – осведомилась Соня, взглянув на Матвея настороженно и в то же время с долей надежды. Чтобы усилить эффект, она интимным жестом положила ладонь Матвею на плечо.
- Нет, не сделаю, - ответил он, сбросив с себя ее руку, - а три тысячи ты в понедельник отдашь.
- Как скажешь, Мотенька. Злой ты сегодня, хотя упоротый. Странно это.
Сказано это было невинным тоном, будто под ним не скрывался злорадный и весьма конкретный посыл: Соня видела темные глаза Матвея, налившиеся тяжелым блеском, видела чуть влажное от пота и внутреннего жара лицо, однако прежде эти два признака не сопровождались угрюмым поведением. Соня уловила важную для Матвея досадную перемену, а Матвей уловил ядовитый подтекст ее удивленной реплики.
- Будешь так долбить, никогда на Грузию не накопишь, - разозлился он.
Уже больше года свежесть меняла его мировосприятие не в лучшую сторону: Матвей все чаще и чаще ловил себя на неожиданных агрессивных порывах, которые не зависели от опьянения и случались даже в трезвые дни. Порывы, к счастью, быстро гасли и принимали пока только вербальную форму, да и говорить иначе с жертвами порывов было нельзя – хорошее отношение они принимали за терпильство, а понимали только грубый и однозначный отказ. Но растущий с каждым днем толер был куда хуже, потому что тащил вверх и дозировку, а прежнего результата все равно не давал.
– Ты мне еще мораль почитай, мразота. Как новоселье? Совесть не мучает? – прошипела Соня в лицо Матвею, вмиг стряхнув напускную ласку, как выбежавшая из воды собака.
– Не вали все на меня. Я вношу в ситуацию лишь половину вклада. Ты взрослая и дееспособная, обладаешь свободной волей. Не будь меня, ты бы у другого брала. Вы же сами находите, даже делать ничего не надо.
Соня бросилась на Матвея, но в последний момент, когда он уже хотел ее оттолкнуть, отшатнулась, чуть не упав на притоптанный подошвами снег, и воскликнула:
– «Вы»? То есть, мысленно ты уже границу провел? Сам-то торчал только в путь, а теперь брезгливо рожу воротишь! Теперь у тебя деньги есть!
– Не долблю, как поехавший, потому и деньги есть.
Развернувшись на месте и покинув вспылившую Соню, Матвей с облегчением зашагал по обратному маршруту. Он надеялся, что Соня отъедет раньше, чем придет срок возвращать долги, потому что сегодняшний долг был не первым, и минус, в который она ушла, насчитывал уже девять тысяч. Никакие обещания не могли скрыть того, что по-хорошему она возвращать деньги не собиралась, а Матвею не хотелось принуждать ее силой. Хотя понимал, что в какой-то момент ему придется это сделать.
Спустившись в метро, Матвей забился в самый конец вагона и вернулся к чтению. Подрагивал пол под ногами, стучали по рельсам стальные блины колес, высекая монотонных двухтактный ритм. В кармане остался только грамм амфетамина, заказанный и оплаченный пользователем со смутно знакомым юзернеймом Zedolor. Матвей взял за правило не встречаться с незнакомыми покупателями, однако сегодня ехал на Сенную, в кафе «Кристалл», где забронировал столик на имя Анатолия.
Собеседник не скрывал номер телефона, и Матвей, вбив его в поиск, узнал, что по этому номеру можно связаться с оппозиционным активистом Глебом Щипцовым, консультирующим людей по вопросам правозащиты. Нагуглив фотографии активиста, Матвей увидел поджарого молодого мужчину с широким размахом плеч и увесистыми кулаками. Это действительно был Глеб, тот самый Глеб Щипцов из Офтони, который на пару с Матвеем через силу пропихивал в желудок коричневый от мускатного ореха кефир, который бегал по цветочным магазинам, скупая десятками пачек семена ипомеи, чем обескураживал ничего не понимающих продавщиц преклонного возраста.
За прошедший год кафе почти не изменилось: у входа Матвей заметил бисерные капли крови, вмерзшие в лед, а внутри его встретил запыхавшийся официант, который временно заменял администратора. В руках он держал поднос с грязной посудой, а одет был в белую рубашку и коричневый фартук, который, судя по катышкам, был тут еще в дни работы Матвея.
- Вы куда? – с кислой миной спросил официант Евгений, который намеревался унести поднос на кухню. Судя по всему, он устроился сюда после прошлого ноября, потому что Матвею его лицо было совершенно незнакомо.
- Я к Анатолию, он бронировал стол, - сухо кашлянул Матвей в кулак. Сняв капюшон, он окинул помещение свежим взглядом: прозрачные стекла в окнах заменили синими, а в центре зала установили большой аквариум. Проворными струями поднимались к поверхности воды легкие пузырьки, глодал вандалоустойчивое стекло пятнистый сом, а среди водорослей извивались сонные цихлиды, неоново поблескивая чешуйчатыми боками.
- Сейчас, погодьте, - сосредоточенно повернулся к залу официант, - вон столик в углу, видите? Где мужчина сидит? Только Анатолий еще не пришел.
- Спасибо, - рассеянно ответил Матвей, вглядываясь в одинокого посетителя. Повзрослевший и окрепший Глеб, одетый в куртку с катафотами, сидел в самом дальнем углу и буравил взглядом опустевший пивной бокал. Он был настолько погружен в себя, что не сразу заметил подсевшего Матвея. Зато когда заметил, взорвался таким радушием, что Матвей даже немного оробел. Сдавив его пальцы медвежьим рукопожатием, Глеб звучно пробасил на маяковский манер:
- Вот это да, Грязев! Неужели ты тоже в Питере?
- Как видишь, - бледно улыбнулся Матвей.
- Да-а, жизнь тебя, конечно, потрепала. Где твои румяные щеки? Сколько ты, блин, весишь теперь? Я только на тебя посмотрел и сразу подумал: такого одним ударом зашибить можно. Даже если бы хотелось, я не стал бы тебя бить – вдруг ты случайно помрешь.
- Я ширяюсь свежатиной. Уже год. Вешу пятьдесят килограммов.
- Следовало догадаться, - покачал головой Глеб, - вон у тебя болты какие. Не страшно так по улице ходить?
Не дождавшись ответа, он принялся тараторить, сыпля новостями с малой родины. Сын тети Насти и дяди Ильича, тщедушный Витя, изъявил желание поступать через два года в Саранск, но тетя Настя против, а дядя Ильич, который желает, чтобы сын уехал, но слишком сильно любит жену, вмешиваться в конфликт не хочет. У дяди Сережи, мужа Вероники Николаевны, обнаружили рак легких в третьей стадии, и теперь они с боем выбивают справки на медицинские опиаты, которые дяде Сереже выдавать, естественно, не хотят, потому что стадия всего лишь третья. Кажется, про цель их встречи Глеб совсем забыл.
- Кстати, он ведь еще не приходил? Ты его не видел? – вдруг сменил тему Глеб. Его взгляд забегал по легкой синеве полупустого зала, в которой бродил от столика к столику официант. Под потолком подвывал включенный кондиционер, выталкивая в помещение воздух.
- Анатолия? – спросил Матвей, вскинув бровь.
- Кого же еще? Ты ведь тоже к нему пришел. Наверное, знаешь, как облупленного, привык, что он опаздывает, потому и сам опоздал.
До Матвея не сразу дошло, что все это время Глеб беседовал с ним, как с товарищем по несчастью, который тоже мается в ожидании и думает, чем бы убить тянущееся, как резина, время. Держать его в неведении и дальше был бы не по-товарищески. Запустив пальцы в нагрудный карман куртки, Матвей выложил перед Глебом канареечно-желтую фитюлю с амфетамином. Фитюля произвела на Глеба катарсическое впечатление - он развел руки в удивленном жесте, словно хотел обнять пустоту, и приоткрыл рот, в овале которого мелькнули очертания будущей улыбки.
- Погоди-ка. Ты приторговываешь? Ты - пушер? – тихо спросил Глеб, наклонившись к Матвею через стол, чтобы их разговор не подслушали посторонние. Не забыв при этом положить на желтый комочек изоленты широкую мозолистую ладонь.
- Пушеры в Европе. В русском языке уже есть старинное и очень красноречивое слово. Впрочем, даже оно тюркское.
- Что же ты мне голову морочил! – облегченно выдохнул Глеб, нервно взъерошив пятерней бобрик волос. Спрятав заветную фитюлю в карман, он хитро подмигнул Матвею:
- Слушай, мне не нравятся все эти мутки. Давай ты будешь приносить ко мне домой? За доплату. Душевно посидим, все-таки четыре года не виделись.
- Тысячу сверху цены. Но для тебя пятьсот, - сказал Матвей.
- А с тобой приятно иметь дело, - воодушевился Глеб и снова сдавил его пальцы в тисках рукопожатия. На этот раз в знак прощания.
Не виня Глеба за ожидаемую, в общем-то, торопливость, Матвей отправился домой. Перед ночной вылазкой следовало отдохнуть, и еще в метро он настроился на сообщения от незнакомцев, кальян и легкий ужин. Однако так просто день закончиться не мог.
Тускло переливались воздушные копны снега, перечеркнутые крохотными птичьими следами. Среди кровавых гроздьев рябины, которая росла рядом с парадной, прыгали желтопузые синички. У домофонной двери на фоне змеящегося меандра топталась женщина в бугристом пуховике, на гусеничный воротник которого всклокоченной волной спускались рыжевато-желтые волосы. Под иссиня-черными, широкими, жирно очерченными бровями нездорово сверкали глаза, а нервно подрагивающие пальцы тянулись ко рту. Грызя ногти, переступая от холода с ноги на ногу, Матвея поджидала Туся, которую он видеть у себя под окнами не мог и не хотел.
Однако он заметил ее, а она заметила его. Беседа была неизбежна.
- Герыч! – радостно вскрикнула она, завидев его, и подбежала странной приплясывающей походкой. Снег под ее сапогами колко захрустел. Выражением лица Матвей сейчас мог посоперничать с несчастным официантом – столько в его чертах проступило неприкрытой заебанности.
- Откуда у тебя мой адрес? – спокойно, но угрожающе поинтересовался он.
- Вычислила по твоему инстаграму.
Не до конца веря изнывающей от нахлобучке Тусе, Матвей пристально посмотрел на нее.
- Господи, да ничего сложного! – пустилась она в объяснения, продолжая топтаться на месте. – Вид из окна, фотографии заведений, где ты часто бываешь! Элементарно же: красная ветка, Калининский район, улица Ушинского. Тут только одно крыльцо с греческими узорами.
«Сраный инстаграм, - мелькнуло в удрученной голове Матвея запоздалое сожаление, - сраный Гражданский проспект, сраный меандр».
- Герыч, мне очень, очень нужна твоя помощь. Понимаю, ты каждый день выслушиваешь подобное, да и я у тебя не одна, и пусть наши просьбы однообразные… Меф, как известно, меняет личность, приводит всех, так сказать, к единому сознанию Кришны… Это единственный раз, когда я что-то прошу. Понимаешь? Два. Грамма. Мефа.
Телеграфно выпалив три последних слова, Туся потянулась к волосам Матвея, намереваясь нежно провести по ним пальцами, но Матвей, уже ставший сегодня жертвой подобного маневра, оттолкнул ее руку еще в воздухе.
- У тебя денег нет, что ли? – прямо спросил он.
- Вот видишь, ты меня с полуслова понял, это ли не знак? Клянусь, что больше такого не повторится, и я могу заплатить потом, потому что сегодня я на мели… - складно тараторила Туся, косясь на Матвея лисьим прищуром.
- Я тебе в долг не дам.
- Рынок, милый мой Герыч, зародился в такой древности, что ты даже не представляешь, и валюта появилась не сразу, да ты и сам должен это знать. Началось-то все с натурального обмена.
Предприняв третью, контрольную попытку, она подалась к нему всем телом, призывно приоткрыв губы. Матвей же шагнул назад, чтобы сохранить прежнюю дистанцию. Болезненный вид Туси – буровато-смуглый цвет кожи, корки мелких язвочек и зубы в кариозную крапинку – выдавал в ней носительницу щедрого букета, и не факт, что букет был исключительно венерическим.
- Вот принесешь справку из кожвена, тогда и поговорим, - угрюмо съязвил Матвей.
- Не будь таким букой, эта эмоция тебя портит. Если бы ты улыбался почаще, а не хмурился, как сибирский медведь…
- Не беси меня, - отрезал он и пошел к домофонной двери.
- Стой! – слезно воскликнула Туся. Снова преградив дорогу, она сунула ему под нос серебряный портсигар с гравировкой. На крышке портсигара искрилась шипастая морская раковина, сужающаяся книзу, как рогалик, и окруженная пузыристой пеной.
- Ну и зачем он мне? – не выдержал наконец Матвей.
- Это кубачинский серебряный портсигар, мне его муж подарил на юбилей, покупал за двадцать четыре тысячи. Думаешь, я совсем тупая и без чека пришла? Сам посмотри. Видишь? Двадцать четыре тысячи, 875 проба! – в знак своей искренности Туся продемонстрировала Матвею измятый, но все же подлинный чек.
«Надо же, действительно не врет», - задумался он, но вслух произнес:
- Деньгами давай. Ломбардов много.
- Ну что тебе стоит, Герыч! Пожалуйста, войди в мое положение! Сам подумай: два грамма стоят шесть тысяч, а портсигар мне брали за двадцать четыре тысячи. Это серебро, ручная работа, к тому же, ты курильщик… Прошу, Герыч!
Смерив Тусю глазами, Матвей подцепил пальцами портсигар и спрятал к себе в карман:
- В качестве исключения. Здесь подожди.
Заслонив собой домофон, чтобы целеустремленная и хитрая Туся не разглядела код, он поднялся в квартиру, а потом быстро вернулся – с двумя граммами мефедрона.
- Тебе повезло, у меня как раз заканчивалось, - сказал он, вручив ей две синие фитюли. Туся широко распахнула глаза, словно мысленно уже вмазалась, и ее энергичный взгляд загорелся маниакальностью.
- А-ха-ха… - неразборчиво выдохнула она, застучав блестящими от слюны зубами, и спрятала фитюли в голенище сапога.
Матвею не хотелось, чтобы клиенты знали, где он живет, но условия оказались далеки от идеальных, и он решил на всякий случай убедить Тусю, что дома у него товара нет. Конечно, Туся варилась в этом не первый год и наверняка догадывалась, что барыга нагло врет, однако виду не подала.
- Больше такое не прокатит, - напоследок предупредил ее Матвей.
- Ага, спасибо огромное, до встречи, я пошла! – скороговоркой выпалила Туся, стремительно зашагав по льдистой тропинке, над которой покачивались ветви рябины, и скрылась за углом дома, под покровом протяжно засвистевшего ветра. Стая синичек желтыми брызгами сорвалась с ветвей и устремилась в небо.
«Только бы она у меня в подъезде не кололась, - подумал Матвей с нехорошим предчувствием, - и без нее говорят всякое. Вдруг отъедет, а после трупа уже не отмажешься…»
Глава 9
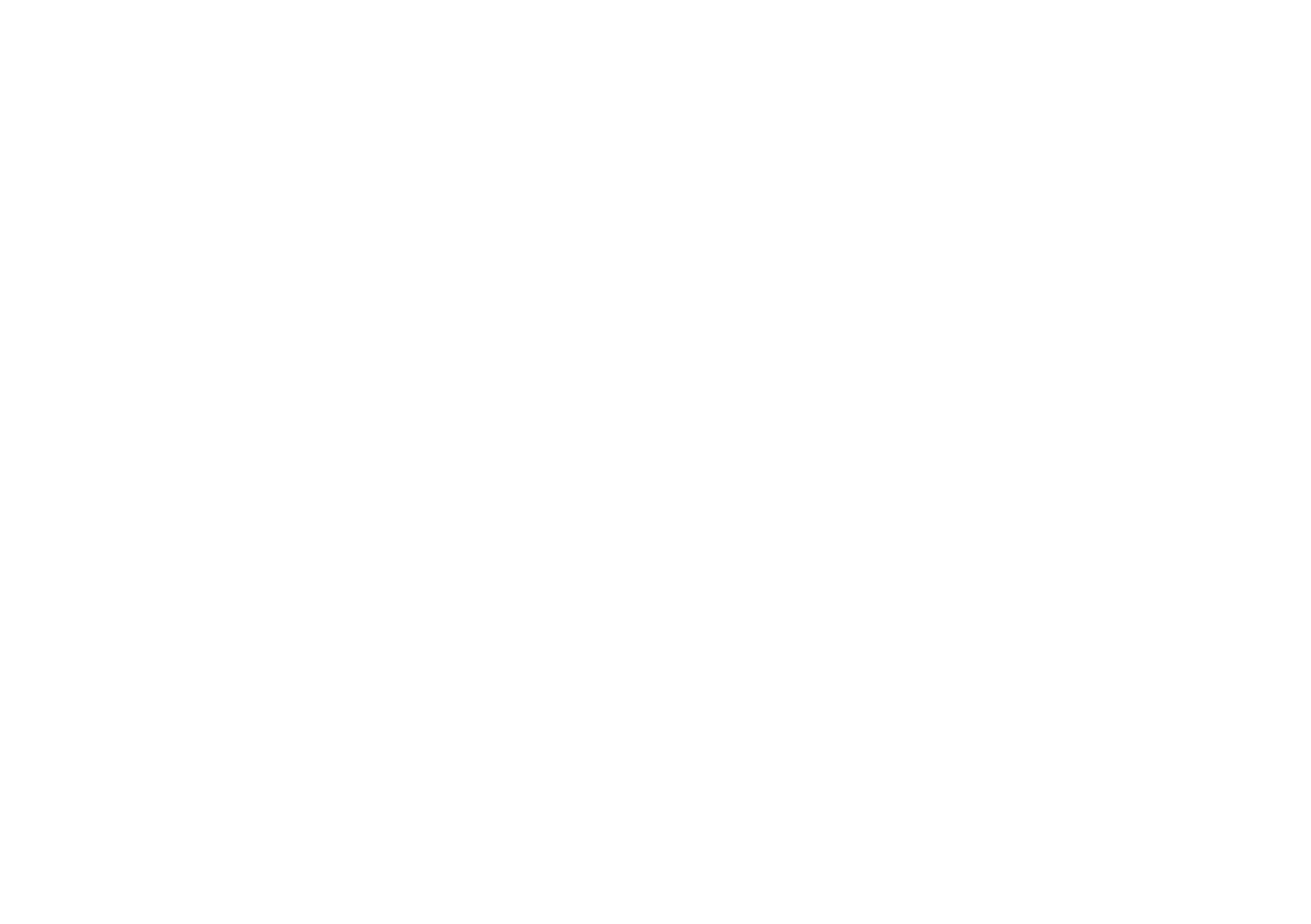
Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени с земным? И если за тобою во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станется с миллионами и десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного?
Федор Достоевский, «Братья Карамазовы»
Федор Достоевский, «Братья Карамазовы»
февраль, 2031 год
Поблескивая меховым воротником расстегнутой дубленки, сверкая кровянистыми гранатами тяжелых сережек, вальяжно опершись на стену крохотной прихожей, Александра Сергеевна держала в одной руке плоскую стопку пятитысячных купюр, а в другой - ворох квитанций, выписанных на имя Конкиной А.С., которые она разглядывала, близоруко щурясь и настраивая фокус. Было двадцатое число, и Александра Сергеевна собирала ренту – утром она успела побывать в другой квартире, которая находилась в центре и которую она тоже сдавала.
Между залом и прихожей наваливался на дверной косяк недоспавший Матвей, кутающийся в темный полосатый халат. Босыми ногами он ощущал зимнюю прохладу паркета, свойственную домам с непродуманными стыками бетонных плит. Жилой массив за окном мерцал тонким слоем свежего снега, в котором крохотными искрами отражались голубое небо и слюдянисто-желтое, почти весеннее солнце.
- Недавно звонил Всеволод Павлович и жаловался на тебя, - вдруг сказала Александра Сергеевна, подняв лицо от квитанций.
Матвей закусил губу. Нетрудно было догадаться, на что жаловался Всеволод Павлович, ветеран сирийской войны: на излишне суетливых гостей, которые стали появляться в подъезде, когда адрес Матвея расползся по друзьям и знакомым Туси, на мусор в виде шприцов и упаковок от стаффа, который после них оставался, и, естественно, на Матвея, который жил через дверь от Всеволода Павловича.
- Мне все равно, прав он или нет. Ты хороший жилец. Квартиру держишь в чистоте, после одиннадцати не шумишь, платишь вовремя. Знаешь, как у Пелевина: don't look – don't see. Но должна предупредить, что он жуткий кляузник, и если ты работаешь один, к тебе может наведаться участковый.
- То есть, гости в подъезде вас не смущают? – встрепенулся Матвей, почему-то залившись румянцем. Слова Александры Сергеевны, к которым Матвей, ожидающий от нее если не презрения, то хотя бы брезгливости, оказался не готов, повергли его в легкий ступор.
- А как меня могут смущать твои торчки? – улыбнулась она. – Я в этом доме не живу. Но тебе рекомендую, друг мой, понемногу их выгонять. Тебя ведь могут опрокинуть, и что ты тогда будешь делать?
Не находя в себе уместных реакций, Матвей молчал. Отношение Александры Сергеевны было не очень-то нейтральным, однако клонилось, кажется, в сторону плюса – об этом говорила специфическая, неожиданно проступившая в ее речи лексика. Сложив деньги и квитанции в лакированную сумку, Александра Сергеевна посмотрела на Матвея и вздохнула:
- Немногие оставшиеся социальные лифты требуют или круглосуточной пахоты, или нелегальной деятельности. Первый вариант лишает отдыха и делает заработок бессмысленным, а второй… заставляет ходить ва-банк. Какой социум, такие и лифты.
Матвей мял пальцами коричневую махру халата, из сонной головы ускользала еще не оформившаяся полудогадка. Он мучил себя вопросом: да что же с этой женщиной не так?
- Либерализм Веймарской Республики, где нашлось место даже однополым отношениям - и это в начале двадцатого-то века, сменился фашизмом и консерватизмом Третьего Рейха, - продолжала разглагольствовать Александра Сергеевна, словно наконец нашла подходящего собеседника, - Германия пыталась отыграться, вернуть территории, когда-то принадлежавшие Германской Империи, воплотить в жизнь свои реваншистские амбиции. Чем все закончилось, ты знаешь: Третий Рейх исчез как геополитическая единица.
- Это вы аналогию проводите? – тихо спросил Матвей, поняв, что хозяйка квартиры не только вольнодумна в суждениях, но и не боится их высказывать.
«Почему она говорит именно про однополые отношения? – вдруг задумался он. – Почему не про экономический кризис или наркополитику?»
Однако возразить ей было сложно: хотя закона, запрещающего гомосексуализм, формально не существовало, был закон, запрещающий его пропаганду, и его размытые формулировки позволяли следственному комитету поворачивать дышло в нужную сторону. Официальная пропаганда, замешанная на ностальгии по СССР и Российской Империи одновременно, однополые связи резко порицала, а люди в целом были настроены недружелюбно.
- Что ты, какие аналогии? – лукаво усмехнулась Александра Сергеевна. – Всего лишь исторический экскурс.
Матвей хрипло кашлянул в кулак. Беседа неумолимо сворачивала к теме политики, которая была для него куда дискомфортнее, чем тема наркоторговли. Лично ему такие разговоры непосредственной пользы не приносили, да и людей, склонных к болтовне ради болтовни, он недолюбливал. Они в свою очередь недолюбливали его – за тотальное отсутствие убеждений.
- Находились оптимисты, которые считали, что Россия не пойдет по пути Веймарской Республики, они утверждали, что сытые нулевые – совсем не то же самое, что германские двадцатые. Очень иронично, что страна, «победившая фашизм», ударилась в точно такую же риторику.
- А где вы раньше работали? – невпопад спросил Матвей, надеясь наконец сменить нехорошую тему.
- О-о, в сфере ритуальных услуг. Люди умирают всегда, даже в худшие времена есть какой-никакой барыш. Особенно много денег стало водиться, когда началась вся эта история с Сирией. Мы тогда не только гражданских хоронили, но и перевозили груз 200 - из Сирии в Россию, а это недешево.
«Тоже на мертвецах, значит», - мрачно улыбнулся Матвей. Ситуация становилась все страннее и начинала его забавлять.
- Мне еще до торчков в подъезде все стало ясно. У тебя на лице отпечаток профессии: немного настороженности, немного отвращения, немного усталости. Очень специфическая маска, - сказала Александра Сергеевна.
Матвей вопросительно посмотрел на нее. Вместо ответа она немного закатала рукав дубленки, оголив костистую руку, похожую на цыплячью лапу, и на коже, покрытой мелкими кляксами пигментных пятен, Матвей разглядел выпуклые сизые вены, над которыми складывались в пунктиры точечки шрамов. Белые пунктиры полностью дублировали венозную карту, опоясывая запястье.
- Десятые годы. Мефедрон.
«Интересно, сколько она угрохала на тюнинг», - подумал Матвей, глядя на неестественно белые и ровные зубы Александры Сергеевны, на ее лицо, чуть тронутое пластической хирургией. Угадать с первого взгляда ее прежние пристрастия было невозможно, хотя наметанный глаз Матвея обычно улавливал все характерные признаки: внешность, опережающая паспортный возраст, печальная мимика одрябшего лица, равнодушный взгляд, выдающий нежелательный опыт…
- Сейчас тоже многие меф долбят. Еще свежесть, альфу, жуткую китайскую солягу… Я с солягой не связываюсь, мало выхлопа. Полгода, а человек уже помер или в дурке овощем лежит, - сказал Матвей, немного осмелев.
- Ты мне сейчас стольких людей напомнил, - хмуро покачала головой Александра Сергеевна, - причем, одновременно. Вот уж точно, ничто не ново под солнцем, это было уже в веках, бывших прежде нас... И прежде кровь лилась рекою, и прежде плакал человек…
- Чего? – непонимающе переспросил Матвей. В голосе Александры Сергеевны появилось легкое отторжение, и он понял, что ее смутила непринужденность интонации. Все-таки они находились по разные стороны баррикад, и то, что для него стало рутиной, долгое время являлось для нее тяготами жизни.
- Экклезиаст, - ответила она, - будь осторожнее, пожалуйста. Не люблю искать новых жильцов.
Закрыв дверь за Александрой Сергеевной, которая то ли давно ни с кем не говорила, то ли слукавила, упомянув ремиссию, озябший Матвей закутался в халат по самое горло и вернулся в кровать, под тяжелое колючее одеяло. Вновь и вновь проваливаясь в полудрему, он замечал, что у кровати кто-то стоит и буравит его пристальным взглядом. В испуге он просыпался и, естественно, никого не находил.
Полуденному звонку в дверь, который разбудил его окончательно, Матвей даже немного обрадовался, хотя никого в гости не ждал. Матвей посмотрел в глазок, однако покупателей не увидел, зато увидел полицейскую фуражку, под которой красовалось вытянутое глазком угрюмое лицо, больше подходящее гробовщику, нежели участковому Люлюкину.
- Открывай, Грязев. Я знаю, что ты дома, - окликнул его через дверь Люлюкин, переводя дыхание. Из-за неработающего лифта ему пришлось преодолевать крутые обрывы узких лестниц, сумрак лестничных клеток и хрупкие полосы солнечного света, ограниченные запылившимися стеклами окон, которые напоминали бойницы. Вместе эти элементы складывались в малоприятный парадняк с социальным жильем, где занимали квартиры бедные семьи и льготники. В том, что наркоторговец Грязев, на которого ветеран Обухов исправно писал заявления, поселился именно в таком доме, не было ничего удивительного.
Поначалу Обухов писал только электронные заявления, игнорировать которые было легко, однако потом стал ходить в участок лично, каждый раз оставляя участковому заявление на бумаге. Приходил он каждый день и скандалил, как прирожденный сутяга, поэтому Люлюкин принял решение навестить Грязева, чтобы ветеран, ищущий справедливости, унялся хотя бы на время.
Железная дверь приоткрылась, в щели, перечеркнутой цепочкой, показалось изможденное лицо Грязева – молодого наркобарыги, работающего под началом Асфара Юнусовича, к которому, если честно, приходить с такими претензиями не следовало.
- А чего случилось-то? - прогнусавил Грязев. Люлюкин не раз встречал его, передвигаясь по вверенному ему участку, но в домашней обстановке видел впервые. Слои зимней одежды сглаживали тщедушное телосложение, однако домашний халат не мог скрыть чахоточную шею с костистой опухолью кадыка и истощенные кисти рук, уже затронутые точками уколов. К рахитично-угловатому лицу с нервозным взглядом прилагались густые, светлые, норовящие завиться от излишней длины волосы, и напряженный Грязев напоминал русскую борзую.
- На тебя сосед заявления пишет. Каждый день. Утверждает, что ты распространяешь запрещенные вещества, - усмехнулся Люлюкин, - уже шестьдесят заявлений написал.
- Это неправда, я ничем не торгую.
- Конечно, не торгуешь. Я побывал у тебя в квартире, всё осмотрел и ничего не нашел, - ответил Люлюкин, перестал усмехаться и проникновенно посмотрел ему в глаза, - съезжал бы ты в другой район. Квартира-то уже засвеченная. Да и Всеволод Павлович…
- А что Всеволод Павлович? – настороженно спросил Грязев.
- Он же контуженный. Припадочный. Кто знает, вдруг его переклинит.
Сплавить наркоторговца законным путем не представлялось возможным, поэтому Люлюкин решил пойти на небольшое ухищрение, чтобы избавиться от лишних хлопот и обелить себя в глазах жильцов. Контуженным Обухов действительно был, однако летальных действий в отношении других не предпринимал. Люлюкин хорошо это знал, но вряд ли это знал Грязев.
Сообщив о контузии Всеволода Павловича, участковый Люлюкин попрощался и исчез за поворотом лестницы, скользнув очертаниями фуражки по белесому прямоугольнику окна. Матвей закрыл дверь на все обороты и поплелся в кухню. После вчерашней ночной прогулки готовых граммов не осталось, а уже сегодня могли понадобиться новые. Фасовка была самым монотонным этапом работы, и Матвей невзлюбил ее уже через месяц сбыта.
Расположившись за кухонным столом, Матвей расположил на клетчатой клеенке граненый стакан, наполненный таблетками глицина, блюдце, где лежали ложка и плотный квадрат бумаги со сгибом по центру, и неаккуратный ворох из пятидесяти зиплоков, в каждом из которых уже было по 0,9 амфетамина. Амфетамин был хороший, почти белый, наверняка сваренный в одной из питерских хат, откуда он попал на гидру, а уже потом – в руки Матвея, в виде ста граммов спрессовавшегося в зиплоке порошка. В такой можно было сыпать глицин и не бояться, что постороннее вещество бросится в глаза.
Погруженный в раздумья Матвей крошил таблетки, досыпал к амфетамину получившуюся пыль и откладывал полные граммы в сторону. Мысли бродили вокруг клиентуры, которая недавно опять поредела. Сложно было узнать, почему тот или иной человек переставал выходить на связь: то ли он решил завязать, то ли его приняли, и теперь ему не дают употреблять вертухаи, то ли употреблять больше некому, потому что субъект употребления окончательно исчез. Но помогала рассылка многообещающего сообщения о скидках, и клиенты, которые не умерли и не сели, возвращались в строй - до следующей попытки спрыгнуть.
«Хорошие спиды, надо на них скидку сделать, - думал Матвей, отстраненно глядя на собственные руки, автоматически проделывающие одну и ту же операцию, - скоро как раз выходные, влет разойдутся»
На краю стола завибрировал телефон, и на экране высветилось имя контакта - Тимофей. Матвей немедля бросил фасовку и принял звонок.
- Дело есть, Гера. Очень срочное. Поможешь? – раздался в трубке собранный голос, принадлежащий молодому мужчине, которым и являлся Тимофей.
- Насколько срочное?
- На сорок пять тысяч, - усмехнулся Тимофей, - ну так что?
- Да, возможность есть, - согласился Матвей, выдержав необходимую паузу, чтобы ответ не прозвучал по-халдейски, и складывая свободной рукой инструментарий и стафф в ящик стола, - переводи деньги.
- Я сейчас на Гражданке, могу к тебе заехать. Примерно через десять минут.
- Только не поднимайся, я сам спущусь, - суховато произнес Матвей.
Тимофей, который производил впечатление дребезжащей шарнирной куклы, который передвигался с легкой неловкостью, словно был сделан из жести, был единственным, кому Матвей добровольно сообщил свой домашний адрес. Полтора месяца назад Матвей взял на пробу десять граммов кокаина, которые планировал втридорога кому-нибудь сбыть, и этот порыв совпал с появлением Тимофея. Он даже не написал, а сразу позвонил, самовольно перешагнув стадию притирки, а на место встречи приехал в ртутно-сером бентли. Судя по строгой униформе и черной фуражке, Тимофей был личным шофером человека, который не хотел мараться, участвуя в мутных делах, поэтому возложил эту обязанность на шофера. И человек этот был обеспеченным, потому что ни Тимофей, ни его наниматель не стали оспаривать итоговую цену, которая равнялась пятнадцати тысячам.
К Тимофею требовался особый подход. Он показывался несколько раз в месяц, сообщал, что дело не терпит отлагательств, и без пререканий оплачивал несколько граммов кокаина. Видимо, в списке дилеров, которые обслуживали загадочного нанимателя, Матвей занимал не самый высокий приоритет и был запасным вариантом.
Основным контингентом Матвея были бюджетники и официально безработные наркоманы, зарабатывающие деньги в обход налоговой инспекции и уголовного кодекса. Уже второй месяц он занимался только закупкой и продажей, переложив закладки на пэтэушника Ваню Куртова, который занимал приватизированную комнату бывшего общежития в Купчино. Анамнез Куртова был предсказуемым: первая и неудачная попытка сбыта, арест и согласие работать на ФСКН. Матвей платил ему по триста рублей за каждую закладку, а Куртов не возмущался и выполнял свою работу как следует. Он был старательным и даже не таким глупым, как подсказывало первое впечатление – поверхностное и обманчивое, однако доверять ему кокаин Матвей пока не хотел.
По эмалево-синему горизонту ползли туманные волны далеких облаков, двор утопал в мерцающем снегу. Среди рябиновых ветвей и голых березовых крон метались, словно искры - янтарные, рубиновые, агатовые - желтобрюхие синички, алые снегири и воробьи с чернильными точками глазок.
Возле подъездной дорожки, стянутой подтаивающим гололедом, ожидал ртутно-серый бентли с покатой крышей, широким капотом и массивной радиаторной решеткой – наниматель Тимофея был из тех, кто предпочитал бензиновую тягу, а к модной электрической относился настороженно.
- Ну блин, Гера! – несдержанно окрикнул Тимофей, приспустив стекло, когда Матвей вышел из парадной в ледяной воздух, пропитанный теплеющими солнечными лучами. – Ты не мог быстрее?
Вытащив из кармана куртки зиплок с кокаином, Матвей положил его на протянутую ладонь Тимофея, и вдруг в полумраке заднего сиденья мелькнуло чье-то лицо, метнувшееся к свету. Лицо принадлежало нервному мужчине лет пятидесяти с прилизанными волосами, мелкими морщинами и стеклянным взглядом. Его внешность и повадки показались Матвею смутно знакомыми.
- Что это за гетто? – удивленно спросил мужчина, резво выхватив у Тимофея кокаин. – Он что, здесь живет?
- Ну а где еще драгдилеры живут? – шутливо задал Тимофей встречный вопрос. Матвей же в очередной раз подметил удивительное свойство богатых: не замечать обслуживающий персонал, не видеть в нем людей, которые могут что-то подслушать, а что-то – даже запомнить.
- Свихнуться можно… - процедил нервный мужчина, зачерпнул снежно-белый кокаин сигаретным колпаком и втянул его жадным вдохом. – Чего ты стоишь, Тимоша? Вези к Татнефти!
- До встречи, Гера, - печально улыбнулся Тимофей. Бентли резко тронулся с места, плавной дугой свернул к дороге и исчез за углом ветшающего панельного дома.
Вздохнув, Матвей пошел обратно. Сегодня был четверг, четный день недели - день медицинских процедур, и Матвею хотелось наконец-то подобрать пропорцию, которая сможет вернуть ему свежесть впечатлений.
Кинув куртку на кровать, Матвей сел в кресло, где обычно вмазывался, закатал рукав красной толстовки и нашел возле локтя выпуклую, как подкожный червь, вену. Набрал в шприц два куба свежести и медленно вогнал в кровь. Взгляд остекленел, налившись сытой осоловелостью, по радужкам расползлись копейки зрачков, и карие глаза почернели.
Издав гортанный, почти оргазмический стон, Матвей запрокинул голову, обмяк, и его податливое туловище размазало по креслу. Засверкали медью цветы на обоях, бытовая тишина наполнилась волнами гула, который обычно издают механизмы и коммуникации жилого дома. Всё произошло слишком быстро. Матвей даже не успел вытащить шприц – тот зарылся в вену скользким острием иглы и лег вместе с рукой на узорчатое сукно кресла. Зрачки широко распахнутых глаз мелко подрагивали в нистагме, отрывисто дрожала нижняя челюсть, словно ей управляло совсем другое, более стремительное тело.
Постукивая зубами, блаженно постанывая, Матвей улыбался и приходил в себя, пока его колотило мелкой дрожью, а светлые волосы липли к горячим вискам, намокшим от пота. Первая волна прихода схлынула через пятнадцать минут, одарив его эйфорией, желанием двигаться и благодушным настроением. Уверенно встав, он потянулся и хрустнул позвоночником.
Наконец-то всё стало по-прежнему, наконец-то всё стало, как раньше.
Достав из шкафа черный потертый кофр, Матвей вытащил баян, продел руки под кожаные ремни и сел на край незаправленной кровати. Татуированные пальцы запрыгали по черно-белым пуговицам клавиш, меха зашевелились, словно набирающие воздух легкие.
- Глаза темны от русского мороза, - тихо подвывал Матвей баянным переливам, едва приподнимая веки, - гудит колоколами русский лес…
Поблескивая меховым воротником расстегнутой дубленки, сверкая кровянистыми гранатами тяжелых сережек, вальяжно опершись на стену крохотной прихожей, Александра Сергеевна держала в одной руке плоскую стопку пятитысячных купюр, а в другой - ворох квитанций, выписанных на имя Конкиной А.С., которые она разглядывала, близоруко щурясь и настраивая фокус. Было двадцатое число, и Александра Сергеевна собирала ренту – утром она успела побывать в другой квартире, которая находилась в центре и которую она тоже сдавала.
Между залом и прихожей наваливался на дверной косяк недоспавший Матвей, кутающийся в темный полосатый халат. Босыми ногами он ощущал зимнюю прохладу паркета, свойственную домам с непродуманными стыками бетонных плит. Жилой массив за окном мерцал тонким слоем свежего снега, в котором крохотными искрами отражались голубое небо и слюдянисто-желтое, почти весеннее солнце.
- Недавно звонил Всеволод Павлович и жаловался на тебя, - вдруг сказала Александра Сергеевна, подняв лицо от квитанций.
Матвей закусил губу. Нетрудно было догадаться, на что жаловался Всеволод Павлович, ветеран сирийской войны: на излишне суетливых гостей, которые стали появляться в подъезде, когда адрес Матвея расползся по друзьям и знакомым Туси, на мусор в виде шприцов и упаковок от стаффа, который после них оставался, и, естественно, на Матвея, который жил через дверь от Всеволода Павловича.
- Мне все равно, прав он или нет. Ты хороший жилец. Квартиру держишь в чистоте, после одиннадцати не шумишь, платишь вовремя. Знаешь, как у Пелевина: don't look – don't see. Но должна предупредить, что он жуткий кляузник, и если ты работаешь один, к тебе может наведаться участковый.
- То есть, гости в подъезде вас не смущают? – встрепенулся Матвей, почему-то залившись румянцем. Слова Александры Сергеевны, к которым Матвей, ожидающий от нее если не презрения, то хотя бы брезгливости, оказался не готов, повергли его в легкий ступор.
- А как меня могут смущать твои торчки? – улыбнулась она. – Я в этом доме не живу. Но тебе рекомендую, друг мой, понемногу их выгонять. Тебя ведь могут опрокинуть, и что ты тогда будешь делать?
Не находя в себе уместных реакций, Матвей молчал. Отношение Александры Сергеевны было не очень-то нейтральным, однако клонилось, кажется, в сторону плюса – об этом говорила специфическая, неожиданно проступившая в ее речи лексика. Сложив деньги и квитанции в лакированную сумку, Александра Сергеевна посмотрела на Матвея и вздохнула:
- Немногие оставшиеся социальные лифты требуют или круглосуточной пахоты, или нелегальной деятельности. Первый вариант лишает отдыха и делает заработок бессмысленным, а второй… заставляет ходить ва-банк. Какой социум, такие и лифты.
Матвей мял пальцами коричневую махру халата, из сонной головы ускользала еще не оформившаяся полудогадка. Он мучил себя вопросом: да что же с этой женщиной не так?
- Либерализм Веймарской Республики, где нашлось место даже однополым отношениям - и это в начале двадцатого-то века, сменился фашизмом и консерватизмом Третьего Рейха, - продолжала разглагольствовать Александра Сергеевна, словно наконец нашла подходящего собеседника, - Германия пыталась отыграться, вернуть территории, когда-то принадлежавшие Германской Империи, воплотить в жизнь свои реваншистские амбиции. Чем все закончилось, ты знаешь: Третий Рейх исчез как геополитическая единица.
- Это вы аналогию проводите? – тихо спросил Матвей, поняв, что хозяйка квартиры не только вольнодумна в суждениях, но и не боится их высказывать.
«Почему она говорит именно про однополые отношения? – вдруг задумался он. – Почему не про экономический кризис или наркополитику?»
Однако возразить ей было сложно: хотя закона, запрещающего гомосексуализм, формально не существовало, был закон, запрещающий его пропаганду, и его размытые формулировки позволяли следственному комитету поворачивать дышло в нужную сторону. Официальная пропаганда, замешанная на ностальгии по СССР и Российской Империи одновременно, однополые связи резко порицала, а люди в целом были настроены недружелюбно.
- Что ты, какие аналогии? – лукаво усмехнулась Александра Сергеевна. – Всего лишь исторический экскурс.
Матвей хрипло кашлянул в кулак. Беседа неумолимо сворачивала к теме политики, которая была для него куда дискомфортнее, чем тема наркоторговли. Лично ему такие разговоры непосредственной пользы не приносили, да и людей, склонных к болтовне ради болтовни, он недолюбливал. Они в свою очередь недолюбливали его – за тотальное отсутствие убеждений.
- Находились оптимисты, которые считали, что Россия не пойдет по пути Веймарской Республики, они утверждали, что сытые нулевые – совсем не то же самое, что германские двадцатые. Очень иронично, что страна, «победившая фашизм», ударилась в точно такую же риторику.
- А где вы раньше работали? – невпопад спросил Матвей, надеясь наконец сменить нехорошую тему.
- О-о, в сфере ритуальных услуг. Люди умирают всегда, даже в худшие времена есть какой-никакой барыш. Особенно много денег стало водиться, когда началась вся эта история с Сирией. Мы тогда не только гражданских хоронили, но и перевозили груз 200 - из Сирии в Россию, а это недешево.
«Тоже на мертвецах, значит», - мрачно улыбнулся Матвей. Ситуация становилась все страннее и начинала его забавлять.
- Мне еще до торчков в подъезде все стало ясно. У тебя на лице отпечаток профессии: немного настороженности, немного отвращения, немного усталости. Очень специфическая маска, - сказала Александра Сергеевна.
Матвей вопросительно посмотрел на нее. Вместо ответа она немного закатала рукав дубленки, оголив костистую руку, похожую на цыплячью лапу, и на коже, покрытой мелкими кляксами пигментных пятен, Матвей разглядел выпуклые сизые вены, над которыми складывались в пунктиры точечки шрамов. Белые пунктиры полностью дублировали венозную карту, опоясывая запястье.
- Десятые годы. Мефедрон.
«Интересно, сколько она угрохала на тюнинг», - подумал Матвей, глядя на неестественно белые и ровные зубы Александры Сергеевны, на ее лицо, чуть тронутое пластической хирургией. Угадать с первого взгляда ее прежние пристрастия было невозможно, хотя наметанный глаз Матвея обычно улавливал все характерные признаки: внешность, опережающая паспортный возраст, печальная мимика одрябшего лица, равнодушный взгляд, выдающий нежелательный опыт…
- Сейчас тоже многие меф долбят. Еще свежесть, альфу, жуткую китайскую солягу… Я с солягой не связываюсь, мало выхлопа. Полгода, а человек уже помер или в дурке овощем лежит, - сказал Матвей, немного осмелев.
- Ты мне сейчас стольких людей напомнил, - хмуро покачала головой Александра Сергеевна, - причем, одновременно. Вот уж точно, ничто не ново под солнцем, это было уже в веках, бывших прежде нас... И прежде кровь лилась рекою, и прежде плакал человек…
- Чего? – непонимающе переспросил Матвей. В голосе Александры Сергеевны появилось легкое отторжение, и он понял, что ее смутила непринужденность интонации. Все-таки они находились по разные стороны баррикад, и то, что для него стало рутиной, долгое время являлось для нее тяготами жизни.
- Экклезиаст, - ответила она, - будь осторожнее, пожалуйста. Не люблю искать новых жильцов.
Закрыв дверь за Александрой Сергеевной, которая то ли давно ни с кем не говорила, то ли слукавила, упомянув ремиссию, озябший Матвей закутался в халат по самое горло и вернулся в кровать, под тяжелое колючее одеяло. Вновь и вновь проваливаясь в полудрему, он замечал, что у кровати кто-то стоит и буравит его пристальным взглядом. В испуге он просыпался и, естественно, никого не находил.
Полуденному звонку в дверь, который разбудил его окончательно, Матвей даже немного обрадовался, хотя никого в гости не ждал. Матвей посмотрел в глазок, однако покупателей не увидел, зато увидел полицейскую фуражку, под которой красовалось вытянутое глазком угрюмое лицо, больше подходящее гробовщику, нежели участковому Люлюкину.
- Открывай, Грязев. Я знаю, что ты дома, - окликнул его через дверь Люлюкин, переводя дыхание. Из-за неработающего лифта ему пришлось преодолевать крутые обрывы узких лестниц, сумрак лестничных клеток и хрупкие полосы солнечного света, ограниченные запылившимися стеклами окон, которые напоминали бойницы. Вместе эти элементы складывались в малоприятный парадняк с социальным жильем, где занимали квартиры бедные семьи и льготники. В том, что наркоторговец Грязев, на которого ветеран Обухов исправно писал заявления, поселился именно в таком доме, не было ничего удивительного.
Поначалу Обухов писал только электронные заявления, игнорировать которые было легко, однако потом стал ходить в участок лично, каждый раз оставляя участковому заявление на бумаге. Приходил он каждый день и скандалил, как прирожденный сутяга, поэтому Люлюкин принял решение навестить Грязева, чтобы ветеран, ищущий справедливости, унялся хотя бы на время.
Железная дверь приоткрылась, в щели, перечеркнутой цепочкой, показалось изможденное лицо Грязева – молодого наркобарыги, работающего под началом Асфара Юнусовича, к которому, если честно, приходить с такими претензиями не следовало.
- А чего случилось-то? - прогнусавил Грязев. Люлюкин не раз встречал его, передвигаясь по вверенному ему участку, но в домашней обстановке видел впервые. Слои зимней одежды сглаживали тщедушное телосложение, однако домашний халат не мог скрыть чахоточную шею с костистой опухолью кадыка и истощенные кисти рук, уже затронутые точками уколов. К рахитично-угловатому лицу с нервозным взглядом прилагались густые, светлые, норовящие завиться от излишней длины волосы, и напряженный Грязев напоминал русскую борзую.
- На тебя сосед заявления пишет. Каждый день. Утверждает, что ты распространяешь запрещенные вещества, - усмехнулся Люлюкин, - уже шестьдесят заявлений написал.
- Это неправда, я ничем не торгую.
- Конечно, не торгуешь. Я побывал у тебя в квартире, всё осмотрел и ничего не нашел, - ответил Люлюкин, перестал усмехаться и проникновенно посмотрел ему в глаза, - съезжал бы ты в другой район. Квартира-то уже засвеченная. Да и Всеволод Павлович…
- А что Всеволод Павлович? – настороженно спросил Грязев.
- Он же контуженный. Припадочный. Кто знает, вдруг его переклинит.
Сплавить наркоторговца законным путем не представлялось возможным, поэтому Люлюкин решил пойти на небольшое ухищрение, чтобы избавиться от лишних хлопот и обелить себя в глазах жильцов. Контуженным Обухов действительно был, однако летальных действий в отношении других не предпринимал. Люлюкин хорошо это знал, но вряд ли это знал Грязев.
Сообщив о контузии Всеволода Павловича, участковый Люлюкин попрощался и исчез за поворотом лестницы, скользнув очертаниями фуражки по белесому прямоугольнику окна. Матвей закрыл дверь на все обороты и поплелся в кухню. После вчерашней ночной прогулки готовых граммов не осталось, а уже сегодня могли понадобиться новые. Фасовка была самым монотонным этапом работы, и Матвей невзлюбил ее уже через месяц сбыта.
Расположившись за кухонным столом, Матвей расположил на клетчатой клеенке граненый стакан, наполненный таблетками глицина, блюдце, где лежали ложка и плотный квадрат бумаги со сгибом по центру, и неаккуратный ворох из пятидесяти зиплоков, в каждом из которых уже было по 0,9 амфетамина. Амфетамин был хороший, почти белый, наверняка сваренный в одной из питерских хат, откуда он попал на гидру, а уже потом – в руки Матвея, в виде ста граммов спрессовавшегося в зиплоке порошка. В такой можно было сыпать глицин и не бояться, что постороннее вещество бросится в глаза.
Погруженный в раздумья Матвей крошил таблетки, досыпал к амфетамину получившуюся пыль и откладывал полные граммы в сторону. Мысли бродили вокруг клиентуры, которая недавно опять поредела. Сложно было узнать, почему тот или иной человек переставал выходить на связь: то ли он решил завязать, то ли его приняли, и теперь ему не дают употреблять вертухаи, то ли употреблять больше некому, потому что субъект употребления окончательно исчез. Но помогала рассылка многообещающего сообщения о скидках, и клиенты, которые не умерли и не сели, возвращались в строй - до следующей попытки спрыгнуть.
«Хорошие спиды, надо на них скидку сделать, - думал Матвей, отстраненно глядя на собственные руки, автоматически проделывающие одну и ту же операцию, - скоро как раз выходные, влет разойдутся»
На краю стола завибрировал телефон, и на экране высветилось имя контакта - Тимофей. Матвей немедля бросил фасовку и принял звонок.
- Дело есть, Гера. Очень срочное. Поможешь? – раздался в трубке собранный голос, принадлежащий молодому мужчине, которым и являлся Тимофей.
- Насколько срочное?
- На сорок пять тысяч, - усмехнулся Тимофей, - ну так что?
- Да, возможность есть, - согласился Матвей, выдержав необходимую паузу, чтобы ответ не прозвучал по-халдейски, и складывая свободной рукой инструментарий и стафф в ящик стола, - переводи деньги.
- Я сейчас на Гражданке, могу к тебе заехать. Примерно через десять минут.
- Только не поднимайся, я сам спущусь, - суховато произнес Матвей.
Тимофей, который производил впечатление дребезжащей шарнирной куклы, который передвигался с легкой неловкостью, словно был сделан из жести, был единственным, кому Матвей добровольно сообщил свой домашний адрес. Полтора месяца назад Матвей взял на пробу десять граммов кокаина, которые планировал втридорога кому-нибудь сбыть, и этот порыв совпал с появлением Тимофея. Он даже не написал, а сразу позвонил, самовольно перешагнув стадию притирки, а на место встречи приехал в ртутно-сером бентли. Судя по строгой униформе и черной фуражке, Тимофей был личным шофером человека, который не хотел мараться, участвуя в мутных делах, поэтому возложил эту обязанность на шофера. И человек этот был обеспеченным, потому что ни Тимофей, ни его наниматель не стали оспаривать итоговую цену, которая равнялась пятнадцати тысячам.
К Тимофею требовался особый подход. Он показывался несколько раз в месяц, сообщал, что дело не терпит отлагательств, и без пререканий оплачивал несколько граммов кокаина. Видимо, в списке дилеров, которые обслуживали загадочного нанимателя, Матвей занимал не самый высокий приоритет и был запасным вариантом.
Основным контингентом Матвея были бюджетники и официально безработные наркоманы, зарабатывающие деньги в обход налоговой инспекции и уголовного кодекса. Уже второй месяц он занимался только закупкой и продажей, переложив закладки на пэтэушника Ваню Куртова, который занимал приватизированную комнату бывшего общежития в Купчино. Анамнез Куртова был предсказуемым: первая и неудачная попытка сбыта, арест и согласие работать на ФСКН. Матвей платил ему по триста рублей за каждую закладку, а Куртов не возмущался и выполнял свою работу как следует. Он был старательным и даже не таким глупым, как подсказывало первое впечатление – поверхностное и обманчивое, однако доверять ему кокаин Матвей пока не хотел.
По эмалево-синему горизонту ползли туманные волны далеких облаков, двор утопал в мерцающем снегу. Среди рябиновых ветвей и голых березовых крон метались, словно искры - янтарные, рубиновые, агатовые - желтобрюхие синички, алые снегири и воробьи с чернильными точками глазок.
Возле подъездной дорожки, стянутой подтаивающим гололедом, ожидал ртутно-серый бентли с покатой крышей, широким капотом и массивной радиаторной решеткой – наниматель Тимофея был из тех, кто предпочитал бензиновую тягу, а к модной электрической относился настороженно.
- Ну блин, Гера! – несдержанно окрикнул Тимофей, приспустив стекло, когда Матвей вышел из парадной в ледяной воздух, пропитанный теплеющими солнечными лучами. – Ты не мог быстрее?
Вытащив из кармана куртки зиплок с кокаином, Матвей положил его на протянутую ладонь Тимофея, и вдруг в полумраке заднего сиденья мелькнуло чье-то лицо, метнувшееся к свету. Лицо принадлежало нервному мужчине лет пятидесяти с прилизанными волосами, мелкими морщинами и стеклянным взглядом. Его внешность и повадки показались Матвею смутно знакомыми.
- Что это за гетто? – удивленно спросил мужчина, резво выхватив у Тимофея кокаин. – Он что, здесь живет?
- Ну а где еще драгдилеры живут? – шутливо задал Тимофей встречный вопрос. Матвей же в очередной раз подметил удивительное свойство богатых: не замечать обслуживающий персонал, не видеть в нем людей, которые могут что-то подслушать, а что-то – даже запомнить.
- Свихнуться можно… - процедил нервный мужчина, зачерпнул снежно-белый кокаин сигаретным колпаком и втянул его жадным вдохом. – Чего ты стоишь, Тимоша? Вези к Татнефти!
- До встречи, Гера, - печально улыбнулся Тимофей. Бентли резко тронулся с места, плавной дугой свернул к дороге и исчез за углом ветшающего панельного дома.
Вздохнув, Матвей пошел обратно. Сегодня был четверг, четный день недели - день медицинских процедур, и Матвею хотелось наконец-то подобрать пропорцию, которая сможет вернуть ему свежесть впечатлений.
Кинув куртку на кровать, Матвей сел в кресло, где обычно вмазывался, закатал рукав красной толстовки и нашел возле локтя выпуклую, как подкожный червь, вену. Набрал в шприц два куба свежести и медленно вогнал в кровь. Взгляд остекленел, налившись сытой осоловелостью, по радужкам расползлись копейки зрачков, и карие глаза почернели.
Издав гортанный, почти оргазмический стон, Матвей запрокинул голову, обмяк, и его податливое туловище размазало по креслу. Засверкали медью цветы на обоях, бытовая тишина наполнилась волнами гула, который обычно издают механизмы и коммуникации жилого дома. Всё произошло слишком быстро. Матвей даже не успел вытащить шприц – тот зарылся в вену скользким острием иглы и лег вместе с рукой на узорчатое сукно кресла. Зрачки широко распахнутых глаз мелко подрагивали в нистагме, отрывисто дрожала нижняя челюсть, словно ей управляло совсем другое, более стремительное тело.
Постукивая зубами, блаженно постанывая, Матвей улыбался и приходил в себя, пока его колотило мелкой дрожью, а светлые волосы липли к горячим вискам, намокшим от пота. Первая волна прихода схлынула через пятнадцать минут, одарив его эйфорией, желанием двигаться и благодушным настроением. Уверенно встав, он потянулся и хрустнул позвоночником.
Наконец-то всё стало по-прежнему, наконец-то всё стало, как раньше.
Достав из шкафа черный потертый кофр, Матвей вытащил баян, продел руки под кожаные ремни и сел на край незаправленной кровати. Татуированные пальцы запрыгали по черно-белым пуговицам клавиш, меха зашевелились, словно набирающие воздух легкие.
- Глаза темны от русского мороза, - тихо подвывал Матвей баянным переливам, едва приподнимая веки, - гудит колоколами русский лес…
☸
Неподалеку от крыльца, украшенного мозаикой из черно-белых лент меандра, был припаркован красный мерседес на электрической тяге, за рулем которого сидела молодая женщина в черном – изящный, обтекаемый, влажно-гладкий. Под зеркалом заднего вида медленно вращался вокруг своей оси слюдянисто-прозрачный полумесяц с лукавой улыбкой, на нижнем изгибе его серпа бахромой висели жемчужно-белые звезды. Композиция пропускала через себя дневной свет, отбрасывая на салон темного бархата нелепую тень: вытянутую, полупрозрачную, испорченную солнечной рябью.
Мерседес принадлежал Тоне Ширшовой, дочери прокурора Ширшова, который возглавлял прокуратуру Санкт-Петербурга, и за рулем сидела именно она. Под широкими полами черной шляпы виднелся точеный до хрупкости нос, шею рубил надвое кожаный чокер, а из широких рукавов намеренно мешковатого пальто торчали такие же точеные руки драматической актрисы.
Юноша, который сидел на заднем сиденье и неотрывным взглядом сверлил железную дверь парадной, выкрашенную бледно-вишневым, был ее ровесником и кровным братом, Толиком Ширшовым. Догадаться об их родствен было нетрудно: чертами лица Толик повторял Тоню, будучи ее маскулинной вариацией с квадратным подбородком и рублеными движениями. Натренированный торс скрывался под утепленной мешковатой мантией с капюшоном, а подошвы кроссовок горели светодиодами, отбрасывая на резиновый коврик размытые пятна оранжевого, фиолетового и желтого света. В напряженной руке Толик сжимал позолоченный «макаров», рукоять которого была украшена объемными желтыми цветами жостовской росписи.
Толик занимался боевыми искусствами, питал страсть к огнестрельному оружию и обожал фильмы Квентина Тарантино. С Тоней его связывали не только кровное родство и общие вредные привычки, но и ненависть к барыге, который снабжал их стимуляторами. Именно поэтому прокурорские отпрыски, катающиеся в масле, собрались заняться современным аналогом охоты на дичь, какой раньше заполняли досуг дворяне, вот только вместо дичи был человек – не самый порядочный, отнюдь не щедрый и весьма скользкий.
- Не перепутай, пожалуйста, - сказала Тоня и достала из бардачка шприц на пять кубов, наполовину полный прозрачной жидкостью. Сняв со шприца оранжевый колпачок, она невесомо надавила на поршень, подогнав жидкость к игле, и та брызнула в воздух крохами капель.
- Да не перепутаю я! Патлатый дрыщ в синей куртке, партаки на пальцах. Что тут сложного? – огрызнулся дерганый от ожидания Толик. Позавчера он обнаружил в шприце вязкую крахмальную массу, вмазаться которой оказалось невозможно, и решение созрело быстро. У Тони с барыгой, которого они еще ни разу не видели, были свои счеты: как-то раз тот ненавязчиво предложил свои услуги, чем свел к нулю ее очередную месячную ремиссию.
Порыв окреп и оброс продуманным планом. Оставалось лишь найти людей, знающих его адрес, и таковые, конечно же, нашлись. Простоватая Туся поверила словам Ширшовых, что им очень, очень нужно посетить барыгу, и чем быстрее это произойдет, тем лучше, поэтому выложила всё, что могла. Ситуация складывалась привлекательная: Герыч, являющийся по паспорту, видимо, Германом, был свежевым наркоманом, снимал квартиру на Гражданке и торговал в одиночку, иногда проявляя податливость. Словом, представлял собой легкую мишень.
- А если он прямо в машине откинется? Куда труп девать? – спросил Толик, глядя на шприц в руках Тони. – Он же наверняка упоротый, вдруг у него сердце не выдержит?
- Это ментовский транквилизатор, он на таких и рассчитан.
- Главное, чтобы ты у него вену нашла. У него и вен-то, наверное, почти нет. Вряд ли он сам с первого раза попадает, - скривился он.
- Не щелкай клювом, - с хищными нотками проговорила Тоня, устремив взгляд на открывающуюся железную дверь. Из парадной вышел долговязый парень, одетый в некогда узкие джинсы, красную толстовку и синюю кожаную куртку – длинный, нескладный, иссушенный дешевым ширевом. Рассеянно зажав в зубах сигарету, он защелкал зажигалкой в тщетных попытках подкурить, но раз за разом терпел фиаско. Весь его вид выражал крайнюю увлеченность чем-то внутренним. Подтверждала это и мелкая моторика: Герыч едва заметно приплясывал всем туловищем. Он приплясывал даже лицом, и у Тони свело челюсть от одного только взгляда на него.
Оставив «макаров» на бархате сиденья, Толик резво выскочил из мерседеса, натянул на лицо приветливую мину и направился к Герычу, помахивая пятерней.
- Извините, мы банкомат ищем. Тут есть банкомат? – донесся до Тони его излишне веселый вопль. Герыч даже ответить не успел, как Толик, вдруг оказавшись рядом с ним, ударил его по подбородку хорошо поставленным апперкотом. Голова барыги запрокинулась, потянув за собой туловище, и он чуть не рухнул на обледенелый асфальт. Толик успел поймать его, но едва удержался на ногах сам. Зажигалка выпала из разжавшихся пальцев и исчезла в полуседом снегу.
Толик схватил Герыча за талию, закинул его руку себе на плечо и потащил к машине. Вид у Толика был торжествующий, а голова барыги свисала, как у пьяного. Он был без сознания. Ноги волочились по льду, как у тряпичной куклы, набитой ватой. Кинув его на заднее сиденье, Толик резво занял прежнее место, закрыл дверь и снова вцепился в пистолет. Тоня нажала сенсорную кнопку на приборной панели и заблокировала двери.
- Чуть ногу не подвернул. Вмажь его, пока он не очухался.
Повернувшись к бессознательному телу, Тоня осмотрела запястье барыги, выбрала наиболее рельефную вену и впрыснула ему в кровоток все два с половиной куба транквилизатора, который подействовал в первую же минуту. Его дыхание выровнялось, превратившись в мерные вздохи крепко спящего человека. Обшарив карманы, Тоня обнаружила только карту «Подорожник», початую пачку красного «Честерфилда» и телефон. Список контактов был подозрительно скудным и ничуть не походил на перечень клиентов драгдилера.
- Час поспит. Как раз успеем доехать, я нашла хорошее место, - резюмировала Тоня, переложив телефон в глубокий карман своего пальто, - глушь, вокруг только поле и лес.
Она выстроила маршрут, который брал начало на Суздальском проспекте, а завершался Ольгинской дорогой и безымянной колеей в заснеженной пустоте, которая находилась между двумя деревнями – Буграми и Порошкино.
Герыч спал, как ребенок, и пребывал в блаженном неведении. Из приоткрытого рта на подбородок стекала слюна. Толя смотрел то на рукоять «макарова», где распускались надутыми лепестками желтые бутоны, то на фонарные дуги, которые ребрами нависали над проспектом. Закинув ногу на ногу, Тоня скучающе развалилась на водительском месте, а электромобиль самостоятельно следовал по заданному маршруту – похрустывая комковатой смесью снега, смога и реагента, объезжая опасные участки дороги и избегая аварийных ситуаций.
Местность снаружи менялась: панельный ландшафт постепенно исчезал, уступая место блеклому снежному полотну и черной резной кромке далеких деревьев, дорога сужалась, а выбоин в асфальте оказывалось все больше. За лобовым стеклом тянулась в белую даль Ольгинская дорога, оканчивающаяся перекрестком проселочных троп, которые летом дышали теплой пылью, а сейчас прятались под слоем снега.
- Кто вы? Где я? Куда вы меня везете? – донесся до ушей Тони гнусавый полустон с заднего сиденья. Резко повернувшись на звук, она увидела разомлевшего от транквилизатора Герыча, который ослабшей рукой дергал ручку заблокированной двери, невзирая на движущийся за окном пейзаж, и Толика, который уже взял его на мушку. Герыч проспал минут двадцать, не дотянув до обещанного часа.
- Ты совсем дурак? – схватив его за подбородок, Толик сунул ему в рот ствол «макарова». Трагически вскинув брови на манер греческой театральной маски, Герыч замолчал, замер и даже стал медленнее дышать. Он лишь испуганно моргал, широко раскрывая глаза.
- Машина на ходу, ты бы себе шею сломал. Ты суицидник? – наклонился Толик к молчаливому собеседнику. Герыч моргнул, потому что иначе ответить пока не мог. Отпустив его, Толик отстранился и слегка вскинул подбородок. По-прежнему не шевелясь, Герыч нервно сглотнул. До белизны прикусив губу, он оглядывал то брата, то сестру. В застывшей гримасе землисто-бледного лица проступала бескровность ужаса.
- Вам лучше меня высадить, я работаю на Асфара Юнусовича, - тихо проговорил он. Тоня фыркнула и издала ехидный смешок:
- Да-да, а мы на Громова.
- Я могу позво… - потянулся он к карману, однако подрагивающие пальцы нащупали пустоту. Вскинув мрачный взгляд, он осторожно произнес:
- Дайте мне позвонить.
- Ага, как же, - осклабился Толик и приставил ему к голове холодное, как сама смерть или русская зима, дуло. Вел он себя как типичный тарантиновский персонаж: тыкал в жертву пистолетом по поводу и без, ухмылялся и угрожающе басил. Тоню это понемногу начинало раздражать, однако Герыч, кажется, принимал игру Толика за чистую монету и болезненно переживал стадию отрицания.
- Давайте разойдемся по-хорошему, - произнес он, перейдя сразу к торгам. Гневаться, находясь под прицелом, было бы жалко, бессмысленно и даже опасно.
- По-хорошему? И это ты предлагаешь нам разойтись по-хорошему? Сколько у тебя беру, а там каждый раз такая бодяга, что я мог бы применять ее по назначению и клейстер варить.
- Почему сразу бодяга, может, вы толер набили, а крайним делаете меня…
- Толер, значит! – процедил Толик, шевельнув крыльями ноздрей, и схватил Герыча за горло. – Толер в баяне не вязнет, как клейстер! Зато крахмал вязнет, тварь конченая!
Извиваясь на бархатном сиденье, как дождевой червь на ладони рыбака, Герыч неразборчиво хрипел и пытался отодрать от своей шеи цепкие пальцы Толика. Тот сжалился, отнял руку, и Герыч жадным глотком вобрал в легкие воздух.
- Хватит! – истерически прохрипел он, вжавшись спиной в дверцу и стукнувшись затылком об стекло. Толик нанес ему размашистую оплеуху, задевшую не только щеку, но и другие части лица. Тихо взвыв, Герыч зажал нос рукой, а потом посмотрел на окровавленные пальцы. Из ноздрей текла кровь, пачкая узкие обветренные губы и неестественно хорошие для скоростного наркомана зубы.
- Если вы хотите, чтобы я вернул деньги, скажите, сколько вам нужно, - примирительно заявил он.
- Не думай, что ты так просто откупишься. У нас денег побольше, чем у тебя. И при чем тут вообще деньги, если это дело принципа? Ты, Герыч, водил моего брата за нос, а меня вообще намеренно травил. Как мы можем допустить, чтобы какой-то мелкий паскуда наебывал нас и зарабатывал на нашем здоровье? – важно и даже с торжеством проговорила Тоня, физически ощущая чужой страх, который отдавался в ее мозгу нарастающей радостью. – Я выбрала хорошее место. Там нам никто не помешает. Обратно мы поедем, как ты понимаешь, уже без тебя.
- Позвоните сами, вам все объяснят… - обреченно выдохнул Герыч.
- Ну-ну, конечно! – загоготал Толик. – Кто объяснит-то? Асфар Юнусович?
- Да, Асфар Юнусо… А-а-а!
Хныкающий голос Герыча сорвался на вскрик: Толик схватил его за левое запястье и для острастки выкрутил руку. Дернувшись, Герыч вырвал запястье из чужой хватки, зашипел сквозь стиснутые зубы и пристально посмотрел Толику прямо в глаза – не моргая, не меняя траектории взгляда, чуть подавшись вперед.
- Ну чего ты орешь? – спросил Толик с угрожающей лаской. – Я еще ничего страшного не сделал.
- Не убивайте меня, я не хочу… - судорожно забормотал Герыч, постукивая зубами. Перекошенное лицо побледнело настолько, что аллергическая сыпь от хронической интоксикации и синяки под глазами проступили розоватым и бледно-фиолетовым. Тоня нахмурилась. Однако распалившийся Толик не успокаивался. Толика несло. Он представлял себя то ли мистером Блондином, то ли Винсентом Вегой и не переставал запугивать барыжку, хотя тот и без того крупно дрожал, как чахоточный, и таращился сквозь Толика мидриазными глазами.
- Знаешь, что решит твою судьбу? – улыбнулся Толик, склонив голову набок. - Рубль. Если выпадет решка, тебе повезет, и ты умрешь быстро. Если выпадет орел – умирать придется намного дольше.
Замысел был простым, как пять копеек: вывезти барыгу в занесенную снегом глушь, убедить в грядущей смерти, а потом пожалеть и уехать, наказав больше никогда людей не обманывать. В последнем акте этой трагикомедии Толик хотел подбросить рублевую монету и эффектно поймать ее, сжав между пальцами, чтобы монета упала на ребро. Смерть от холода Герычу не грозила: относительно рядом были две деревни, а при желании он мог даже дойти до трассы и поймать попутку.
Пока всё выглядело убедительно. Пожалуй, даже слишком.
Герыч вздернул губу в непроизвольном оскале, ощерившись чередой белых и желтоватых зубов. Мерседес плавно качнуло, как палубу корабля – закончилась Ольгинская дорога, и машина свернула в обледенелую колею. Всюду, куда падал взгляд, виднелись лишь нетронутые городскими выбросами ноздреватые сугробы и темные кроны деревьев, напоминающие переплетения острых гвоздей.
- Можешь звонить родственникам, пусть покупают гроб и панихиду организовывают, чтобы времени не терять! – усмехнулся Толик. - У тебя вообще есть родственники? Или ты для них отрезанный ломоть, на который даже тратиться жалко?
Тоня успела зафиксировать, как окровавленное лицо Герыча неожиданно разгладилось до мертвенного спокойствия. А потом он решительно кинулся к водительскому сиденью и резко дернул на себя ручной тормоз. Система управления назойливо запищала, сигнализируя о выключении автопилота, и при более теплой погоде, при более урбанистическом ландшафте автоматика сработала бы, как часы, заставив мерседес замереть на месте. Но гололед еще не сошел, и теперь мерседес неизбежной инерцией заносило влево. Надсадно кричал Толик, метался за лобовым стеклом черно-бело-голубой калейдоскоп. Вцепившись в руль, вопящая Тоня пыталась повернуть обратно к дороге, но что-то делать было уже поздно. Полукругом пропахав сугробы, очертив в них жирный рыхлый штрих, мерседес врезался в деревянный столб – реликт деревенской инфрастуктуры.
Тоню резко швырнуло влево, шляпа слетела с густых волос, голова ударилась об стекло. В ушах заложило, за серебристой паутиной трещин расцвел смятый цветок капота, и распустилась, как хлопковая коробочка, подушка безопасности. Не осознавая течение времени, Тоня слепо нашарила на приборной панели нужную кнопку и разблокировала двери. Выпутавшись из давящего на лицо белого савана, она потянула ручку двери и гусеницей вывалилась в бледную, холодную, шершавую кашу.
Далекое солнце подтапливало русские снега, которые водянисто поблескивали, покрываясь хрусталем ледяной корочки. В поле зрения мельтешили солнечные блики, заставляющие щуриться, голова кружилась, как заведенная карусель, ноги ходили ходуном и шатко ковыляли вперед. Опираясь руками на красный железный остов, Тоня обошла разбитый мерседес и увидела валяющегося в снегу брата. Он лежал, обхватив живот, и надрывно стонал, как больной ребенок, а разбитое лицо окрашивало снег бледно-красными разводами. В метре от него горел позолотой «макаров».
- Толя! – истошно завопила она и кинулась к нему. Но ее схватили за волосы, размашисто ударили кулаком по скуле и отшвырнули назад. Прокатившись по снегу и несколько раз перевернувшись, Тоня оперлась на локти и стала подниматься. Тело не слушалось, головокружение тошнотой подкатывало к горлу, и она валилась обратно. Звонким эхом до нее доносилась надрывная мужская ругань.
- Я же предупреждал, что не хочу! Вам пизда!
- Мудак, мы не собирались тебя убивать, мы просто напугать хотели, чтобы ты перестал крахмал в спиды сыпать! Ширик свежевой! Ты же и себя угробить мог! Ты идиот?!
- Хватить заливать, сволочь! А кто кого убьет, это мы еще посмотрим!
- Ты хоть знаешь, кто наш отец?! Прокурор Ширшов! Да ты говно жрать будешь, если тронешь нас, уличная падла!
Тоне наконец удалось встать, но по коже сразу побежал холодок, а губы раскрылись в сдавленном вскрике. Пошатывающийся Толик стоял по колено в снегу, а напротив него обеими руками сжимал жостовскую рукоять «макарова» по-собачьи скалящийся Герыч. Хлопнул выстрел, быстро свистнула пуля и исчезла в сугробе – где-то перед мигающими кроссовками Толика.
- Убью! – нервно выпалил Герыч. Рефлекторно подняв руки, Тоня смотрела то на оторопевшего брата, то на машину, то на деревянный столб. Природа вокруг была холодящей, застывшей и безлюдной.
- Нет, не надо, нет… - талдычил заведенный ужасом Толик, и с каждым словом тон его голоса задирался все выше.
- Заткнись! – плаксиво прикрикнула на него Тоня.
- А ну завалил ебало! – приказал Герыч, угрожающе поведя пистолетом. Окончательно испугавшись, Толик тоже поднял руки. До него дошло, что вряд ли Герыч сейчас чувствует боль, даже если у него что-то болит. Положение складывалось незавидное: смерть смрадно дышала в затылок, а земным представителем ее воли был несдержанный наркоман из низов.
- Если ты нас убьешь, невский синдикат не сможет тебя отмазать, - сказала Тоня, не опуская рук, - давай разойдемся мирно. Без крови.
Дернув нижней челюстью в стимуляторной судороге, Герыч промолчал, но задумался. Предложение было более чем рациональным: где-то он уже слышал про прокурора Ширшова, а это значило, что прокурор, какого бы ранга он ни был, существовал в одной с ним реальности, и убивать его детей действительно не стоило.
- Верните телефон, - приказал Герыч. Несмотря на холод равнинного ветра, пробирающий до слез в глазах, на его лице поблескивали застывающие капельки пота. Такой же заостренный блеск таился в глубине смолистых глаз. Тоня же, предпочитающая автомобиль, одевалась обычно легко, поэтому холод пробирался под легкое пальто нарастающим колотуном. Опасливо опустив руки, она достала из кармана телефон Герыча, положила его на измятый, как упаковочная фольга, капот мерседеса и отступила на десять шагов назад, волоча за собой брата, который словно задумался, пропустил часть событий и вследствие этого рук не опускал.
Продолжая держать их на прицеле, Герыч подошел к мерседесу и схватил телефон. Набрав нужный номер, он заговорил практически сразу:
- Слушай, Гриша, я в крайне щекотливой ситуации… Меня вывезли в лес, и я не знаю, где я нахожусь. Пистолет у меня, я прямо сейчас угрожаю детям какого-то Ширшова. Что мне с ними делать?
Видимо, его сумбурного ответа оказалось недостаточно, потому что Герыч, не теряя бдительности, пустился в подробные объяснения, где упомянул всё – даже претензии к качеству продукта и наличию в нем крахмала.
«Гриша…» - задумалась Тоня, но сразу отмела маловероятную догадку. Заметив, что брат так и стоит с поднятыми руками, она ткнула его в бок. Это застало Толика врасплох, он вздрогнул, однако руки опустил и постепенно стал приходить в себя. Наконец договорив, Герыч убрал телефон и с долей усталости сообщил:
- Скоро приедут. И только попробуйте ко мне подойти – я вам колени прострелю.
- Приедут? Кто? – тихо спросил Толя, окончательно очнувшийся от слепящего испуга. Герыч холодно посмотрел на него:
- Служба охраны. Что вообще за вопрос такой? Я же предупреждал.
Время ползло медленно, как подстреленный солдат: сдвинувшееся солнце тащило за собой угольно-черные тени деревьев, и они косо ложились на мерцающий снег худыми вытянутыми лапами. Стараясь не обращать внимания на стихающее головокружение и слабеющие позывы к тошноте, Тоня переминалась с ноги на ногу и старалась согреться хоть как-нибудь. Тем же самым занимались Толик и Герыч. Последнего едва заметно, но все же отпускало. Впереди его ожидали усталость, осознание холода и самоуничижительные мысли, однако он не выпускал позолоченного «макарова» и был готов выстрелить снова, если возникнет такая необходимость.
- Выебнулся перед ним? Молодец! – ядовито прошептала Тоня брату, чтобы Герыч их не подслушал. – Уже могли бы до Бугров дойти и вызвать эвакуатор, а не кишки в глуши морозить.
Повернувшись к ней, Толик в очередной раз подпрыгнул на притоптанном за двадцать минут снегу, брызнув на него кляксами цветного света, и тихо, но уверенно произнес:
- Слушай, да ничего страшного теперь не будет. Ему невские сказали, чтобы он нас не убивал, а с невскими мы договоримся. У папы с Жаровым какие-то дела. Думаешь, не вывезем?
- А ты можешь поручиться, что этот скоростной отморозок нас не пристрелит? – Тоня сложила руки на груди, спрятав озябшие ладони в подмышки. - Я вот, глядя на него, очень сомневаюсь, что он адекватный. Он же типичный барыга из нищуков, который раньше просто торчал, а теперь дорвался до денег и торчит еще больше. Что мы будем делать, если его переклинит?
- Да нормально все будет, успокойся, охуенно все будет, - произнес Толик очередной зацикленный сэмпл.
- Особенно охуенно будет бегать по заснеженному полю от спятившего наркомана, который вооружен нашим пистолетом. Самое смешное, что пистолет-то наш. Нахрена ты вообще его зарядил, если не собирался стрелять?
- Я хотел взять гжель, но перед выходом передумал, а патроны…
- Его транк даже на полчаса не уложил. Сколько же в нем этого аптечного говнища…
Тоня распалилась и даже повысила голос, но осеклась, заметив на горизонте три приближающиеся точки, которые с каждым километром обрастали деталями, постепенно превращаясь в черные, лаковые, будто облитые нефтью автомобили – длинный майбах с тонированными стеклами и два гелендвагена. Майбах был Тоне подозрительно знаком, как и один из гелендвагенов, на заднем стекле которого виднелась огромная наклейка во все окно – «спасибо деду за победу».
- Вот ведь… - неслышно процедила она сквозь зубы. Толик озадаченно посмотрел на нее, а Герыч, сам того не осознавая, верноподданнически ссутулился.
Чуть съехав с Ольгинской дороги, плавно затормозил в снежной колее майбах, чей обтекаемый корпус без рублено-прямых линий переходил в широкий бампер, агрессивно блестящий хромированным железом, а следом за ним затормозили две машины сопровождения. Последним ехал гелендваген попроще и постарше, в его салоне можно было разглядеть протокольные лица в серых фуражках наркоконтроля и бритые до синевы головы бывших спортсменов, сделавших в свое время судьбоносный для себя и их будущих жертв выбор.
- А вот и наши гангстеры! – довольно засмеялся Гриша, энергично выскочив из гелендвагена, который следовал в птице-тройке, соответствующей своей эпохе, вторым по счету. – Здравствуй, Герыч. Можешь расслабиться, я приехал не один.
- Григорий Иванович… - поежился Толик. Тоня залилась блеклым румянцем, насупилась и исподлобья покосилась на Гришу, который шагал к Герычу, трамбуя тяжелыми ботинками поскрипывающий снег. Жестикуляция Гриши, отравленная мелкими подергиваниями, и щеки, красные то ли от внутреннего тепла, то ли от внешнего холода, выдавали степень его духовного подъема и заряженности кокаином на ближайший час.
- В смысле, не один?.. – растерянно пробормотал Герыч, невольно встрепенувшись. Ответом ему, как и Тоне с Толиком, было почти бесшумное шуршание открывающейся двери: из майбаха медленно вышел, словно крадущийся степной паук, полковник Жаров. Полы серой форменной шинели сразу же утонули в снегу, и под лаковым козырьком фуражки нахмурились черные брови. Тонкий бескровный рот слабо искривился, явив собравшимся едва присутствующую мимику лавкрафтовских древних, которой полковник Жаров, ныне бездетный вдовец, обзавелся шесть лет назад, после смерти супруги, потери правой кисти, отрубленной цыганами, и выколотого ими же глаза.
Тоня напряженно облизнула губы, потому что хотела видеть здесь кого угодно, но не полковника Жарова, который заведовал оборотом наркотиков в Ленобласти, из-за чего время от времени кооперировался с прокурором Ширшовым, чтобы провернуть очередное деликатное дело. Хотя Толик, в отличие от сестры, почти не интересовался делами отца, он был наслышан о мрачной славе Жарова, которая опережала владельца и окружала его черным, как неочищенный героин, ореолом. Ореол подействовал и на Толика: от недоумения он даже приоткрыл рот.
- Асфар Юнусович… - выдавил Герыч, уставившись на полковника Жарова, как на привидение.
- Где твой белый шарф, Герыч? – спросил полковник Жаров совершенно спокойным тоном, словно рядом не было ни разбитого мерседеса, ни других участников конфликта.
– Какой белый шарф? – робко осведомился тот.
– Японские камикадзе носили белые шарфы.
Гриша успокаивающе похлопал Герыча по плечу, и тот вздохнул. В руке он до сих пор держал позолоченный «макаров», и тот сверкал, отбрасывая на серую шинель полковника Жарова ломаный солнечный зайчик, больше похожий на очертания солнца, видимые сквозь толщу мутной воды. Жаров ласково улыбнулся:
- Отдай мне оружие.
Не задав ни вопроса, Герыч протянул ему пистолет. Жаров извлек магазин, кинул в разворошенный ногами сугроб и протянул пистолет Толику. Избегая соприкосновения с мертвенно-бледной рукой Жарова – неживой и чрезмерно реалистичной, Толик осторожно обхватил пальцами затвор и отступил назад, наконец вернув один из любимых экземпляров обширной оружейной коллекции. С вызовом сунув руки в карманы, Тоня покачала головой:
- Извините, конечно, Асфар Юнусович, но у вашего нового дилера вообще мозги набекрень. Он сначала пытался на ходу из машины выпрыгнуть, а потом устроил аварию, в которой могли погибнуть мы все – и даже он сам.
- Значит, нужно было его высадить, раз он так хотел выйти, - с отсутствующим видом заключил Жаров, - как и подобает воспитанным людям. Вы когда-нибудь видели пьяную мордву? Пить им категорически нельзя: они быстро спиваются, а под градусом дуреют, начинают вести себя, как полоумные. Герыч – запущенный свежевой наркоман и наполовину мордвин. В моменты отчаяния он становится злобным и очень деструктивным.
Тоня с удовольствием закатила бы глаза, однако сдержалась. Жаров никогда не начинал беседу с сути, предпочитая до последнего вести пространные рассуждения и задавать риторические вопросы, отвечать на которые было не обязательно.
- Но есть один нюанс. Без причины он на людей не бросается, - Жаров устремил на них стылый, вдруг ставший пристальным взгляд, - кстати, как он оказался у вас в машине? Зачем вы вообще приехали в такое безлюдное место?
Лгать было бессмысленно - особенно Жарову. Набравшись смелости, Толик решительно выпрямил спину и с расстановкой произнес:
- Мы увезли его насильно.
- Вот как? – вопросительно посмотрел на них Жаров. – Набросились на человека, привезли за город. Нехорошо.
- Я не собирался его убивать. Мы хотели всего лишь напугать, чтобы он понял свою ошибку. Мы понимаем, что бодяжат все, но в последний раз он реально переборщил. Мы платим деньги, а получаем не то, что хотели. Так дела не делаются.
Жаров устало прикрыл глаза, и смугло-желтое татарское лицо сделалось похожим на деревянную маску. Повернувшись к Герычу, он всмотрелся в него неморгающими глазами, зрачки которых не совпадали размерами:
- Они врут?
- Не врут, - выдохнул тот, словно мысленно сорвался со скользкого обрыва и смирился с падением. Гриша улыбался дрожащему зимнему воздуху, но внимательно следил за Герычем, не сводя с него цепких, как колючая проволока, глаз. Полковник Жаров сжал пальцы искусственной руки в кулак и впечатал Герычу в живот стремительный удар, от которого тот вскрикнул, согнувшись в корчах, и мешком упал в снег, смешавшийся с чужеродной для этого места городской грязью.
Схватившись за живот, Герыч лежал на боку и надрывно подвывал, погрузив запрокинутую голову виском в сугроб. Снег размывал подсохшую кровь на его лице, превращая ее в неаккуратные кораллово-алые разводы. Гриша вел себя так, словно у него под боком не происходило ничего странного, он лишь смотрел на Герыча сверху вниз, и в его отношении читалось нечто размытое, отдаленно напоминающее разочарование. Протягивать руку помощи он явно не собирался.
Поправив воротник шинели и фуражку, Жаров с прежним спокойствием оглядел разбитый мерседес, а потом и Тоню с Толиком:
- Он свое получил. А с вашим отцом я побеседую отдельно. Выбирайте слова и людей с осторожностью, в следующий раз вам может не повезти. Возмещать ущерб он не будет. Мы тоже не будем. На его месте так поступил бы любой человек, не желающий быть убитым.
Возразить Жарову было нечего. Наконец воцарилась тишина, но в ней уже не было угасающего азарта драки и тягостного ожидания – лишь затаенное, но очевидное для всех облегчение. Упрямо пытаясь подняться, Герыч дважды падал обратно в снег, но на третий раз, стискивая зубы, отрывисто дыша и хватаясь за место удара, все-таки выпрямился. Помогать ему даже не пытались.
- Ты поедешь со мной, - неожиданно для всех сказал ему Жаров и направился к майбаху, вытягивая ноги из снежных пластов. Герыч вздрогнул, закусил губу, однако нестойко поковылял за Жаровым, прижимая ладонь к животу. Гриша шумно выдохнул струю прозрачного пара и тоже направился к своей машине.
Стороны пришли к долгожданному компромиссу. Проводив взглядом маслянисто-черную тройку, блестящую железом и вспыхивающими на солнце стеклами, Толик подышал на лакированную рукоять «макарова» и протер рукавом мантии запотевшие черные щечки с сочно-желтыми шарами бутонов.
- Притащил этого малахольного дебила из Мордовии, Гришу откопал в Гусиноозерске… - громко возмущалась Тоня, обходя по кругу мерседес, уткнувшийся в столб, и оценивая повреждения. – Где это вообще – Гусиноозерск?!
Став начальником управления ФСКН по Санкт-Петербургу и Ленобласти, полковник Жаров выполнил свое первое на новой должности приватное поручение, принял участие в переделе героинового рынка и в этот же год потерял жену, глаз и кисть руки. Вместе с ними он лишился естественной для человеческого рода сострадательности, в частности, сострадательности к цыганам.
Подчиненных Жаров искал среди молодых отморозков из низших слоев общества, избегая опиатных и солевых наркоманов. Он либо вытаскивал их из передряг, либо сам впутывал в передряги, а потом уже вытаскивал, после чего давал им нелегальную, но щедро оплачиваемую работу. Отморозки, у которых деньги впервые переставали помещаться в портмоне, проникались к нему искренней благодарностью и чуть ли не руки ему целовали. А Жаров поручал им грязные дела, за которые не хотел браться лично.
Мерседес принадлежал Тоне Ширшовой, дочери прокурора Ширшова, который возглавлял прокуратуру Санкт-Петербурга, и за рулем сидела именно она. Под широкими полами черной шляпы виднелся точеный до хрупкости нос, шею рубил надвое кожаный чокер, а из широких рукавов намеренно мешковатого пальто торчали такие же точеные руки драматической актрисы.
Юноша, который сидел на заднем сиденье и неотрывным взглядом сверлил железную дверь парадной, выкрашенную бледно-вишневым, был ее ровесником и кровным братом, Толиком Ширшовым. Догадаться об их родствен было нетрудно: чертами лица Толик повторял Тоню, будучи ее маскулинной вариацией с квадратным подбородком и рублеными движениями. Натренированный торс скрывался под утепленной мешковатой мантией с капюшоном, а подошвы кроссовок горели светодиодами, отбрасывая на резиновый коврик размытые пятна оранжевого, фиолетового и желтого света. В напряженной руке Толик сжимал позолоченный «макаров», рукоять которого была украшена объемными желтыми цветами жостовской росписи.
Толик занимался боевыми искусствами, питал страсть к огнестрельному оружию и обожал фильмы Квентина Тарантино. С Тоней его связывали не только кровное родство и общие вредные привычки, но и ненависть к барыге, который снабжал их стимуляторами. Именно поэтому прокурорские отпрыски, катающиеся в масле, собрались заняться современным аналогом охоты на дичь, какой раньше заполняли досуг дворяне, вот только вместо дичи был человек – не самый порядочный, отнюдь не щедрый и весьма скользкий.
- Не перепутай, пожалуйста, - сказала Тоня и достала из бардачка шприц на пять кубов, наполовину полный прозрачной жидкостью. Сняв со шприца оранжевый колпачок, она невесомо надавила на поршень, подогнав жидкость к игле, и та брызнула в воздух крохами капель.
- Да не перепутаю я! Патлатый дрыщ в синей куртке, партаки на пальцах. Что тут сложного? – огрызнулся дерганый от ожидания Толик. Позавчера он обнаружил в шприце вязкую крахмальную массу, вмазаться которой оказалось невозможно, и решение созрело быстро. У Тони с барыгой, которого они еще ни разу не видели, были свои счеты: как-то раз тот ненавязчиво предложил свои услуги, чем свел к нулю ее очередную месячную ремиссию.
Порыв окреп и оброс продуманным планом. Оставалось лишь найти людей, знающих его адрес, и таковые, конечно же, нашлись. Простоватая Туся поверила словам Ширшовых, что им очень, очень нужно посетить барыгу, и чем быстрее это произойдет, тем лучше, поэтому выложила всё, что могла. Ситуация складывалась привлекательная: Герыч, являющийся по паспорту, видимо, Германом, был свежевым наркоманом, снимал квартиру на Гражданке и торговал в одиночку, иногда проявляя податливость. Словом, представлял собой легкую мишень.
- А если он прямо в машине откинется? Куда труп девать? – спросил Толик, глядя на шприц в руках Тони. – Он же наверняка упоротый, вдруг у него сердце не выдержит?
- Это ментовский транквилизатор, он на таких и рассчитан.
- Главное, чтобы ты у него вену нашла. У него и вен-то, наверное, почти нет. Вряд ли он сам с первого раза попадает, - скривился он.
- Не щелкай клювом, - с хищными нотками проговорила Тоня, устремив взгляд на открывающуюся железную дверь. Из парадной вышел долговязый парень, одетый в некогда узкие джинсы, красную толстовку и синюю кожаную куртку – длинный, нескладный, иссушенный дешевым ширевом. Рассеянно зажав в зубах сигарету, он защелкал зажигалкой в тщетных попытках подкурить, но раз за разом терпел фиаско. Весь его вид выражал крайнюю увлеченность чем-то внутренним. Подтверждала это и мелкая моторика: Герыч едва заметно приплясывал всем туловищем. Он приплясывал даже лицом, и у Тони свело челюсть от одного только взгляда на него.
Оставив «макаров» на бархате сиденья, Толик резво выскочил из мерседеса, натянул на лицо приветливую мину и направился к Герычу, помахивая пятерней.
- Извините, мы банкомат ищем. Тут есть банкомат? – донесся до Тони его излишне веселый вопль. Герыч даже ответить не успел, как Толик, вдруг оказавшись рядом с ним, ударил его по подбородку хорошо поставленным апперкотом. Голова барыги запрокинулась, потянув за собой туловище, и он чуть не рухнул на обледенелый асфальт. Толик успел поймать его, но едва удержался на ногах сам. Зажигалка выпала из разжавшихся пальцев и исчезла в полуседом снегу.
Толик схватил Герыча за талию, закинул его руку себе на плечо и потащил к машине. Вид у Толика был торжествующий, а голова барыги свисала, как у пьяного. Он был без сознания. Ноги волочились по льду, как у тряпичной куклы, набитой ватой. Кинув его на заднее сиденье, Толик резво занял прежнее место, закрыл дверь и снова вцепился в пистолет. Тоня нажала сенсорную кнопку на приборной панели и заблокировала двери.
- Чуть ногу не подвернул. Вмажь его, пока он не очухался.
Повернувшись к бессознательному телу, Тоня осмотрела запястье барыги, выбрала наиболее рельефную вену и впрыснула ему в кровоток все два с половиной куба транквилизатора, который подействовал в первую же минуту. Его дыхание выровнялось, превратившись в мерные вздохи крепко спящего человека. Обшарив карманы, Тоня обнаружила только карту «Подорожник», початую пачку красного «Честерфилда» и телефон. Список контактов был подозрительно скудным и ничуть не походил на перечень клиентов драгдилера.
- Час поспит. Как раз успеем доехать, я нашла хорошее место, - резюмировала Тоня, переложив телефон в глубокий карман своего пальто, - глушь, вокруг только поле и лес.
Она выстроила маршрут, который брал начало на Суздальском проспекте, а завершался Ольгинской дорогой и безымянной колеей в заснеженной пустоте, которая находилась между двумя деревнями – Буграми и Порошкино.
Герыч спал, как ребенок, и пребывал в блаженном неведении. Из приоткрытого рта на подбородок стекала слюна. Толя смотрел то на рукоять «макарова», где распускались надутыми лепестками желтые бутоны, то на фонарные дуги, которые ребрами нависали над проспектом. Закинув ногу на ногу, Тоня скучающе развалилась на водительском месте, а электромобиль самостоятельно следовал по заданному маршруту – похрустывая комковатой смесью снега, смога и реагента, объезжая опасные участки дороги и избегая аварийных ситуаций.
Местность снаружи менялась: панельный ландшафт постепенно исчезал, уступая место блеклому снежному полотну и черной резной кромке далеких деревьев, дорога сужалась, а выбоин в асфальте оказывалось все больше. За лобовым стеклом тянулась в белую даль Ольгинская дорога, оканчивающаяся перекрестком проселочных троп, которые летом дышали теплой пылью, а сейчас прятались под слоем снега.
- Кто вы? Где я? Куда вы меня везете? – донесся до ушей Тони гнусавый полустон с заднего сиденья. Резко повернувшись на звук, она увидела разомлевшего от транквилизатора Герыча, который ослабшей рукой дергал ручку заблокированной двери, невзирая на движущийся за окном пейзаж, и Толика, который уже взял его на мушку. Герыч проспал минут двадцать, не дотянув до обещанного часа.
- Ты совсем дурак? – схватив его за подбородок, Толик сунул ему в рот ствол «макарова». Трагически вскинув брови на манер греческой театральной маски, Герыч замолчал, замер и даже стал медленнее дышать. Он лишь испуганно моргал, широко раскрывая глаза.
- Машина на ходу, ты бы себе шею сломал. Ты суицидник? – наклонился Толик к молчаливому собеседнику. Герыч моргнул, потому что иначе ответить пока не мог. Отпустив его, Толик отстранился и слегка вскинул подбородок. По-прежнему не шевелясь, Герыч нервно сглотнул. До белизны прикусив губу, он оглядывал то брата, то сестру. В застывшей гримасе землисто-бледного лица проступала бескровность ужаса.
- Вам лучше меня высадить, я работаю на Асфара Юнусовича, - тихо проговорил он. Тоня фыркнула и издала ехидный смешок:
- Да-да, а мы на Громова.
- Я могу позво… - потянулся он к карману, однако подрагивающие пальцы нащупали пустоту. Вскинув мрачный взгляд, он осторожно произнес:
- Дайте мне позвонить.
- Ага, как же, - осклабился Толик и приставил ему к голове холодное, как сама смерть или русская зима, дуло. Вел он себя как типичный тарантиновский персонаж: тыкал в жертву пистолетом по поводу и без, ухмылялся и угрожающе басил. Тоню это понемногу начинало раздражать, однако Герыч, кажется, принимал игру Толика за чистую монету и болезненно переживал стадию отрицания.
- Давайте разойдемся по-хорошему, - произнес он, перейдя сразу к торгам. Гневаться, находясь под прицелом, было бы жалко, бессмысленно и даже опасно.
- По-хорошему? И это ты предлагаешь нам разойтись по-хорошему? Сколько у тебя беру, а там каждый раз такая бодяга, что я мог бы применять ее по назначению и клейстер варить.
- Почему сразу бодяга, может, вы толер набили, а крайним делаете меня…
- Толер, значит! – процедил Толик, шевельнув крыльями ноздрей, и схватил Герыча за горло. – Толер в баяне не вязнет, как клейстер! Зато крахмал вязнет, тварь конченая!
Извиваясь на бархатном сиденье, как дождевой червь на ладони рыбака, Герыч неразборчиво хрипел и пытался отодрать от своей шеи цепкие пальцы Толика. Тот сжалился, отнял руку, и Герыч жадным глотком вобрал в легкие воздух.
- Хватит! – истерически прохрипел он, вжавшись спиной в дверцу и стукнувшись затылком об стекло. Толик нанес ему размашистую оплеуху, задевшую не только щеку, но и другие части лица. Тихо взвыв, Герыч зажал нос рукой, а потом посмотрел на окровавленные пальцы. Из ноздрей текла кровь, пачкая узкие обветренные губы и неестественно хорошие для скоростного наркомана зубы.
- Если вы хотите, чтобы я вернул деньги, скажите, сколько вам нужно, - примирительно заявил он.
- Не думай, что ты так просто откупишься. У нас денег побольше, чем у тебя. И при чем тут вообще деньги, если это дело принципа? Ты, Герыч, водил моего брата за нос, а меня вообще намеренно травил. Как мы можем допустить, чтобы какой-то мелкий паскуда наебывал нас и зарабатывал на нашем здоровье? – важно и даже с торжеством проговорила Тоня, физически ощущая чужой страх, который отдавался в ее мозгу нарастающей радостью. – Я выбрала хорошее место. Там нам никто не помешает. Обратно мы поедем, как ты понимаешь, уже без тебя.
- Позвоните сами, вам все объяснят… - обреченно выдохнул Герыч.
- Ну-ну, конечно! – загоготал Толик. – Кто объяснит-то? Асфар Юнусович?
- Да, Асфар Юнусо… А-а-а!
Хныкающий голос Герыча сорвался на вскрик: Толик схватил его за левое запястье и для острастки выкрутил руку. Дернувшись, Герыч вырвал запястье из чужой хватки, зашипел сквозь стиснутые зубы и пристально посмотрел Толику прямо в глаза – не моргая, не меняя траектории взгляда, чуть подавшись вперед.
- Ну чего ты орешь? – спросил Толик с угрожающей лаской. – Я еще ничего страшного не сделал.
- Не убивайте меня, я не хочу… - судорожно забормотал Герыч, постукивая зубами. Перекошенное лицо побледнело настолько, что аллергическая сыпь от хронической интоксикации и синяки под глазами проступили розоватым и бледно-фиолетовым. Тоня нахмурилась. Однако распалившийся Толик не успокаивался. Толика несло. Он представлял себя то ли мистером Блондином, то ли Винсентом Вегой и не переставал запугивать барыжку, хотя тот и без того крупно дрожал, как чахоточный, и таращился сквозь Толика мидриазными глазами.
- Знаешь, что решит твою судьбу? – улыбнулся Толик, склонив голову набок. - Рубль. Если выпадет решка, тебе повезет, и ты умрешь быстро. Если выпадет орел – умирать придется намного дольше.
Замысел был простым, как пять копеек: вывезти барыгу в занесенную снегом глушь, убедить в грядущей смерти, а потом пожалеть и уехать, наказав больше никогда людей не обманывать. В последнем акте этой трагикомедии Толик хотел подбросить рублевую монету и эффектно поймать ее, сжав между пальцами, чтобы монета упала на ребро. Смерть от холода Герычу не грозила: относительно рядом были две деревни, а при желании он мог даже дойти до трассы и поймать попутку.
Пока всё выглядело убедительно. Пожалуй, даже слишком.
Герыч вздернул губу в непроизвольном оскале, ощерившись чередой белых и желтоватых зубов. Мерседес плавно качнуло, как палубу корабля – закончилась Ольгинская дорога, и машина свернула в обледенелую колею. Всюду, куда падал взгляд, виднелись лишь нетронутые городскими выбросами ноздреватые сугробы и темные кроны деревьев, напоминающие переплетения острых гвоздей.
- Можешь звонить родственникам, пусть покупают гроб и панихиду организовывают, чтобы времени не терять! – усмехнулся Толик. - У тебя вообще есть родственники? Или ты для них отрезанный ломоть, на который даже тратиться жалко?
Тоня успела зафиксировать, как окровавленное лицо Герыча неожиданно разгладилось до мертвенного спокойствия. А потом он решительно кинулся к водительскому сиденью и резко дернул на себя ручной тормоз. Система управления назойливо запищала, сигнализируя о выключении автопилота, и при более теплой погоде, при более урбанистическом ландшафте автоматика сработала бы, как часы, заставив мерседес замереть на месте. Но гололед еще не сошел, и теперь мерседес неизбежной инерцией заносило влево. Надсадно кричал Толик, метался за лобовым стеклом черно-бело-голубой калейдоскоп. Вцепившись в руль, вопящая Тоня пыталась повернуть обратно к дороге, но что-то делать было уже поздно. Полукругом пропахав сугробы, очертив в них жирный рыхлый штрих, мерседес врезался в деревянный столб – реликт деревенской инфрастуктуры.
Тоню резко швырнуло влево, шляпа слетела с густых волос, голова ударилась об стекло. В ушах заложило, за серебристой паутиной трещин расцвел смятый цветок капота, и распустилась, как хлопковая коробочка, подушка безопасности. Не осознавая течение времени, Тоня слепо нашарила на приборной панели нужную кнопку и разблокировала двери. Выпутавшись из давящего на лицо белого савана, она потянула ручку двери и гусеницей вывалилась в бледную, холодную, шершавую кашу.
Далекое солнце подтапливало русские снега, которые водянисто поблескивали, покрываясь хрусталем ледяной корочки. В поле зрения мельтешили солнечные блики, заставляющие щуриться, голова кружилась, как заведенная карусель, ноги ходили ходуном и шатко ковыляли вперед. Опираясь руками на красный железный остов, Тоня обошла разбитый мерседес и увидела валяющегося в снегу брата. Он лежал, обхватив живот, и надрывно стонал, как больной ребенок, а разбитое лицо окрашивало снег бледно-красными разводами. В метре от него горел позолотой «макаров».
- Толя! – истошно завопила она и кинулась к нему. Но ее схватили за волосы, размашисто ударили кулаком по скуле и отшвырнули назад. Прокатившись по снегу и несколько раз перевернувшись, Тоня оперлась на локти и стала подниматься. Тело не слушалось, головокружение тошнотой подкатывало к горлу, и она валилась обратно. Звонким эхом до нее доносилась надрывная мужская ругань.
- Я же предупреждал, что не хочу! Вам пизда!
- Мудак, мы не собирались тебя убивать, мы просто напугать хотели, чтобы ты перестал крахмал в спиды сыпать! Ширик свежевой! Ты же и себя угробить мог! Ты идиот?!
- Хватить заливать, сволочь! А кто кого убьет, это мы еще посмотрим!
- Ты хоть знаешь, кто наш отец?! Прокурор Ширшов! Да ты говно жрать будешь, если тронешь нас, уличная падла!
Тоне наконец удалось встать, но по коже сразу побежал холодок, а губы раскрылись в сдавленном вскрике. Пошатывающийся Толик стоял по колено в снегу, а напротив него обеими руками сжимал жостовскую рукоять «макарова» по-собачьи скалящийся Герыч. Хлопнул выстрел, быстро свистнула пуля и исчезла в сугробе – где-то перед мигающими кроссовками Толика.
- Убью! – нервно выпалил Герыч. Рефлекторно подняв руки, Тоня смотрела то на оторопевшего брата, то на машину, то на деревянный столб. Природа вокруг была холодящей, застывшей и безлюдной.
- Нет, не надо, нет… - талдычил заведенный ужасом Толик, и с каждым словом тон его голоса задирался все выше.
- Заткнись! – плаксиво прикрикнула на него Тоня.
- А ну завалил ебало! – приказал Герыч, угрожающе поведя пистолетом. Окончательно испугавшись, Толик тоже поднял руки. До него дошло, что вряд ли Герыч сейчас чувствует боль, даже если у него что-то болит. Положение складывалось незавидное: смерть смрадно дышала в затылок, а земным представителем ее воли был несдержанный наркоман из низов.
- Если ты нас убьешь, невский синдикат не сможет тебя отмазать, - сказала Тоня, не опуская рук, - давай разойдемся мирно. Без крови.
Дернув нижней челюстью в стимуляторной судороге, Герыч промолчал, но задумался. Предложение было более чем рациональным: где-то он уже слышал про прокурора Ширшова, а это значило, что прокурор, какого бы ранга он ни был, существовал в одной с ним реальности, и убивать его детей действительно не стоило.
- Верните телефон, - приказал Герыч. Несмотря на холод равнинного ветра, пробирающий до слез в глазах, на его лице поблескивали застывающие капельки пота. Такой же заостренный блеск таился в глубине смолистых глаз. Тоня же, предпочитающая автомобиль, одевалась обычно легко, поэтому холод пробирался под легкое пальто нарастающим колотуном. Опасливо опустив руки, она достала из кармана телефон Герыча, положила его на измятый, как упаковочная фольга, капот мерседеса и отступила на десять шагов назад, волоча за собой брата, который словно задумался, пропустил часть событий и вследствие этого рук не опускал.
Продолжая держать их на прицеле, Герыч подошел к мерседесу и схватил телефон. Набрав нужный номер, он заговорил практически сразу:
- Слушай, Гриша, я в крайне щекотливой ситуации… Меня вывезли в лес, и я не знаю, где я нахожусь. Пистолет у меня, я прямо сейчас угрожаю детям какого-то Ширшова. Что мне с ними делать?
Видимо, его сумбурного ответа оказалось недостаточно, потому что Герыч, не теряя бдительности, пустился в подробные объяснения, где упомянул всё – даже претензии к качеству продукта и наличию в нем крахмала.
«Гриша…» - задумалась Тоня, но сразу отмела маловероятную догадку. Заметив, что брат так и стоит с поднятыми руками, она ткнула его в бок. Это застало Толика врасплох, он вздрогнул, однако руки опустил и постепенно стал приходить в себя. Наконец договорив, Герыч убрал телефон и с долей усталости сообщил:
- Скоро приедут. И только попробуйте ко мне подойти – я вам колени прострелю.
- Приедут? Кто? – тихо спросил Толя, окончательно очнувшийся от слепящего испуга. Герыч холодно посмотрел на него:
- Служба охраны. Что вообще за вопрос такой? Я же предупреждал.
Время ползло медленно, как подстреленный солдат: сдвинувшееся солнце тащило за собой угольно-черные тени деревьев, и они косо ложились на мерцающий снег худыми вытянутыми лапами. Стараясь не обращать внимания на стихающее головокружение и слабеющие позывы к тошноте, Тоня переминалась с ноги на ногу и старалась согреться хоть как-нибудь. Тем же самым занимались Толик и Герыч. Последнего едва заметно, но все же отпускало. Впереди его ожидали усталость, осознание холода и самоуничижительные мысли, однако он не выпускал позолоченного «макарова» и был готов выстрелить снова, если возникнет такая необходимость.
- Выебнулся перед ним? Молодец! – ядовито прошептала Тоня брату, чтобы Герыч их не подслушал. – Уже могли бы до Бугров дойти и вызвать эвакуатор, а не кишки в глуши морозить.
Повернувшись к ней, Толик в очередной раз подпрыгнул на притоптанном за двадцать минут снегу, брызнув на него кляксами цветного света, и тихо, но уверенно произнес:
- Слушай, да ничего страшного теперь не будет. Ему невские сказали, чтобы он нас не убивал, а с невскими мы договоримся. У папы с Жаровым какие-то дела. Думаешь, не вывезем?
- А ты можешь поручиться, что этот скоростной отморозок нас не пристрелит? – Тоня сложила руки на груди, спрятав озябшие ладони в подмышки. - Я вот, глядя на него, очень сомневаюсь, что он адекватный. Он же типичный барыга из нищуков, который раньше просто торчал, а теперь дорвался до денег и торчит еще больше. Что мы будем делать, если его переклинит?
- Да нормально все будет, успокойся, охуенно все будет, - произнес Толик очередной зацикленный сэмпл.
- Особенно охуенно будет бегать по заснеженному полю от спятившего наркомана, который вооружен нашим пистолетом. Самое смешное, что пистолет-то наш. Нахрена ты вообще его зарядил, если не собирался стрелять?
- Я хотел взять гжель, но перед выходом передумал, а патроны…
- Его транк даже на полчаса не уложил. Сколько же в нем этого аптечного говнища…
Тоня распалилась и даже повысила голос, но осеклась, заметив на горизонте три приближающиеся точки, которые с каждым километром обрастали деталями, постепенно превращаясь в черные, лаковые, будто облитые нефтью автомобили – длинный майбах с тонированными стеклами и два гелендвагена. Майбах был Тоне подозрительно знаком, как и один из гелендвагенов, на заднем стекле которого виднелась огромная наклейка во все окно – «спасибо деду за победу».
- Вот ведь… - неслышно процедила она сквозь зубы. Толик озадаченно посмотрел на нее, а Герыч, сам того не осознавая, верноподданнически ссутулился.
Чуть съехав с Ольгинской дороги, плавно затормозил в снежной колее майбах, чей обтекаемый корпус без рублено-прямых линий переходил в широкий бампер, агрессивно блестящий хромированным железом, а следом за ним затормозили две машины сопровождения. Последним ехал гелендваген попроще и постарше, в его салоне можно было разглядеть протокольные лица в серых фуражках наркоконтроля и бритые до синевы головы бывших спортсменов, сделавших в свое время судьбоносный для себя и их будущих жертв выбор.
- А вот и наши гангстеры! – довольно засмеялся Гриша, энергично выскочив из гелендвагена, который следовал в птице-тройке, соответствующей своей эпохе, вторым по счету. – Здравствуй, Герыч. Можешь расслабиться, я приехал не один.
- Григорий Иванович… - поежился Толик. Тоня залилась блеклым румянцем, насупилась и исподлобья покосилась на Гришу, который шагал к Герычу, трамбуя тяжелыми ботинками поскрипывающий снег. Жестикуляция Гриши, отравленная мелкими подергиваниями, и щеки, красные то ли от внутреннего тепла, то ли от внешнего холода, выдавали степень его духовного подъема и заряженности кокаином на ближайший час.
- В смысле, не один?.. – растерянно пробормотал Герыч, невольно встрепенувшись. Ответом ему, как и Тоне с Толиком, было почти бесшумное шуршание открывающейся двери: из майбаха медленно вышел, словно крадущийся степной паук, полковник Жаров. Полы серой форменной шинели сразу же утонули в снегу, и под лаковым козырьком фуражки нахмурились черные брови. Тонкий бескровный рот слабо искривился, явив собравшимся едва присутствующую мимику лавкрафтовских древних, которой полковник Жаров, ныне бездетный вдовец, обзавелся шесть лет назад, после смерти супруги, потери правой кисти, отрубленной цыганами, и выколотого ими же глаза.
Тоня напряженно облизнула губы, потому что хотела видеть здесь кого угодно, но не полковника Жарова, который заведовал оборотом наркотиков в Ленобласти, из-за чего время от времени кооперировался с прокурором Ширшовым, чтобы провернуть очередное деликатное дело. Хотя Толик, в отличие от сестры, почти не интересовался делами отца, он был наслышан о мрачной славе Жарова, которая опережала владельца и окружала его черным, как неочищенный героин, ореолом. Ореол подействовал и на Толика: от недоумения он даже приоткрыл рот.
- Асфар Юнусович… - выдавил Герыч, уставившись на полковника Жарова, как на привидение.
- Где твой белый шарф, Герыч? – спросил полковник Жаров совершенно спокойным тоном, словно рядом не было ни разбитого мерседеса, ни других участников конфликта.
– Какой белый шарф? – робко осведомился тот.
– Японские камикадзе носили белые шарфы.
Гриша успокаивающе похлопал Герыча по плечу, и тот вздохнул. В руке он до сих пор держал позолоченный «макаров», и тот сверкал, отбрасывая на серую шинель полковника Жарова ломаный солнечный зайчик, больше похожий на очертания солнца, видимые сквозь толщу мутной воды. Жаров ласково улыбнулся:
- Отдай мне оружие.
Не задав ни вопроса, Герыч протянул ему пистолет. Жаров извлек магазин, кинул в разворошенный ногами сугроб и протянул пистолет Толику. Избегая соприкосновения с мертвенно-бледной рукой Жарова – неживой и чрезмерно реалистичной, Толик осторожно обхватил пальцами затвор и отступил назад, наконец вернув один из любимых экземпляров обширной оружейной коллекции. С вызовом сунув руки в карманы, Тоня покачала головой:
- Извините, конечно, Асфар Юнусович, но у вашего нового дилера вообще мозги набекрень. Он сначала пытался на ходу из машины выпрыгнуть, а потом устроил аварию, в которой могли погибнуть мы все – и даже он сам.
- Значит, нужно было его высадить, раз он так хотел выйти, - с отсутствующим видом заключил Жаров, - как и подобает воспитанным людям. Вы когда-нибудь видели пьяную мордву? Пить им категорически нельзя: они быстро спиваются, а под градусом дуреют, начинают вести себя, как полоумные. Герыч – запущенный свежевой наркоман и наполовину мордвин. В моменты отчаяния он становится злобным и очень деструктивным.
Тоня с удовольствием закатила бы глаза, однако сдержалась. Жаров никогда не начинал беседу с сути, предпочитая до последнего вести пространные рассуждения и задавать риторические вопросы, отвечать на которые было не обязательно.
- Но есть один нюанс. Без причины он на людей не бросается, - Жаров устремил на них стылый, вдруг ставший пристальным взгляд, - кстати, как он оказался у вас в машине? Зачем вы вообще приехали в такое безлюдное место?
Лгать было бессмысленно - особенно Жарову. Набравшись смелости, Толик решительно выпрямил спину и с расстановкой произнес:
- Мы увезли его насильно.
- Вот как? – вопросительно посмотрел на них Жаров. – Набросились на человека, привезли за город. Нехорошо.
- Я не собирался его убивать. Мы хотели всего лишь напугать, чтобы он понял свою ошибку. Мы понимаем, что бодяжат все, но в последний раз он реально переборщил. Мы платим деньги, а получаем не то, что хотели. Так дела не делаются.
Жаров устало прикрыл глаза, и смугло-желтое татарское лицо сделалось похожим на деревянную маску. Повернувшись к Герычу, он всмотрелся в него неморгающими глазами, зрачки которых не совпадали размерами:
- Они врут?
- Не врут, - выдохнул тот, словно мысленно сорвался со скользкого обрыва и смирился с падением. Гриша улыбался дрожащему зимнему воздуху, но внимательно следил за Герычем, не сводя с него цепких, как колючая проволока, глаз. Полковник Жаров сжал пальцы искусственной руки в кулак и впечатал Герычу в живот стремительный удар, от которого тот вскрикнул, согнувшись в корчах, и мешком упал в снег, смешавшийся с чужеродной для этого места городской грязью.
Схватившись за живот, Герыч лежал на боку и надрывно подвывал, погрузив запрокинутую голову виском в сугроб. Снег размывал подсохшую кровь на его лице, превращая ее в неаккуратные кораллово-алые разводы. Гриша вел себя так, словно у него под боком не происходило ничего странного, он лишь смотрел на Герыча сверху вниз, и в его отношении читалось нечто размытое, отдаленно напоминающее разочарование. Протягивать руку помощи он явно не собирался.
Поправив воротник шинели и фуражку, Жаров с прежним спокойствием оглядел разбитый мерседес, а потом и Тоню с Толиком:
- Он свое получил. А с вашим отцом я побеседую отдельно. Выбирайте слова и людей с осторожностью, в следующий раз вам может не повезти. Возмещать ущерб он не будет. Мы тоже не будем. На его месте так поступил бы любой человек, не желающий быть убитым.
Возразить Жарову было нечего. Наконец воцарилась тишина, но в ней уже не было угасающего азарта драки и тягостного ожидания – лишь затаенное, но очевидное для всех облегчение. Упрямо пытаясь подняться, Герыч дважды падал обратно в снег, но на третий раз, стискивая зубы, отрывисто дыша и хватаясь за место удара, все-таки выпрямился. Помогать ему даже не пытались.
- Ты поедешь со мной, - неожиданно для всех сказал ему Жаров и направился к майбаху, вытягивая ноги из снежных пластов. Герыч вздрогнул, закусил губу, однако нестойко поковылял за Жаровым, прижимая ладонь к животу. Гриша шумно выдохнул струю прозрачного пара и тоже направился к своей машине.
Стороны пришли к долгожданному компромиссу. Проводив взглядом маслянисто-черную тройку, блестящую железом и вспыхивающими на солнце стеклами, Толик подышал на лакированную рукоять «макарова» и протер рукавом мантии запотевшие черные щечки с сочно-желтыми шарами бутонов.
- Притащил этого малахольного дебила из Мордовии, Гришу откопал в Гусиноозерске… - громко возмущалась Тоня, обходя по кругу мерседес, уткнувшийся в столб, и оценивая повреждения. – Где это вообще – Гусиноозерск?!
Став начальником управления ФСКН по Санкт-Петербургу и Ленобласти, полковник Жаров выполнил свое первое на новой должности приватное поручение, принял участие в переделе героинового рынка и в этот же год потерял жену, глаз и кисть руки. Вместе с ними он лишился естественной для человеческого рода сострадательности, в частности, сострадательности к цыганам.
Подчиненных Жаров искал среди молодых отморозков из низших слоев общества, избегая опиатных и солевых наркоманов. Он либо вытаскивал их из передряг, либо сам впутывал в передряги, а потом уже вытаскивал, после чего давал им нелегальную, но щедро оплачиваемую работу. Отморозки, у которых деньги впервые переставали помещаться в портмоне, проникались к нему искренней благодарностью и чуть ли не руки ему целовали. А Жаров поручал им грязные дела, за которые не хотел браться лично.
☸
Пока черная тройка мчалась по заснеженной Ольгинской дороге в сторону Санкт-Петербурга, пошел крупный, похожий на град снег, и поднявшийся ветер разбрасывал его по бескрайним холодным пространствам, которые щетинились в небо железными колючками электрических вышек и не любили шутить. С октября по апрель пространства окрашивались в черный, коричневый и серый – цвета героина разной степени очистки, и на лицах обитателей пространств проступало уныние, не исчезающее с осени до весны.
За толстым слоем сизых туч скрывались трое смотрящих, которые иногда опускали вниз свой божественный взор: Мать-Нефть в маслянисто-черных одеждах и узким черным треугольником нимба, Дочь-Церковь, обильно украшенная золотом, драгоценными камнями и жемчугом, восседающая на семи холмах, и Зона – Святая Душа, грязно-серая голубка, на головке которой тускло мерцал венец из колючей проволоки. Снисходительно прикрывали глаза сонмы ангелов, чьи плечи были увенчаны погонами ФСБ, ФСКН, МВД...
Качали клювами нефтяные вышки, высасывая из промерзлых недр баррели жирной до маслянистости нефти, доход от которой доставался только двум процентам населения. Разносился по воздуху колокольный перезвон, сверкали сусальным золотом маковки церквей и купола соборов, изгнать из которых торгашей не представлялось возможным, которые просто не осознали бы наступление второго пришествия, приняв вернувшегося Иисуса Христа за экстремиста. Через всю страну квадратами тюрьм, зон, колоний и лагерей тянулась паутина пенитенциарной системы, которая не исправляла, а лишь усугубляла преступные наклонности, в заведениях которой пышным цветом цвели пытки над заключенными, голодовки и стукачество.
Крутились колеса майбаха, превращаясь в смазанные стальные круги с зыбким черным ободком, между небом и землей металась снежная пыль. Свистящие порывы ветра гнали по асфальту узоры поземки и рвали воздух на куски. Всё пролетало мимо и оставалось позади. Асфар Юнусович сидел на месте водителя, разлегшись на слегка откинутой спинке коричневого кожаного сиденья, и задумчиво смотрел в белую метель. Руки с переплетенными пальцами неподвижно лежали на сером сукне шинели. Матвей сидел справа от Асфара Юнусовича. На его скуле наливался фиолетовым свежий синяк, а в руке он комкал окровавленный платок, которым недавно вытирал лицо, пока согревался в салоне, спиной ощущая исходящее от сиденья тепло. Он тоже смотрел перед собой, но совсем по другой причине – ему не хотелось встречаться взглядом с Асфаром Юнусовичем настолько долго, насколько это будет возможно.
- Именно сегодня я хотел встретиться с тобой и проверить на стрессоустойчивость. Но меня опередили, и теперь тебя можно не проверять. Большое счастье, что никто из вас не умер, - наконец заговорил Асфар Юнусович, положив ногу на ногу.
- А проверку я прошел? – тихо спросил Матвей, не сдержав слабой улыбки, которая была скорее сардонической, нежели радостной.
- Более чем, - Асфар Юнусович издал довольный смешок, и возрастные морщинки у его глаз приобрели глубину и резкость. Он щелкнул пальцами, негромко заиграло радио, и раздался мелодичный баритон с легкой сиплостью:
- Ах, Кресты, вы мои Кресты…
Поморщившись, Асфар Юнусович снова щелкнул пальцами, и пение стихло. Он повернул голову к Матвею, и ему из вежливости и субординации пришлось ответить тем же самым.
- Ты когда-нибудь замечал, что шансон слушают менты, таксисты и те, кто никогда не сидел? – пристально посмотрел на Матвея Асфар Юнусович. - Если не считать показушных сидельцев вроде твоего отца.
- Моего отца? – удивился Матвей. – Откуда вы знаете, как зовут моего отца? В свидетельстве о рождении стоит прочерк, там нет его имени.
- Сейчас Герман Кириченко отбывает в Крестах свой третий срок, - продолжил Асфар Юнусович, даже не удостоив Матвея ответом на вопрос, - через несколько месяцев он выйдет на свободу, вот только потом, конечно же, снова сядет. Статью называть не буду, сам догадаешься.
Матвей вздохнул. Он не видел отца все двадцать лет своей начинающейся жизни, а не вспоминал о нем уже лет десять, вычеркнув из биографии, как ее несущественный элемент. Естественно, насчет несущественности отцовского влияния, которое имело место даже при его отсутствии, Матвей непростительно ошибался, потому что при всем равнодушии к нему повторил его жизненный путь с пугающей точностью: баянист, аддикт, наркоторговец.
- Он типичный наивный идеалист, отстаивает тюремный кодекс, который отводит ему не самое почетное место, - холодно продолжил Асфар Юнусович, - он, видите ли, никогда своих подельников не сдавал, чтобы не ссучиться. Вот только как он может ссучиться? Ссученый – это блатной, который начал сотрудничать с органами. Нельзя ссучиться, не будучи блатным, а блатные никогда наркобарыг за своих не считали. Особо принципиальные даже отказываются принимать в общак деньги, заработанные сбытом наркотиков. Впрочем, очень забавно слушать, как о морали рассуждают люди, которые находят недостойной обоюдную сделку, но без колебаний могут зарезать человека, не считая это чем-то постыдным.
Ландшафт, частично скрытый снежными вихрями, стал меняться на городской: в белизне проступили панельные многоэтажки прошлого века, выцветшие за долгие годы эксплуатации, мигающие отсветы светофоров, сияющие вывески супермаркетов и тусклая уличная реклама.
- И тебе, и твоему отцу немного не повезло, вы занимаете зыбкое межкастовое положение. Вас презирают преступники старой формации, законопослушные граждане, наркоманы… Как неприкасаемых в Индии. Однако сотрудничества с барыгами избежать сложно. Такова кали-юга. Размываются границы между кастами, люди рождаются алчными, злобными, эгоистичными, истребляют друг друга, доходя чуть ли не до антропофагии…
- Если все, что вы говорите – правда, мне совсем не жаль, что он ушел из семьи, - сказал Матвей, чуть наморщив припухший от удара нос.
- А ты думаешь, я могу говорить тебе неправду? – искренне улыбнулся Асфар Юнусович. – Смелое заявление, Матюша.
Матвей напрягся, отвел взгляд на периферию обзора и замолчал, чтобы снова не ляпнуть лишнего.
- Лицом ты вылитый отец, впрочем, не только лицом. Он упрямый и эгоистичный, вот только цели у вас совершенно разные. Его цель слишком эфемерна и не приносит ему выгоды. Ты куда практичнее своего биологического родителя. Тебя интересуют недвижимость, деньги и путешествия. Лично я не вижу в этом ничего плохого. Я тоже предпочитаю материальное. Раз уж мы родились в железный век, нужно найти хлебное место. До конца кали-юги мы все равно не доживем, просветлиться тоже не выйдет, а перерождаться придется в любом случае – так зачем надрываться?
Асфар Юнусович кашлянул в кулак, поставив точку в абстрактных рассуждениях, и наконец перешел к сути:
- Ты правда устроил аварию? Чем ты руководствовался?
- Они сказали, что собираются меня убить.
- И ты решил, что вместе умирать веселее? Поступок не мальчика, но мужа. Хоть и самоубийственный.
Обратив внимание на глаза Матвея, в которых сейчас почти не было янтарно-карего, Асфар Юнусович ухватил Матвея за левую руку, отчего тот дернулся на месте, ощутив холодное прикосновение, но сразу замер. Подтянув к себе тощеватую кисть, Асфар Юнусович закатал рукав, насколько позволила куртка, и его взгляду открылось очевидное: вены от запястья до локтя были усыпаны свежими точками уколов, скромными зачатками колодцев и химическими ожогами разной степени, которые остались от задувов.
- И часто ты это делаешь? – обратился он к Матвею, дернув рукав на место и отпустив разгоряченную кисть.
- Несколько раз в неделю, - произнес Матвей, и в его отрывистой гнусавой речи послышалось бытовое спокойствие, которое кажется странным для тех, кто ничего не употребляет, а некоторых даже пугает.
- В Европе тебя уже давно признали бы больным человеком. Наркомания там считается не преступлением, а хроническим заболеванием. Как диабет второго типа, - сказал Асфар Юнусович, - продавец на системе – не самое приятное зрелище. В том числе, и для него самого, просто он понимает это слишком поздно. Считай не приказом, а рекомендацией: брось хотя бы свежесть. Будет тяжело, зато ты не повторишь судьбу Марата, который наверняка уже переродился в животное. Сплошные плюсы.
- Животное? – вздрогнул Матвей, вспомнив про Марата.
- Кошку, собаку, попугая. Колесо перерождений могло забросить его в тело любого зверя.
Совет Асфара Юнусовича напоминал угрозу, но был дельным. Раскрывая Матвею свою агрессивную красоту, свежесть проникала все глубже в его характер и организм: Матвей начал вести себя порывисто и деструктивно, необходимая порция возросла до двух кубов, а терпеть промежутки между вмазками, после которых иногда пропадали наиболее пострадавшие вены, стало намного тяжелее.
«Для начала перейти на меф, - задумался он, подбирая наиболее подходящую для себя лесенку, - как раньше, по субботам. Затем можно на спиды перепрыгнуть, а уже с них на таблы. А потом и с таблов, жрать только по праздникам…»
- Если говорить откровенно, у меня на тебя планы, - засмеялся Асфар Юнусович, - и чтобы стать частью этих планов, ты должен быть более адекватным. Тебе всё объяснит Гриша. Через месяц.
- Хорошо, Асфар Юнусович, я вас понял, - смущенно произнес Матвей, внутренне надеясь, что эти планы не включают в себя его смерть.
Майбах припарковался прямо напротив крыльца клиники из белого кирпича, что располагалась на Гжатской улице. На ближайшем фонарном столбе подрагивала белая голограмма с крупной надписью «травмпункт», а справа от него брезжил лайтбокс с фотографией мужчины в годах, одетого в белую рубашку, костюм и галстук с монограммой.
- Зайдешь в травмпункт. Пусть проверят, в порядке ты или нет, - усмехнулся Асфар Юнусович.
- Хорошо, - машинально ответил Матвей. Он всматривался в фотографию мужчины с прилизанными волосами, мелкими морщинками по всему лицу и уверенным взглядом, который сегодня днем вел себя крайне торопливо и беспокойно.
- Это же Домнин… - выдохнул он, узнав в представительном мужчине – то ли депутате, то ли бизнесмене – загадочного нанимателя Тимофея.
- Да уж, после той истории у него должно было поубавиться капитала, - хмыкнул Асфар Юнусович. Матвей уловил в его голосе нотки довольства и странной неприязни к Домнину.
Упомянутая Асфаром Юнусовичем «та история» была крайне неправдоподобной и абсурдной, но реальной по всем пунктам. Речь шла про скандал, связанный с секс-сектой, которая выродилась из очередного тренинга личностного роста. Героями комедии были олигарх Олег Домнин, от которого все ожидали большей прозорливости и предусмотрительности, гуру секты под творческим псевдонимом Джон Рид, работающий в Сколково, и его лучшая ученица Кошка, которая пробилась на яхту Домнина в качестве приглашенной фотомодели с расширенным пакетом функций. Следуя указаниям гуру, Кошка активно соблазняла олигарха Домнина и записывала на смартфон его разговоры с вице-премьером РФ. Вернувшись с яхты, ученица передала гуру полученный компромат, а через два месяца выпустила формально художественный роман о приключениях элитной проститутки, где Домнин фигурировал, само собой, не под настоящим именем. Но замена имен оказалась настолько формальной, что никакой роли не сыграла, и всем сразу всё стало ясно.
Итог скандала был до неприличия глупым: Домнин выставил себя облапошенным дураком, а Кошка поведала всем русскоязычным читателям о подробностях анального секса с Домниным, где в активной роли была она, и вскользь – о вещах деликатных, которые не должны были выйти за пределы кремлевских кулуаров. Матвей даже поймал себя на том, что долго не мог вспомнить фамилию олигарха, глядя на лайтбокс, зато в голову сразу пришло прозвище, данное ему пронырливой эскортницей – Олег Подхвост.
- Из-за тебя, кстати, я сегодня опоздал в дацан, - со смешком произнес Асфар Юнусович.
- Вы буддист? – вскинул брови Матвей.
- А что в этом удивительного? – на этот раз Асфар Юнусович улыбнулся зловеще и сделал это намеренно. – Я стараюсь не причинять физический вред живым существам. Ты же сам знаешь.
Вежливо попрощавшись, Матвей выскочил на тротуар Гжатской улицы и сразу же оказался под кружащими вихрями ветра. За спиной неслышно хлопнула закрывшаяся дверца, зашуршали колеса, но и этот звук быстро стих, удалившись в сторону центра. Чтобы попасть в травмпункт, нужно было обойти клинику и зайти через внутренний двор. Однако Матвей топтался на месте и ежился, но совсем не от холода. Асфар Юнусович действительно редко причинял людям физический вред, но не стоило забывать про вред моральный и вред физический, который по приказу Асфара Юнусовича причиняли его подчиненные.
И меньше всего Матвею хотелось быть одним из таких подчиненных, а уж тем более - протеже этого жуткого человека. Смущал его даже не статус мальчика на побегушках, а гипотетические поручения Асфара Юнусовича, явно черные и малоприятные, от которых нельзя будет отказаться. Матвей знал, что наркоманы по буддистским канонам перерождаются в животных. В кого перерождаются наркоторговцы, он не знал, но догадывался, что карма их не жалует – как простые граждане, блатные и наркопотребители. Узнавать это в двадцать лет, еще и на собственной шкуре ему крайне не хотелось.
Рассудил Матвей просто: раз уж он оказался в дерьме, из которого почти невозможно вылезти, следовало выжать из ситуации максимум выгоды и отодвинуть конечный момент как можно дальше, выполняя всё, о чем его просят, и очень при этом стараясь. А в свободное от работы время искренне радоваться жизни.
***
У крыльца с греческими узорами безуспешно, но настойчиво ждал Ваня Куртов – бледный юноша с медленными движениями, перманентно печальной гримасой и резко очерченным ртом, который не сочетался с аморфными чертами лица. Ожидал он уже час, а Герыч, который сам выбирал время для встречи, то ли не желал открывать дверь, то ли не мог этого сделать, то ли вообще отсутствовал.
Два месяца назад Куртов попался на контрольной закупке. Не будучи наркоманом, он ограбил знакомого дилера, однако вместе с деньгами прихватил сотню экстази, которую, ведомый алчностью, решил сбыть оптовой партией. Расчет был хорош: продать все за один раз, чтобы минимизировать риск, и расчет вполне мог оправдаться, если бы не покупатель, дилер, работающий на невский синдикат и в чем-то перед хозяевами провинившийся, который сдал его с потрохами. Куртова, который всегда посматривал на барыг сверху вниз, самого объявили таковым и поставили перед пелевинским выбором. Чурающийся понятий, он предпочел быть клоуном у пидарасов, а не пидарасом у клоунов.
Отныне Куртов обязан был работать закладчиком у барыги, который жил на Гражданке, и раз в несколько дней ему приходилось ездить за товаром, преодолевая сине-красный маршрут, начинающийся в Купчино и отнимающий почти час. Долговязый барыга обладал ироничным прозвищем, красноречивым худым лицом и параноидальным характером. В квартиру он Куртова никогда не пускал, а пакеты с расфасованным товаром передавал исключительно через дверь, сдерживаемую железной цепочкой. Куртов плохо знал его как торговца и совсем не знал как человека.
Спустя еще полчаса ожидания у подъездной дорожки остановилось желтое яндекс-такси с голографическими шашечками, и из него выскочил Герыч – измотанный, явно побитый и немного довольный. Такое сочетание характеристик озадачило Куртова, однако лишних вопросов он решил не задавать.
- Вид у тебя, как у покойника, - вместо этого произнес он. В его тихом голосе то и дело проскакивала юношеская хрипотца.
- Почти угадал, - скупо подтвердил Герыч, но в подробности вдаваться не стал. Он быстро направился к железной двери, на ходу доставая ключи, и Куртов молча последовал за ним, с каждым этажом все тяжелее преодолевая узкие лестницы парадной. Барыга не сбавлял темпа и, кажется, не уставал, а вот Куртов плелся за ним, стараясь не отставать. Перед последним этажом барыга вдруг резко остановился, и Куртов, пытающийся его нагнать, по инерции чуть не уткнулся лбом ему в спину.
- Еб твою мать, Туся! – воскликнул Герыч. Раскинув в стороны руки и ноги, поперек лестницы лежала когда-то смуглая женщина с рыжими волосами, нищенским ложем которой являлся дутый пуховик. Из-под закатанного рукава шерстяного платья торчала смуглая исколотая рука, а на бетонной ступени одиноко покоился опустевший шприц. Лицо женщины было совсем не смуглым. Вместо лица у нее была раздувшаяся фиолетовая чернота, смазавшая прижизненные черты.
Скрипнула дверь, будто слова Герыча были условленным сигналом, и на лестничную площадку выскочил мужичок с плешью на макушке. Куртов повернул голову на звук, не понимая, что происходит и как ему на это реагировать.
- Ага! Попался! – торжествующе выкрикнул мужичок с шипящим придыханием астматика, а некоторые его слова звучали, как лающий кашель. – Ты ее знаешь, и о чем это говорит? Что ты наркоторговец!
Куртов опасливо посмотрел на Герыча и на всякий случай спустился на ступень ниже, однако Герыч лишь махнул рукой:
- Вы опять о своем, Всеволод Павлович?
- У нас детский сад во дворе! Школа рядом! Какой пример видят дети, когда тут шарахаются твои обдолбанные дружки?
- Разве они мои дружки, Всеволод Павлович? – гнусаво протянул Герыч с нарочито скучающим видом.
- Дебила из себя не строй. Это твои нарики тут каждый день лежат. Либо сделай так, чтобы они больше в нашей парадной не появлялись, либо…
- С чего вы вообще взяли, что они ходят ко мне?
- Да весь дом знает, что ты барыга! – сорвался на крик плешивый Всеволод Павлович, чем немного напугал Куртова. Впечатление он производил агрессивное, хотя вооружен не был, и наверняка был из тех, кто любит распускать руки.
- Почему вы ко мне придираетесь? – спросил Герыч, искривив рот. – Что вас не устраивает?
- Как у тебя язык поворачивается такое говорить, ты, падла?! – взревел Всеволод Павлович и вдруг запоздало переключился на Куртова. – А ты еще кто такой? Тоже наркоман? Или барыга? У вас обоих рожи барыжные!
- Если у вас есть претензии, можете обсудить их с Александрой Сергеевной, - холодно перебил его Герыч, сбросив скучающий вид, – я съеду только в том случае, если этого захочет она. А менять квартиру из-за того, что кому-то что-то в голову взбрело, я не собираюсь.
- Поверить не могу! На моем этаже проживает торговец смертью, но никто ничего не делает! Эта климаксная мразь жирует на своих квартирах и думает только о деньгах, а участковый складирует мои заявления!
В заезженное словосочетание «торговец смертью» Всеволод Павлович вложил столько трагического пафоса, что Герыч неприкрыто закатил глаза, и это заметил даже Куртов. Вдалеке пронзительно запищали полицейские сирены, которые быстро приблизились, став громче, а потом их вой оборвался.
- Я вызвал полицию! – заявил Всеволод Павлович, угрожающе стукнув кулаком по воздуху. – Заберут труп, а потом с тобой поговорят. Я им всё про тебя сообщил!
- Ну-ка пошли, - деловито сказал Герыч, перешагнув через труп женщины и потянув за собой Куртова, которого схватил за рукав куртки, - сейчас тут шапито начнется.
Дезориентированный Куртов не стал сопротивляться, однако удивился, когда Герыч открыл дверь и потащил его в крохотную прихожую, которая вела в стандартную однушку, лишенную следов финансового достатка.
«Сколько же он получает, если платит крыше сто косарей? – размышлял Куртов, оглядывая не блещущий роскошью интерьер. – И почему живет в таких ебенях? По привычке?»
На кухне Герыч беглым жестом предложил Куртову сесть на табуретку и достал из холодильника бутылку пива, на этикетке которого был изображен сурового вида козел. Поддев крышку ключами, он кинул ее в раковину и сделал три больших глотка, от которых кадык заходил ходуном. Куртов несмело занял указанное место и сложил руки на груди. Кухня была тесной и темной: на синих обоях лукаво улыбались солярные символы, похожие на блины, а небольших размеров квадратное окно было задернуто шторами. Опираясь на стену, Герыч с угрюмым видом прихлебывал пиво. Погрузившись в раздумья, он забыл, ради чего Куртов к нему приехал.
- А если к тебе зайдут менты? – спросил тот, чтобы завязать разговор и тактично напомнить Герычу о себе.
- Не загоняйся, - отмахнулся тот.
- Странно, конечно, что у нее лицо фиолетовое, - продолжил Куртов, нащупав нить разговора, - наверное, она тебя ждала и решила вмазаться.
- Гердосом? – озадаченно посмотрел на него Герыч.
- Видимо. Раз у нее лицо, как баклажан.
Устало выдохнув, Герыч достал из настенного шкафчика жестяную банку из-под кофе «Каждый день». Он вытащил из нее зиплок, набитый синими и желтыми фитюлями, и кинул его на стол, прямо к локтю Куртова, после чего вернулся на прежнее место и продолжил меланхолично пить пиво.
«Мудак», - решил про себя Куртов и молча спрятал зиплок во внутренний карман.
- Ваня, ты умеешь обращаться с почтовыми дронами? – вдруг спросил Герыч, продолжая смотреть перед собой. Ваня неопределенно покрутил растопыренной пятерней:
- Ну так. Немного умею, а что?
- Будешь посылки принимать, - скупо объяснил Герыч, глотнул пива и умолк. Следующие десять минут прошли в неловком молчании, которое было неловким только для Куртова. Когда пиво закончилось, Герыч ушел в прихожую. Вернувшись, он сообщил что ни трупа, ни соседа, ни полицейских в парадной нет, а Куртову лучше прямо сейчас ехать домой.
- Почему Герыч? – спросил он, уже обувшись и выйдя из квартиры. - Ты же не торгуешь героином.
- Потому что я Германович. Очевидный наркоманский каламбур, - нехотя объяснил Герыч и закрыл дверь перед носом у Куртова, заставив его уткнуться взглядом в железо, покрашенное черной краской.
«Не мудак. Просто сволочь», - поменял Куртов прежнее решение, сопоставив битое лицо Герыча с его задумчивым поведением, доходящим до хамоватого равнодушия.
За толстым слоем сизых туч скрывались трое смотрящих, которые иногда опускали вниз свой божественный взор: Мать-Нефть в маслянисто-черных одеждах и узким черным треугольником нимба, Дочь-Церковь, обильно украшенная золотом, драгоценными камнями и жемчугом, восседающая на семи холмах, и Зона – Святая Душа, грязно-серая голубка, на головке которой тускло мерцал венец из колючей проволоки. Снисходительно прикрывали глаза сонмы ангелов, чьи плечи были увенчаны погонами ФСБ, ФСКН, МВД...
Качали клювами нефтяные вышки, высасывая из промерзлых недр баррели жирной до маслянистости нефти, доход от которой доставался только двум процентам населения. Разносился по воздуху колокольный перезвон, сверкали сусальным золотом маковки церквей и купола соборов, изгнать из которых торгашей не представлялось возможным, которые просто не осознали бы наступление второго пришествия, приняв вернувшегося Иисуса Христа за экстремиста. Через всю страну квадратами тюрьм, зон, колоний и лагерей тянулась паутина пенитенциарной системы, которая не исправляла, а лишь усугубляла преступные наклонности, в заведениях которой пышным цветом цвели пытки над заключенными, голодовки и стукачество.
Крутились колеса майбаха, превращаясь в смазанные стальные круги с зыбким черным ободком, между небом и землей металась снежная пыль. Свистящие порывы ветра гнали по асфальту узоры поземки и рвали воздух на куски. Всё пролетало мимо и оставалось позади. Асфар Юнусович сидел на месте водителя, разлегшись на слегка откинутой спинке коричневого кожаного сиденья, и задумчиво смотрел в белую метель. Руки с переплетенными пальцами неподвижно лежали на сером сукне шинели. Матвей сидел справа от Асфара Юнусовича. На его скуле наливался фиолетовым свежий синяк, а в руке он комкал окровавленный платок, которым недавно вытирал лицо, пока согревался в салоне, спиной ощущая исходящее от сиденья тепло. Он тоже смотрел перед собой, но совсем по другой причине – ему не хотелось встречаться взглядом с Асфаром Юнусовичем настолько долго, насколько это будет возможно.
- Именно сегодня я хотел встретиться с тобой и проверить на стрессоустойчивость. Но меня опередили, и теперь тебя можно не проверять. Большое счастье, что никто из вас не умер, - наконец заговорил Асфар Юнусович, положив ногу на ногу.
- А проверку я прошел? – тихо спросил Матвей, не сдержав слабой улыбки, которая была скорее сардонической, нежели радостной.
- Более чем, - Асфар Юнусович издал довольный смешок, и возрастные морщинки у его глаз приобрели глубину и резкость. Он щелкнул пальцами, негромко заиграло радио, и раздался мелодичный баритон с легкой сиплостью:
- Ах, Кресты, вы мои Кресты…
Поморщившись, Асфар Юнусович снова щелкнул пальцами, и пение стихло. Он повернул голову к Матвею, и ему из вежливости и субординации пришлось ответить тем же самым.
- Ты когда-нибудь замечал, что шансон слушают менты, таксисты и те, кто никогда не сидел? – пристально посмотрел на Матвея Асфар Юнусович. - Если не считать показушных сидельцев вроде твоего отца.
- Моего отца? – удивился Матвей. – Откуда вы знаете, как зовут моего отца? В свидетельстве о рождении стоит прочерк, там нет его имени.
- Сейчас Герман Кириченко отбывает в Крестах свой третий срок, - продолжил Асфар Юнусович, даже не удостоив Матвея ответом на вопрос, - через несколько месяцев он выйдет на свободу, вот только потом, конечно же, снова сядет. Статью называть не буду, сам догадаешься.
Матвей вздохнул. Он не видел отца все двадцать лет своей начинающейся жизни, а не вспоминал о нем уже лет десять, вычеркнув из биографии, как ее несущественный элемент. Естественно, насчет несущественности отцовского влияния, которое имело место даже при его отсутствии, Матвей непростительно ошибался, потому что при всем равнодушии к нему повторил его жизненный путь с пугающей точностью: баянист, аддикт, наркоторговец.
- Он типичный наивный идеалист, отстаивает тюремный кодекс, который отводит ему не самое почетное место, - холодно продолжил Асфар Юнусович, - он, видите ли, никогда своих подельников не сдавал, чтобы не ссучиться. Вот только как он может ссучиться? Ссученый – это блатной, который начал сотрудничать с органами. Нельзя ссучиться, не будучи блатным, а блатные никогда наркобарыг за своих не считали. Особо принципиальные даже отказываются принимать в общак деньги, заработанные сбытом наркотиков. Впрочем, очень забавно слушать, как о морали рассуждают люди, которые находят недостойной обоюдную сделку, но без колебаний могут зарезать человека, не считая это чем-то постыдным.
Ландшафт, частично скрытый снежными вихрями, стал меняться на городской: в белизне проступили панельные многоэтажки прошлого века, выцветшие за долгие годы эксплуатации, мигающие отсветы светофоров, сияющие вывески супермаркетов и тусклая уличная реклама.
- И тебе, и твоему отцу немного не повезло, вы занимаете зыбкое межкастовое положение. Вас презирают преступники старой формации, законопослушные граждане, наркоманы… Как неприкасаемых в Индии. Однако сотрудничества с барыгами избежать сложно. Такова кали-юга. Размываются границы между кастами, люди рождаются алчными, злобными, эгоистичными, истребляют друг друга, доходя чуть ли не до антропофагии…
- Если все, что вы говорите – правда, мне совсем не жаль, что он ушел из семьи, - сказал Матвей, чуть наморщив припухший от удара нос.
- А ты думаешь, я могу говорить тебе неправду? – искренне улыбнулся Асфар Юнусович. – Смелое заявление, Матюша.
Матвей напрягся, отвел взгляд на периферию обзора и замолчал, чтобы снова не ляпнуть лишнего.
- Лицом ты вылитый отец, впрочем, не только лицом. Он упрямый и эгоистичный, вот только цели у вас совершенно разные. Его цель слишком эфемерна и не приносит ему выгоды. Ты куда практичнее своего биологического родителя. Тебя интересуют недвижимость, деньги и путешествия. Лично я не вижу в этом ничего плохого. Я тоже предпочитаю материальное. Раз уж мы родились в железный век, нужно найти хлебное место. До конца кали-юги мы все равно не доживем, просветлиться тоже не выйдет, а перерождаться придется в любом случае – так зачем надрываться?
Асфар Юнусович кашлянул в кулак, поставив точку в абстрактных рассуждениях, и наконец перешел к сути:
- Ты правда устроил аварию? Чем ты руководствовался?
- Они сказали, что собираются меня убить.
- И ты решил, что вместе умирать веселее? Поступок не мальчика, но мужа. Хоть и самоубийственный.
Обратив внимание на глаза Матвея, в которых сейчас почти не было янтарно-карего, Асфар Юнусович ухватил Матвея за левую руку, отчего тот дернулся на месте, ощутив холодное прикосновение, но сразу замер. Подтянув к себе тощеватую кисть, Асфар Юнусович закатал рукав, насколько позволила куртка, и его взгляду открылось очевидное: вены от запястья до локтя были усыпаны свежими точками уколов, скромными зачатками колодцев и химическими ожогами разной степени, которые остались от задувов.
- И часто ты это делаешь? – обратился он к Матвею, дернув рукав на место и отпустив разгоряченную кисть.
- Несколько раз в неделю, - произнес Матвей, и в его отрывистой гнусавой речи послышалось бытовое спокойствие, которое кажется странным для тех, кто ничего не употребляет, а некоторых даже пугает.
- В Европе тебя уже давно признали бы больным человеком. Наркомания там считается не преступлением, а хроническим заболеванием. Как диабет второго типа, - сказал Асфар Юнусович, - продавец на системе – не самое приятное зрелище. В том числе, и для него самого, просто он понимает это слишком поздно. Считай не приказом, а рекомендацией: брось хотя бы свежесть. Будет тяжело, зато ты не повторишь судьбу Марата, который наверняка уже переродился в животное. Сплошные плюсы.
- Животное? – вздрогнул Матвей, вспомнив про Марата.
- Кошку, собаку, попугая. Колесо перерождений могло забросить его в тело любого зверя.
Совет Асфара Юнусовича напоминал угрозу, но был дельным. Раскрывая Матвею свою агрессивную красоту, свежесть проникала все глубже в его характер и организм: Матвей начал вести себя порывисто и деструктивно, необходимая порция возросла до двух кубов, а терпеть промежутки между вмазками, после которых иногда пропадали наиболее пострадавшие вены, стало намного тяжелее.
«Для начала перейти на меф, - задумался он, подбирая наиболее подходящую для себя лесенку, - как раньше, по субботам. Затем можно на спиды перепрыгнуть, а уже с них на таблы. А потом и с таблов, жрать только по праздникам…»
- Если говорить откровенно, у меня на тебя планы, - засмеялся Асфар Юнусович, - и чтобы стать частью этих планов, ты должен быть более адекватным. Тебе всё объяснит Гриша. Через месяц.
- Хорошо, Асфар Юнусович, я вас понял, - смущенно произнес Матвей, внутренне надеясь, что эти планы не включают в себя его смерть.
Майбах припарковался прямо напротив крыльца клиники из белого кирпича, что располагалась на Гжатской улице. На ближайшем фонарном столбе подрагивала белая голограмма с крупной надписью «травмпункт», а справа от него брезжил лайтбокс с фотографией мужчины в годах, одетого в белую рубашку, костюм и галстук с монограммой.
- Зайдешь в травмпункт. Пусть проверят, в порядке ты или нет, - усмехнулся Асфар Юнусович.
- Хорошо, - машинально ответил Матвей. Он всматривался в фотографию мужчины с прилизанными волосами, мелкими морщинками по всему лицу и уверенным взглядом, который сегодня днем вел себя крайне торопливо и беспокойно.
- Это же Домнин… - выдохнул он, узнав в представительном мужчине – то ли депутате, то ли бизнесмене – загадочного нанимателя Тимофея.
- Да уж, после той истории у него должно было поубавиться капитала, - хмыкнул Асфар Юнусович. Матвей уловил в его голосе нотки довольства и странной неприязни к Домнину.
Упомянутая Асфаром Юнусовичем «та история» была крайне неправдоподобной и абсурдной, но реальной по всем пунктам. Речь шла про скандал, связанный с секс-сектой, которая выродилась из очередного тренинга личностного роста. Героями комедии были олигарх Олег Домнин, от которого все ожидали большей прозорливости и предусмотрительности, гуру секты под творческим псевдонимом Джон Рид, работающий в Сколково, и его лучшая ученица Кошка, которая пробилась на яхту Домнина в качестве приглашенной фотомодели с расширенным пакетом функций. Следуя указаниям гуру, Кошка активно соблазняла олигарха Домнина и записывала на смартфон его разговоры с вице-премьером РФ. Вернувшись с яхты, ученица передала гуру полученный компромат, а через два месяца выпустила формально художественный роман о приключениях элитной проститутки, где Домнин фигурировал, само собой, не под настоящим именем. Но замена имен оказалась настолько формальной, что никакой роли не сыграла, и всем сразу всё стало ясно.
Итог скандала был до неприличия глупым: Домнин выставил себя облапошенным дураком, а Кошка поведала всем русскоязычным читателям о подробностях анального секса с Домниным, где в активной роли была она, и вскользь – о вещах деликатных, которые не должны были выйти за пределы кремлевских кулуаров. Матвей даже поймал себя на том, что долго не мог вспомнить фамилию олигарха, глядя на лайтбокс, зато в голову сразу пришло прозвище, данное ему пронырливой эскортницей – Олег Подхвост.
- Из-за тебя, кстати, я сегодня опоздал в дацан, - со смешком произнес Асфар Юнусович.
- Вы буддист? – вскинул брови Матвей.
- А что в этом удивительного? – на этот раз Асфар Юнусович улыбнулся зловеще и сделал это намеренно. – Я стараюсь не причинять физический вред живым существам. Ты же сам знаешь.
Вежливо попрощавшись, Матвей выскочил на тротуар Гжатской улицы и сразу же оказался под кружащими вихрями ветра. За спиной неслышно хлопнула закрывшаяся дверца, зашуршали колеса, но и этот звук быстро стих, удалившись в сторону центра. Чтобы попасть в травмпункт, нужно было обойти клинику и зайти через внутренний двор. Однако Матвей топтался на месте и ежился, но совсем не от холода. Асфар Юнусович действительно редко причинял людям физический вред, но не стоило забывать про вред моральный и вред физический, который по приказу Асфара Юнусовича причиняли его подчиненные.
И меньше всего Матвею хотелось быть одним из таких подчиненных, а уж тем более - протеже этого жуткого человека. Смущал его даже не статус мальчика на побегушках, а гипотетические поручения Асфара Юнусовича, явно черные и малоприятные, от которых нельзя будет отказаться. Матвей знал, что наркоманы по буддистским канонам перерождаются в животных. В кого перерождаются наркоторговцы, он не знал, но догадывался, что карма их не жалует – как простые граждане, блатные и наркопотребители. Узнавать это в двадцать лет, еще и на собственной шкуре ему крайне не хотелось.
Рассудил Матвей просто: раз уж он оказался в дерьме, из которого почти невозможно вылезти, следовало выжать из ситуации максимум выгоды и отодвинуть конечный момент как можно дальше, выполняя всё, о чем его просят, и очень при этом стараясь. А в свободное от работы время искренне радоваться жизни.
***
У крыльца с греческими узорами безуспешно, но настойчиво ждал Ваня Куртов – бледный юноша с медленными движениями, перманентно печальной гримасой и резко очерченным ртом, который не сочетался с аморфными чертами лица. Ожидал он уже час, а Герыч, который сам выбирал время для встречи, то ли не желал открывать дверь, то ли не мог этого сделать, то ли вообще отсутствовал.
Два месяца назад Куртов попался на контрольной закупке. Не будучи наркоманом, он ограбил знакомого дилера, однако вместе с деньгами прихватил сотню экстази, которую, ведомый алчностью, решил сбыть оптовой партией. Расчет был хорош: продать все за один раз, чтобы минимизировать риск, и расчет вполне мог оправдаться, если бы не покупатель, дилер, работающий на невский синдикат и в чем-то перед хозяевами провинившийся, который сдал его с потрохами. Куртова, который всегда посматривал на барыг сверху вниз, самого объявили таковым и поставили перед пелевинским выбором. Чурающийся понятий, он предпочел быть клоуном у пидарасов, а не пидарасом у клоунов.
Отныне Куртов обязан был работать закладчиком у барыги, который жил на Гражданке, и раз в несколько дней ему приходилось ездить за товаром, преодолевая сине-красный маршрут, начинающийся в Купчино и отнимающий почти час. Долговязый барыга обладал ироничным прозвищем, красноречивым худым лицом и параноидальным характером. В квартиру он Куртова никогда не пускал, а пакеты с расфасованным товаром передавал исключительно через дверь, сдерживаемую железной цепочкой. Куртов плохо знал его как торговца и совсем не знал как человека.
Спустя еще полчаса ожидания у подъездной дорожки остановилось желтое яндекс-такси с голографическими шашечками, и из него выскочил Герыч – измотанный, явно побитый и немного довольный. Такое сочетание характеристик озадачило Куртова, однако лишних вопросов он решил не задавать.
- Вид у тебя, как у покойника, - вместо этого произнес он. В его тихом голосе то и дело проскакивала юношеская хрипотца.
- Почти угадал, - скупо подтвердил Герыч, но в подробности вдаваться не стал. Он быстро направился к железной двери, на ходу доставая ключи, и Куртов молча последовал за ним, с каждым этажом все тяжелее преодолевая узкие лестницы парадной. Барыга не сбавлял темпа и, кажется, не уставал, а вот Куртов плелся за ним, стараясь не отставать. Перед последним этажом барыга вдруг резко остановился, и Куртов, пытающийся его нагнать, по инерции чуть не уткнулся лбом ему в спину.
- Еб твою мать, Туся! – воскликнул Герыч. Раскинув в стороны руки и ноги, поперек лестницы лежала когда-то смуглая женщина с рыжими волосами, нищенским ложем которой являлся дутый пуховик. Из-под закатанного рукава шерстяного платья торчала смуглая исколотая рука, а на бетонной ступени одиноко покоился опустевший шприц. Лицо женщины было совсем не смуглым. Вместо лица у нее была раздувшаяся фиолетовая чернота, смазавшая прижизненные черты.
Скрипнула дверь, будто слова Герыча были условленным сигналом, и на лестничную площадку выскочил мужичок с плешью на макушке. Куртов повернул голову на звук, не понимая, что происходит и как ему на это реагировать.
- Ага! Попался! – торжествующе выкрикнул мужичок с шипящим придыханием астматика, а некоторые его слова звучали, как лающий кашель. – Ты ее знаешь, и о чем это говорит? Что ты наркоторговец!
Куртов опасливо посмотрел на Герыча и на всякий случай спустился на ступень ниже, однако Герыч лишь махнул рукой:
- Вы опять о своем, Всеволод Павлович?
- У нас детский сад во дворе! Школа рядом! Какой пример видят дети, когда тут шарахаются твои обдолбанные дружки?
- Разве они мои дружки, Всеволод Павлович? – гнусаво протянул Герыч с нарочито скучающим видом.
- Дебила из себя не строй. Это твои нарики тут каждый день лежат. Либо сделай так, чтобы они больше в нашей парадной не появлялись, либо…
- С чего вы вообще взяли, что они ходят ко мне?
- Да весь дом знает, что ты барыга! – сорвался на крик плешивый Всеволод Павлович, чем немного напугал Куртова. Впечатление он производил агрессивное, хотя вооружен не был, и наверняка был из тех, кто любит распускать руки.
- Почему вы ко мне придираетесь? – спросил Герыч, искривив рот. – Что вас не устраивает?
- Как у тебя язык поворачивается такое говорить, ты, падла?! – взревел Всеволод Павлович и вдруг запоздало переключился на Куртова. – А ты еще кто такой? Тоже наркоман? Или барыга? У вас обоих рожи барыжные!
- Если у вас есть претензии, можете обсудить их с Александрой Сергеевной, - холодно перебил его Герыч, сбросив скучающий вид, – я съеду только в том случае, если этого захочет она. А менять квартиру из-за того, что кому-то что-то в голову взбрело, я не собираюсь.
- Поверить не могу! На моем этаже проживает торговец смертью, но никто ничего не делает! Эта климаксная мразь жирует на своих квартирах и думает только о деньгах, а участковый складирует мои заявления!
В заезженное словосочетание «торговец смертью» Всеволод Павлович вложил столько трагического пафоса, что Герыч неприкрыто закатил глаза, и это заметил даже Куртов. Вдалеке пронзительно запищали полицейские сирены, которые быстро приблизились, став громче, а потом их вой оборвался.
- Я вызвал полицию! – заявил Всеволод Павлович, угрожающе стукнув кулаком по воздуху. – Заберут труп, а потом с тобой поговорят. Я им всё про тебя сообщил!
- Ну-ка пошли, - деловито сказал Герыч, перешагнув через труп женщины и потянув за собой Куртова, которого схватил за рукав куртки, - сейчас тут шапито начнется.
Дезориентированный Куртов не стал сопротивляться, однако удивился, когда Герыч открыл дверь и потащил его в крохотную прихожую, которая вела в стандартную однушку, лишенную следов финансового достатка.
«Сколько же он получает, если платит крыше сто косарей? – размышлял Куртов, оглядывая не блещущий роскошью интерьер. – И почему живет в таких ебенях? По привычке?»
На кухне Герыч беглым жестом предложил Куртову сесть на табуретку и достал из холодильника бутылку пива, на этикетке которого был изображен сурового вида козел. Поддев крышку ключами, он кинул ее в раковину и сделал три больших глотка, от которых кадык заходил ходуном. Куртов несмело занял указанное место и сложил руки на груди. Кухня была тесной и темной: на синих обоях лукаво улыбались солярные символы, похожие на блины, а небольших размеров квадратное окно было задернуто шторами. Опираясь на стену, Герыч с угрюмым видом прихлебывал пиво. Погрузившись в раздумья, он забыл, ради чего Куртов к нему приехал.
- А если к тебе зайдут менты? – спросил тот, чтобы завязать разговор и тактично напомнить Герычу о себе.
- Не загоняйся, - отмахнулся тот.
- Странно, конечно, что у нее лицо фиолетовое, - продолжил Куртов, нащупав нить разговора, - наверное, она тебя ждала и решила вмазаться.
- Гердосом? – озадаченно посмотрел на него Герыч.
- Видимо. Раз у нее лицо, как баклажан.
Устало выдохнув, Герыч достал из настенного шкафчика жестяную банку из-под кофе «Каждый день». Он вытащил из нее зиплок, набитый синими и желтыми фитюлями, и кинул его на стол, прямо к локтю Куртова, после чего вернулся на прежнее место и продолжил меланхолично пить пиво.
«Мудак», - решил про себя Куртов и молча спрятал зиплок во внутренний карман.
- Ваня, ты умеешь обращаться с почтовыми дронами? – вдруг спросил Герыч, продолжая смотреть перед собой. Ваня неопределенно покрутил растопыренной пятерней:
- Ну так. Немного умею, а что?
- Будешь посылки принимать, - скупо объяснил Герыч, глотнул пива и умолк. Следующие десять минут прошли в неловком молчании, которое было неловким только для Куртова. Когда пиво закончилось, Герыч ушел в прихожую. Вернувшись, он сообщил что ни трупа, ни соседа, ни полицейских в парадной нет, а Куртову лучше прямо сейчас ехать домой.
- Почему Герыч? – спросил он, уже обувшись и выйдя из квартиры. - Ты же не торгуешь героином.
- Потому что я Германович. Очевидный наркоманский каламбур, - нехотя объяснил Герыч и закрыл дверь перед носом у Куртова, заставив его уткнуться взглядом в железо, покрашенное черной краской.
«Не мудак. Просто сволочь», - поменял Куртов прежнее решение, сопоставив битое лицо Герыча с его задумчивым поведением, доходящим до хамоватого равнодушия.
Глава 10

Ни к чему не относись небрежно. Всякая вещь что-то обещает, как только ты посмотришь на нее с радостью во взгляде. Не учись мыслить только категориями начала и конца, хорошего и плохого, света и тьмы.
Дугпа Ринпоче, «Жизненные наставления далай-ламы»
Дугпа Ринпоче, «Жизненные наставления далай-ламы»
апрель, 2031год
За белый, гладкий, похожий на инопланетное насекомое почтовый дрон пришлось отдать две тысячи долларов, но вложение себя оправдало. Больше килограмма он не поднимал, однако Куртов пока не заслужил столько доверия, и Матвей ограничивался сотней граммов, которые дрон увозил в далекое Купчино, а потом прежним маршрутом возвращался обратно. Следить за ходом полета можно было через смартфон, подключенный к выпуклому глазу камеры, в котором отображались медленно ползущая панорама Санкт-Петербурга, похожий на скопление пчелиных сот конгломерат маргинальных общежитий и сонное лицо Куртова, совершенно не подозревающего, что за ним наблюдают. Несмотря на это, он никогда не лгал, хотя Матвей ожидал фальшивых жалоб на то, что дрон прилетел пустой или не прилетел вовсе.
Начиналась первая апрельская суббота, которая обещала одновременно и хлопоты, и долгожданное облегчение. Нужно было навестить Глеба, отдать кокаин молодой, но обеспеченной даме, а уже под вечер встретиться с Гришей, который должен был наконец разъяснить, в чем же заключаются загадочные планы Асфара Юнусовича.
Убрав вернувшийся дрон в шкаф, Матвей разложил по карманам толстовки кухню, включающую в себя шприц, полграмма мефедрона и пустой стеклянный фурик с ваткой, надел темные очки и отправился к метро. Под ногами хмуро чавкал коричневатый снег, перемешанный с грязными лужами и реагентом, а сверху давила раскинувшаяся на все небо мышиная серость.
Глеб снимал однокомнатную, но просторную и светлую квартиру у Чернышевской, в Соляном переулке, где когда-то жил и гулял с няней маленький Пушкин, а теперь обосновались патриоты всех мастей - от умеренной до радикальной. Была немалая доля иронии в том, что оппозиционер Щипцов, активно принимающий участие в резонансном деле политзаключенной Черных, которую арестовали за одиночный пикет, поселился в таком месте. Пока под его окнами проходили собрания пенсионерок из «Отрядов Громова» и пели в благотворительных целях пограничники, Глеб обеспечивал арестованной Черных информационную поддержку в сети, чтобы фокус общественного внимания не смещался с нее как можно дольше. По выходным Глеб ходил в бар «Розы», находящийся этажом ниже, где упивался нефильтрованным крафтовым пивом, которое варили на Васильевском острове, и нередко свидетелем его будущих запоев становился Матвей, который не относился к алкоголю так фанатично, поэтому всегда доставлял заснувшее тело Глеба домой.
Флером политактивизма повеяло сразу же, как только Матвей поднялся из глубин Чернышевской, и его живым концентрированным воплощением стала сухонькая, но бойкая старушка в спортивном костюме – седая, однако с черными, почти жирными ресницами, наверняка заставшая стрельбу по Белому дому и Ельцина на танке. Старушка сновала среди разлагающихся сугробов сквера, поправляя квадратные очки и помахивая бланками с подписями.
- Подписывайтесь против реформы о повышении пенсионного возраста! – донесся до Матвея ее удивительно звонкий голос, и он незамедлительно направился к Литейному, избегая сквера и держась правой стороны улицы. Долгое воздержание от свежести напоминало о себе нервозностью, которая проступала в каждой реакции Матвея на раздражающую обстановку, а одолеваемый жаждой мозг, помнящий про мефедрон, понемногу начинал будоражить нервы, имитируя столь желанную стимуляцию, и это отнюдь не успокаивало.
Соляной переулок тоже не порадовал. Квартира Глеба располагалась в песочно-бежевом доме дореволюционной постройки, но до него еще нужно было дойти. Стараясь не думать про сгустившееся в желудке предвкушение, порождающее легкую дрожь всего тела, Матвей шагал по Соляному, который представлял собой пешеходную зону, окаймленную двумя рядами домов. Сегодня здесь происходило то же, что и обычно: краем глаза Матвей заметил двух пограничников в униформе цвета хаки. Один из них сидел на раскладном стульчике и порывисто растягивал мехи баяна, а второй стоял перед микрофоном, сложив руки за спиной и печально глядя в весеннюю даль. У ног пограничника-баяниста стоял тяжелый ящик. «Пожертвования семьям солдат, погибших при службе на границе нашей родины», - сообщал лист, приклеенный к ящику широкими лентами скотча. Пограничник, стоящий у микрофона, минорно тянул слова патриотической песни:
- Вытри слезы, отдохни немнога-а, я русская дорога-а…
Матвей ощутил в носоглотке фантомную мефедроновую горечь и ускорил шаг. Когда в поле зрения возник знакомый вход в парадную - тяжелая деревянная дверь с кодовым замком, обрамленная тяжелым каменным крыльцом и пятнистыми от времени пилястрами, Матвей успел заметить пенсионерок, которые расставляли напротив бара стулья и голопроектор, однако значения этому не придал. Содрогания всего тела, которые он безуспешно пытался скрыть, землисто-бледное лицо и взгляд, в котором едва брезжила осознанность, говорили лишь о мономанической концентрации на единственно важной цели. Влажные пальцы то и дело потирали курносый нос, а зажатое нервозностью тело не могло стряхнуть с себя угловатой позы.
Парадная с двухвековой историей была темной, но ухоженной: гранитные ступени, об которые можно было, поскользнувшись, разбить голову, окрашенные светло-персиковым колером стены и цветочная лепнина на потолке. Глеб жил на втором этаже, где сейчас душно пахло олифой, и окна его квартиры выходили в переулок. Когда Глеб открыл дверь, Матвей не очень-то церемонно сунул ему в ладонь зиплок, где лежали экстази, шесть белых вишен, и кинулся в широкий, зал, совмещенный с кухней.
- Глеб, где я могу вмазаться, Глеб? У тебя есть вода? Кипяченая? – выпаливал Матвей вопрос за вопросом, пересекая зал быстрыми шагами. Он подбитой птицей метался между желтыми стенами, на которых застыли радужные блики оконных стекол. На каменистом дне оранжевого аквариума неподвижно лежала бледная и раздутая, как утопленник, шпорцевая лягушка, а над диваном с кофейным столиком висела картина маслом, напоминающая белый шум телеэкрана.
- Вообще-то я ширево не приветствую и никому в своей квартире ширяться не разрешаю. Но ты мой давний друг и недавно обретенный драгдилер, так что добро пожаловать, - с легкой улыбкой ответил Глеб и, не таясь, шмыгнул. Глаза его блестели, как влажные стеклянные бусины.
Радостно рухнув на диван, Матвей издал хриплый смешок и разложил на прозрачной столешнице кухню. Темные очки, о которых он совсем забыл, сползли на кончик носа, угрожая упасть прямо на скудный набор инструментов и сделать приготовления Матвея бессмысленными. Глеб налил воду из графина в стакан, поставил его перед Матвеем и участливо снял темные очки с его носа. Высокий стакан был полон почти до краев. Не заметив вмешательства Глеба, который сел в кресло, что стояло напротив, Матвей раскрыл зиплок и высыпал в фурик полграмма мефедрона. Он набрал в шприц воду и медленно впрыснул ее в стеклянное горлышко. Тонкая струя, вырывающаяся из канюли, разрушала целостность серовато-белой кристаллической горстки, скатываясь по ней мелкими каплями, поверхности которых липко покрывались порошком. Примерно с минуту Матвей помешивал раствор пляшущей в руке иглой, после чего кинул в получившуюся желтую муть ватку. Проходя через импровизированный фильтр, в шприц проникал едва желтоватый, даже немного золотящийся готовый раствор.
- Да, хорошо быть поставщиком. Все тебе рады… - задумчиво протянул Глеб, закинув ногу на ногу. Его голос звучал несколько грубовато, а в улыбке проскальзывала непонятная насмешливость. Глеб смотрел на Матвея с любопытством юнната, который поймал жутко выглядящее, но крайне занятное насекомое, однако Матвей не заметил и этого.
- Ага, сплошные преимущества, - отстраненно ответил он. Сейчас ему было совсем не до бесед. Костлявые кисти окончательно поддались дрожи нервного напряжения, слившегося с предвкушением, которое не смазывало приход, а лишь подчеркивало его благостную ноту, придавая ей дополнительную прелесть. Закатав левую штанину, Матвей сделал несколько глубоких вдохов, чтобы унять трясущиеся руки, и без особого пиетета воткнул иглу в наиболее заметную вену, которая змеей уходила куда-то под коленку. Вспыхнул алым контроль, и Матвей надавил на пластиковый поршень.
- Ох, ебать… - протяжно простонал он сдавленно-нежным от прихода голосом и откинулся в мягкую нору дивана. Тонкие светлые волосы рассыпались по лбу, сжались зубы, в горле родилась горячая волна, которая эйфорией растеклась по всему телу, заменив прежний нервный тремор. Мир вокруг золотился, его цвета теплились контрастом, контуры предметов размывались шлейфом, похожим на тягучее жидкое золото, гул бытовых приборов и уличный говор налились объемом, который сочился тяжелым эхом. Но экстаз первых минут неизбежно схлынул, челюсти разжались, и зубы стали отбивать мелкую чечетку.
Пока Матвей валялся, откинувшись на податливую спинку дивана, и приходил в себя, Глеб принес из спальни засаленную колоду карт, умелым движением перетасовал их и разложил на кофейном столике, отодвинув кухню Матвея в сторону.
«Не свежатина, но тоже хорошо», - умиротворенно подумал Матвей, разминая плечи и хрустя суставами пальцев. Он вернул закатанную штанину на место, скрыв свежую точку укола, из которой вниз по ноге спускалась кровяная дорожка – уже подсыхающая и теряющая красноту.
- Не ожидал, что ты станешь любителем стимуляторов, - произнес Глеб, подняв с пола опустевший шприц и положив его на край столика.
- Я уже давно профессионал, - с улыбкой ответил Матвей, - стадию любителя я прошел в конце двадцать девятого года.
Перед глазами мелькали карты, сливаясь в многоликий калейдоскоп придворной знати черно-красных мастей, Глеб постоянно выигрывал, не забывая рассуждать о гражданских свободах. А Матвея, который не ширялся целую неделю, немного повело. Когда он закрывал глаза, черное пространство внутри головы незримо пульсировало, а время переставало поддаваться исчислению. Через открытую форточку проникал шелест чужих разговоров, которые вели сменяющие друг друга прохожие. Глеб несколько раз с загадочным видом уходил в спальню, где ритмично стучал картой по стеклу и приглушенно шмыгал. Из спальни он выходил основательно разогнанным.
- Город трех революций. Не удивлюсь, если всё снова начнется здесь, - заявил он, вернувшись после третьей заправки. Матвей, которого уже отпустило, мрачно посмотрел на него:
- Я бы на твоем месте был осторожнее со словами. Нанюхает тебя какой-нибудь эшник, запишет твою агитацию, а потом дело сошьет.
- Будет тебе, Грязев. Как будто я не знаю, что ты красный, как вареный рак.
Под стимуляторами Глеб делался честным, бесстрашным и туповатым.
- Почему ты так считаешь? – осторожно поинтересовался Матвей, поглаживая кончиками пальцев жирные от времени и чужих рук карты.
- Почти все дилеры сейчас красные.
- Да, к сожалению, - нахмурился Матвей. Глеб затронул не самую приятную тему и, кажется, пока этого не понял. Вместо того, чтобы перевести разговор на что-нибудь менее саднящее или хотя бы снова рассказать, как во время одного из алкопохождений он вдруг осознал себя в неизвестно чьих и немного окровавленных спортивных штанах, Глеб посмотрел на Матвея с неприкрытым удивлением.
- Я не хотел оказываться в таком положении, - пожал плечами Матвей, - просто так сложилось.
- Насколько возможно покинуть эту структуру? – спросил Глеб, впившись в него пристальным, но при этом сострадательным и даже немного заговорщицким взглядом.
- Почти невозможно.
- И что может тебе помочь? – решительно допытывался Глеб.
- Луковка, - саркастически усмехнулся Матвей, - не грузи меня, ладно?
- ...«Мертвая рука» существует, - раздался в переулке усиленный динамиками голос Громова, - ответный удар неизбежен. Мы, жертвы и мученики, попадем в православный рай, а агрессоры просто сдохнут в ядерном огне, потому что не успеют покаяться.
От неожиданности Матвей вздрогнул. Выглянув в окно, он увидел двухмерную голографическую проекцию, пронзающую воздух: Громова, одетого в строгий костюм с галстуком, и блестящие за его спиной кремлевские звезды. Из-за крошечных капель слепого дождя проекцию дергало мелкой рябью, и президент покрывался оспинами, которые придавали ему совсем уж старческий вид. Его интонация была вкрадчиво-агрессивной, как у пахана. На пластиковых стульях, расставленных в три ряда, сидели пенсионерки в дождевиках, и на их предплечьях угадывались фиолетовые нарукавные повязки с российским триколором. Пенсионерки смотрели запись недавнего президентского обращения.
«Старый хрен совсем кукухой поехал», - брезгливо подумал Матвей и закрыл форточку, чтобы не слышать нездорово-дементную речь.
- Да уж, шесть лет назад ты от тяжелых вариантов отказывался. Я тогда еле-еле тебя на тропик уговорил. Не думал, что когда-нибудь увижу, как ты вмазываешься. Тетя Настя утверждала, что я сопьюсь, а у тебя жизнь сложится неплохо. Особенно если ты из Офтони уедешь, - снова раздался торопливый голос Глеба. Слова вязли в сжатых зубах, наползая друг на друга. Матвей недовольно посмотрел на него. Не замечая его негативной реакции, Глеб продолжал демонстрировать развитое красноречие:
- А как все сложилось на самом деле? Сначала ты, никого не предупредив, куда-то уезжаешь, а спустя два года я встречаю тебя в Питере. Ты тощий и бледный, ширяешься уже даже не в центряк, толкаешь наркоту…
- В чем-то она оказалась права. Живу я неплохо, - перебил его Матвей, пока Глеб не ушел слишком далеко от начальной мысли.
- Ты никогда не считал себя катализатором чужой зависимости? – задал Глеб совсем уж запредельный вопрос, немного при этом нахмурившись. Матвей криво улыбнулся:
- Разве я сторож брату моему? Глеб, хватит уже меня грузить. Ко мне домой, если ты не в курсе, только малая часть покупателей ходит, а сам я вообще ни к кому не хожу. Ты понял намек? Или мне объяснить?
- Да ладно, я же просто спросил, - добродушно улыбнулся Глеб. Степень его глупости росла с каждой снюханной дорогой.
Закрывшись в туалете, Матвей сел на опущенную крышку унитаза и вытащил из кармана серебряный портсигар. Блекло-розовые обои в мелкую звездочку достигали стыка с потолком, где их уродовали пузырящиеся вздутия и уродливые кляксы давних затоплений, виновниками которых были соседи сверху. Линолеум был уложен неровно, а там, где вдоль стен вились грубо окрашенные трубы, даже не был прибит к полу строительным пистолетом. Подцепив линолеум за край, можно было рассмотреть бугристый пол и скопления пыли, в которой виднелись трупики пауков-сенокосцев.
На бачке унитаза стояла тяжелая стеклянная пепельница, в пупырчатой поверхности которой сверкали тусклые микроскопические копии потолочной лампочки. Хозяева разрешали курить только в туалете, потому что это было единственное в квартире место, оборудованное вытяжкой. Глеб смолил исключительно там и гостей гнал туда же – даже тех, кто любил курить на приходе. В особенно людные выходные туалет постоянно был занят.
Поставив пепельницу на линолеум, прожженный мелкими сигаретными искрами, Матвей закурил. Когда половина сигареты истлела, он нашел в списке контактов нужный номер и поднес телефон к уху.
- Рада тебя слышать, Герочка, - ответил ему юный, однако несколько строгий женский голос.
- Лиза, ты можешь минут через пятнадцать подъехать к Соляному переулку? Лучше со стороны Гангутской, - предложил Матвей, пропустив формально-вежливое приветствие. Находиться в квартире Глеба еще два часа ему решительно не хотелось. Лиза довольно хмыкнула:
- Надо же, обычно ты сдвигаешь время вперед. Мы договаривались на шесть, а сейчас только четыре.
- Да можешь ты или нет? – не выдержал Матвей, сорвавшись на сдавленное шипение.
- Естественно, могу. Главное, дорогой мой Герочка, чтобы ты дошел до Гангутской.
Матвей не опоздал. Он даже пришел немного раньше. Серебристый миникупер Лизы был припаркован у дороги, в тени ветшающего блекло-розового дома – типичной для Центрального района двухвековой постройки. Окна первого этажа были закрыты складчатыми железными листами, а над входом в продуктовый магазин красовались старомодные фонари в черных резных коконах. Шуршало на ветру цветастое объявление, отклеивающееся от мятой водосточной трубы. В таком окружении блестящий серебром миникупер терял свой лоск и становился линялым, как и большинство предметов вокруг.
Еще издалека Матвей заметил открытое окно, за которым виднелись руль и разозленно-довольная Лиза. В ее довольстве было нечто плотоядное и давно нарывающее. Темные волосы сливались с меховым воротником кожаного пальто, тонкие пальцы с агрессивным темным маникюром барабанили по рулю, а пухлые черные губы, переливающиеся мерцанием бензина, отрывисто шевелились, насмешливо обнажая белый оскал.
- Да вся Россия уже знает, что ты любишь помладше, - торжествующе цедила она в смартфон, - готовься к судам, боров. Под шконку пойдешь за растление несовершеннолетней.
Фотомодели Лизе Филлипенко, оказавшейся в донельзя достоевской ситуации, биологически было восемнадцать, а морально – все сорок. Яркая, даже немного вульгарная внешность была то ли результатом раннего взросления, форсированного сожителем-педофилом, менеджером «Лукойла», то ли отпечатком богемной профессии. Это была не первая фотомодель, которой Матвей приходился дилером, и все они имели очень даже уловимое сходство – специфическую нездоровую худобу, которую законопослушный социум считал образцом для подражания и пытался достичь его, сидя на изнуряющих диетах. Хотя был способ куда более быстрый и очевидный. При первой же встрече Матвею бросились в глаза острые, как нож, кокаиновые скулы, которые выдавали в Лизе его потенциальную постоянную клиентку. Последующие встречи доказали, что он не ошибся.
- И нахер мне твои деньги?– продолжала Лиза, взвинчивая тон и не замечая подошедшего Матвея. – Деньги у меня и так есть. Я хочу, чтобы тебя, пидора гнойного, на зоне драли. За мое поруганное детство. Да, блядь, вот так. По-другому не хочу.
Судя по резкой интонации и ядовитости обвинений, она разговаривала с формально сорокалетним мужчиной, который пять лет назад ее развратил, а потом четыре года с ней сожительствовал, приучая к кокаину и алкоголю. Когда восемнадцатилетняя Лиза сбежала от него со скандалом и публичным заявлением, что он любит распускать руки, тот выдвинул ответную претензию, которая заключалась в следующем: кокаинистка и алкоголичка Лиза намеренно изводила его истериками, вытекающими из отходняков. Почему-то позабыв, что до встречи с ним, против которой родители Лизы ничуть не возражали, она не знала ни алкоголя, ни кокаина.
Матвей сухо кашлянул, привлекая внимание, и Лиза наконец повернулась к нему, просияв при этом искренним восторгом и отразившись в стеклах его темных очков. Матвей протянул ей ладонь, где лежал маленький зиплок с двумя граммами кокаина, и Лиза быстро подцепила его длинными темными ногтями, которые слегка оцарапали прохладную кожу.
- Еще встретимся, Герочка, - косо улыбнулась она, а потом вернулась к уничижительной беседе, резко сменив милость на гнев, - да не с тобой, боров. С тобой вертухаи встретятся.
Наблюдать за этим было немного горько, и Матвей побрел, хлюпко шаркая кроссовками, в сторону Фурштатской. На Фурштатской находилась бильярдная «Евпатий Коловрат», принадлежащая Грише, который купил ее совсем недавно и теперь все встречи проводил там.
В отделенной от общего зала просторной комнате, декорированной белым кафелем и зелеными веерными пальмами, стоял по центру стол без луз, обтянутый зеленым сукном. В трех крапчатых шарах – белом, желтом и красном – тускло отражались продолговатые потолочные лампы, а на стене, чуть выше зубцов зелени, светящимися салатовыми трубками было выложено название бильярдной. Когда Матвей открыл дверь комнаты, Гриша усердно натирал кончик кия меловым бруском. На широком лакированном борту стояли прямоугольная светло-синяя бутылка джина «Bombay Sapphire», два низких стакана, один из которых был на четверть полон, и черное блюдце. На нем болезненно белели начерченные дороги кокаина, тут же лежали кредитная карта со скрученной в трубочку купюрой.
Заметив Матвея, Гриша положил кий на сукно и улыбнулся:
- А вот и ты. Проходи, не стесняйся. Все-таки не чужие люди.
- Привет, - скупо ответил Матвей и подошел к бильярдному столу. Обаятельная маска, которую Гриша старательно удерживал, несколько диссонировала с мелкими движениями лица, в которых проскальзывала агрессия, и улыбкой, похожей на оскал. Либо у Гриши начинались отхода, либо он был настроен серьезно. Судя по семи готовым к употреблению дорогам, отхода должны были наступить нескоро. Матвей нахмурился.
Опорожнив стакан и снюхав дорогу пожирнее, Гриша потер руки и внимательно посмотрел на него:
- Почему-то раньше я не придавал значения тому, что вы с Щипцовым земляки. А вы, оказывается, еще и приятели.
- Но я ведь никому об этом не говорил, - вздрогнул Матвей. Разговор толком не начался, а уже принял неприятный оборот.
- Мы все знаем. Пора бы уже привыкнуть, - отчетливо проговорил Гриша, и в его тоне послышалось садистское удовольствие.
«Меньше знаешь – крепче спишь», - решил Матвей и не стал задавать лишних вопросов. К тому же, его уже давно подтачивало подозрение, которое, кажется, стало подтверждаться.
- Как со свежестью дела? Слышал, ты бросил.
- Пока рано о чем-то говорить, еще месяца не прошло. Временно на меф спрыгнул, - поморщился Матвей. Первый пик сильной тяги минул, но Матвей знал, что спустя несколько месяцев ремиссии, когда ситуация начнет казаться благополучной, вспыхнет второй пик сильной тяги, который снова сменится благополучием, и омрачать его будут лишь реалистичные сновидения про холодную сталь в хрустнувшем русле вены и алые бутоны контроля, распускающиеся в прозрачной желтизне.
- Переходи на кокос, - хитро подмигнул Гриша одним глазом и довольно загоготал. А потом жестом хлебосольного хозяина подвинул блюдце к Матвею. Конечно, Гриша сегодня был не самым приятным собеседником, однако поправиться не мешало. Хотя бы на сорок минут. Приставив купюру к ноздре, Матвей припал к кокаину, как животное на водопое, и раздалось протяжное шмыганье. Нос наполнился запахом лекарств, который разошелся по горлу прохладным онемением, однако до мозга добрался только ломкий отзвук должного эффекта.
- Это ведь еще не всё, - улыбнувшись, полез в карман Гриша, - у меня для тебя сюрприз есть.
Когда Гриша силой впихнул в его ослабшие пальцы «сюрприз», Матвей явственно ощутил, как у него задрожали ноги. Это была темно-красная ксива с двуглавым орлом, мечом на фоне щита и, конечно же, змеей, обвившей этот самый меч. Раскрыв документ, Матвей увидел фотографию со своим лицом, которое почему-то крепилось к шее с чужим телом, одетым в черный костюм. У Матвея никогда не было такого костюма. Фотография была склеена на удивление хорошо, и Матвей даже выглядел на ней прилично, хоть и не респектабельно.
«Ну конечно, внешний сотрудник», - убедился опечаленный Матвей, прочитав свою фамилию и должность. Ему не очень-то хотелось двигаться вверх по карьерной лестнице. Нынешний доход его устраивал, а большего ему не требовалось. К тому же, чем серьезнее становились обязательства, тем меньше оставалось шансов покинуть структуру, в которой он увязал, как в болоте, хотя бы живым. И врученная Гришей ксива только что свела к нулю часть этих хрупких шансов. Но отказываться от нее было себе дороже.
- Я не подведу, - сдержанно ответил Матвей, чтобы скрыть неуверенную дрожь в голосе, и спрятал ксиву в карман, будто она жгла ему ладонь темно-красным пламенем.
- Если начнешь подводить, то быстро перестанешь. Усек? - хмыкнул Гриша, прищурившись.
- Усек, - промямлил Матвей, потеряв выдержку, и нервно сглотнул. То ли не заметив этого, то ли не придав этому значения, Гриша разлил по стаканам прозрачный джин.
«Куда уж хуже-то? Во что меня втягивают? Впрочем, следовало ожидать. Поручения Асфара Юнусовича хорошими не бывают», - напрягся Матвей, однако взял стакан и втянул ноздрями душистый хвойный аромат. Когда Гриша предлагал кокаин, за этим всегда следовало какое-нибудь поручение, а если он еще и наливал спиртное, то поручение было серьезным.
- Ты когда на баяне играл, замечал возле вокзала барыг на машинах, которые героин продают? – спросил Гриша, положив руку ему на плечо. От такого дружелюбия Матвею стало некомфортно.
- Замечал, - холодно ответил он, полный недобрых предчувствий, - а что?
- А то, что ты теперь будешь еще и хмурым торговать. Утрешь нос казачью, которое с тебя деньги тянуло, - усмехнулся Гриша.
Матвею удалось сохранить кажущееся спокойствие, однако внутри нехорошо екнуло, как бывало в детстве, когда Матвей готовился скатиться на санках с ледяной горки и поддаться неуправляемому ускорению. До него запоздало дошло, что прелюдия с угрозами была не декоративной, а очень даже функциональной. Но один нюанс его все же смущал. Между торговлей стимуляторами и торговлей опиатами пролегала тонкая этическая грань. Заключалась она в характере зависимости, которая в первом случае была психологической, а во втором – физической и, соответственно, кабальной. Прежде не желающий мешать кокаин с алкоголем, Матвей сделал жадный глоток и почти не заметил горечи.
- Я же говорил, что тебе с такой фамилией только опиаты продавать, - продолжал Гриша, не замечая его перекошенного лица, - героиновый барыга Грязев, а? Еще и Германович. Как по мне, это очень забавно.
«Охренеть как забавно», - опустил Матвей угрюмый взгляд. Но вслух спросил:
- А быстрые клиенты?
- С ними тоже работай. Если не будешь справляться, перекинь их на Куртова. Пусть от него будет больше толка, - сказал Гриша. Наконец отстранившись от Матвея, он поставил стакан с джином на лакированный борт и взял в руки кий. Угрожающе нависнув над зеленым сукном, как сгорбившийся стервятник, он стал прицеливаться в белый шар.
Матвей знал, что Куртов, висящий на крючке у ФСКН, никому деньги не отстегивал. Куртов занимался совсем другим, но не менее полезным делом – добывал информацию, и это была одна из причин, по которой Матвей не хотел с ним сближаться. Куртов не раз пытался завязать разговор, однако Матвей держал дистанцию, и отношения их связывали только деловые, но никак не доверительные. Вот только дергаться было бессмысленно. Матвей понимал, что это лишь ускорит погружение в трясину. Просить у Гриши второго курьера определенно не стоило – хватало и одного прирученного стукачка, которого Матвей на всякий случай остерегался.
Гриша ударил по шару, скользнув кием по кисти, и тот остановился лишь после того, как задел два других шара и четыре раза коснулся бортов.
- Быстрых не бросай, просто захватишь еще и медленных, - произнес Гриша, следя за Матвеем краем глаза, - ниша специфическая: тебе или понравится, или сильно не понравится. Зависит от твоего настроя. Посмотрим, как ты будешь справляться. Стрелять умеешь?
- Немного. Я в Офтони из воздушки стрелял, - ответил оробевший Матвей.
- Купи себе какой-нибудь ствол. А то случаются форс-мажоры, - продолжал Гриша, гоняя по сукну белый шар, - у тебя машины пока нет, поэтому послезавтра за тобой заедет Миша. А сегодня освободи двести тысяч и купи сто граммов у Полины. Я пришлю тебе ее контакты.
Миша был не только владельцем авто, но и вооруженным громилой, в прошлом которого была контрактная служба. В общем-то, сейчас он занимался тем же, что и раньше – стрелял в людей за деньги, и ему было даже проще: суммы выросли, а хлопот стало меньше. Каждый день Матвей должен был делиться с ним героиновым заработком. На многое Миша не претендовал, однако доля ему все же полагалась – за потраченный бензин, гипотетические риски и просто чувство защищенности.
- Проще пареной репы, - говорил Гриша, пока Матвей нервно припадал к стакану, - вы с Мишей по сорок минут стоите на каждой точке. Маршрут такой: Болты, Сенная, Апрашка. В хорошие дни по сто граммов уходит.
- А в плохие? – спросил Матвей, стараясь не смотреть на Гришу.
- Сорок-пятьдесят. По четыре тысячи за грамм, - прищурился тот, как сытый домашний котяра, которого все холят и лелеют.
- Дороже, чем меф, - пробормотал озадаченный Матвей.
- Зато все клиенты постоянные. Кстати, с героина будешь дополнительно отстегивать. Пятьсот в месяц.
- С-сколько?.. – невольно вскрикнул Матвей и опять сдавленно замямлил. – Как же я пол-ляма…
- Нормально все будет. Место хорошее, хлебное, - утешающе посмотрел на него Гриша, - делать настоящие деньги лучше на медленных, поверь мне. Сложно не будет. Тем более, ты себя разгрузил. Мутишь что-то с трафаретами, с закладчиками, с дронами. Это правильно. Многие берут количеством, весь день сами бегают, а посредникам не доверяют. Но так только мелочь работает. Чтобы росли доходы, нужно освобождать личное время, а обязанности делегировать другим.
Подойдя к Матвею, он оперся на кий, как на дорожный посох, и продемонстрировал ему экран смартфона, где была открыта фотография. Матвей сразу узнал одного из прежних клиентов, Гошу Ломакина. Его сложно было не запомнить. Ветшающая одежонка, которая уже через год обещала стать нищенской, странным образом сочеталась с золотым обручальным кольцом, давно потерявшим первичный блеск. Он довольно часто покупал амфетамин, и Матвей подозревал, что Ломакин занимается бутором и перепродажей. Но деятельность Ломакина его уже не касалась. Как и обстоятельства его жизни.
- Ты его знаешь? – спросил Гриша, глядя Матвею прямо в глаза.
- Знаю, - тихо сказал Матвей, испугавшись, - это Гоша Ломакин. Он раньше часто со мной связывался, а потом куда-то пропал.
- Что он Гоша Ломакин, мы тоже знаем. Как часто он у тебя закупался?
- Раз в несколько дней. Брал по пять-десять граммов.
- Есть, Грязев, одна личная просьба, о которой никто не должен знать, - строго произнес Гриша, - сообщи мне, когда он снова с тобой свяжется. И отправь координаты, на которые ты его пошлешь. Больше ничего делать не надо.
- Хорошо, - пробормотал Матвей, опустив голову. Взгляд потух и помутнел, утратив живую искру. Пальцы крепко сжали гладкий стакан, жирно скользнув по стеклу.
- На сегодня всё. Ты можешь идти, - с мягкой угрозой сообщил Гриша и указал кивком на дверь.
«Да я и сам прирученный стукачок. Ничем не лучше Куртова», - подавленно заключил Матвей и резким жестом опрокинул стакан, залив горьковатый джин себе в глотку. Мягкое цитрусовое послевкусие, которое понравилось бы ему в любой другой день, но не сегодня, лишь усилило осознание собственной паршивости. Он отчетливо понимал, что сделал что-то не то, и это чувство не желало его покидать. Поставив стакан на место, Матвей резко развернулся и направился к выходу.
- Чего ты опять хмурый? – со смешком спросил Гриша напоследок.
- Имя у меня такое, - мрачно ответил Матвей через плечо, остановившись у двери. Гриша счел это шуткой и захохотал. Под аккомпанемент его нестихающего смеха Матвей выскочил в общий зал, уставленный бильярдными столами, и поспешно, чуть ли не бегом устремился на улицу. Ему хотелось добежать до ближайшей незапертой арки и проблеваться там, вытошнив все съеденное за день, проблеваться до боли во внутренностях, а потом без сознания рухнуть в лужу собственной рвоты и отключиться от происходящего вокруг мира.
Открытая арка нашлась – с галогенной лампой, источающей кровянистый свет, взвизгивающим эхом его торопливых шагов и дряблыми объявлениями на неровных стенах. Проблеваться не получилось. Достав зажигалку и портсигар, который раньше принадлежал ныне мертвой Тусе, Матвей сжал зубами сигарету. Он курил, пока у него не запершило в горле.
За белый, гладкий, похожий на инопланетное насекомое почтовый дрон пришлось отдать две тысячи долларов, но вложение себя оправдало. Больше килограмма он не поднимал, однако Куртов пока не заслужил столько доверия, и Матвей ограничивался сотней граммов, которые дрон увозил в далекое Купчино, а потом прежним маршрутом возвращался обратно. Следить за ходом полета можно было через смартфон, подключенный к выпуклому глазу камеры, в котором отображались медленно ползущая панорама Санкт-Петербурга, похожий на скопление пчелиных сот конгломерат маргинальных общежитий и сонное лицо Куртова, совершенно не подозревающего, что за ним наблюдают. Несмотря на это, он никогда не лгал, хотя Матвей ожидал фальшивых жалоб на то, что дрон прилетел пустой или не прилетел вовсе.
Начиналась первая апрельская суббота, которая обещала одновременно и хлопоты, и долгожданное облегчение. Нужно было навестить Глеба, отдать кокаин молодой, но обеспеченной даме, а уже под вечер встретиться с Гришей, который должен был наконец разъяснить, в чем же заключаются загадочные планы Асфара Юнусовича.
Убрав вернувшийся дрон в шкаф, Матвей разложил по карманам толстовки кухню, включающую в себя шприц, полграмма мефедрона и пустой стеклянный фурик с ваткой, надел темные очки и отправился к метро. Под ногами хмуро чавкал коричневатый снег, перемешанный с грязными лужами и реагентом, а сверху давила раскинувшаяся на все небо мышиная серость.
Глеб снимал однокомнатную, но просторную и светлую квартиру у Чернышевской, в Соляном переулке, где когда-то жил и гулял с няней маленький Пушкин, а теперь обосновались патриоты всех мастей - от умеренной до радикальной. Была немалая доля иронии в том, что оппозиционер Щипцов, активно принимающий участие в резонансном деле политзаключенной Черных, которую арестовали за одиночный пикет, поселился в таком месте. Пока под его окнами проходили собрания пенсионерок из «Отрядов Громова» и пели в благотворительных целях пограничники, Глеб обеспечивал арестованной Черных информационную поддержку в сети, чтобы фокус общественного внимания не смещался с нее как можно дольше. По выходным Глеб ходил в бар «Розы», находящийся этажом ниже, где упивался нефильтрованным крафтовым пивом, которое варили на Васильевском острове, и нередко свидетелем его будущих запоев становился Матвей, который не относился к алкоголю так фанатично, поэтому всегда доставлял заснувшее тело Глеба домой.
Флером политактивизма повеяло сразу же, как только Матвей поднялся из глубин Чернышевской, и его живым концентрированным воплощением стала сухонькая, но бойкая старушка в спортивном костюме – седая, однако с черными, почти жирными ресницами, наверняка заставшая стрельбу по Белому дому и Ельцина на танке. Старушка сновала среди разлагающихся сугробов сквера, поправляя квадратные очки и помахивая бланками с подписями.
- Подписывайтесь против реформы о повышении пенсионного возраста! – донесся до Матвея ее удивительно звонкий голос, и он незамедлительно направился к Литейному, избегая сквера и держась правой стороны улицы. Долгое воздержание от свежести напоминало о себе нервозностью, которая проступала в каждой реакции Матвея на раздражающую обстановку, а одолеваемый жаждой мозг, помнящий про мефедрон, понемногу начинал будоражить нервы, имитируя столь желанную стимуляцию, и это отнюдь не успокаивало.
Соляной переулок тоже не порадовал. Квартира Глеба располагалась в песочно-бежевом доме дореволюционной постройки, но до него еще нужно было дойти. Стараясь не думать про сгустившееся в желудке предвкушение, порождающее легкую дрожь всего тела, Матвей шагал по Соляному, который представлял собой пешеходную зону, окаймленную двумя рядами домов. Сегодня здесь происходило то же, что и обычно: краем глаза Матвей заметил двух пограничников в униформе цвета хаки. Один из них сидел на раскладном стульчике и порывисто растягивал мехи баяна, а второй стоял перед микрофоном, сложив руки за спиной и печально глядя в весеннюю даль. У ног пограничника-баяниста стоял тяжелый ящик. «Пожертвования семьям солдат, погибших при службе на границе нашей родины», - сообщал лист, приклеенный к ящику широкими лентами скотча. Пограничник, стоящий у микрофона, минорно тянул слова патриотической песни:
- Вытри слезы, отдохни немнога-а, я русская дорога-а…
Матвей ощутил в носоглотке фантомную мефедроновую горечь и ускорил шаг. Когда в поле зрения возник знакомый вход в парадную - тяжелая деревянная дверь с кодовым замком, обрамленная тяжелым каменным крыльцом и пятнистыми от времени пилястрами, Матвей успел заметить пенсионерок, которые расставляли напротив бара стулья и голопроектор, однако значения этому не придал. Содрогания всего тела, которые он безуспешно пытался скрыть, землисто-бледное лицо и взгляд, в котором едва брезжила осознанность, говорили лишь о мономанической концентрации на единственно важной цели. Влажные пальцы то и дело потирали курносый нос, а зажатое нервозностью тело не могло стряхнуть с себя угловатой позы.
Парадная с двухвековой историей была темной, но ухоженной: гранитные ступени, об которые можно было, поскользнувшись, разбить голову, окрашенные светло-персиковым колером стены и цветочная лепнина на потолке. Глеб жил на втором этаже, где сейчас душно пахло олифой, и окна его квартиры выходили в переулок. Когда Глеб открыл дверь, Матвей не очень-то церемонно сунул ему в ладонь зиплок, где лежали экстази, шесть белых вишен, и кинулся в широкий, зал, совмещенный с кухней.
- Глеб, где я могу вмазаться, Глеб? У тебя есть вода? Кипяченая? – выпаливал Матвей вопрос за вопросом, пересекая зал быстрыми шагами. Он подбитой птицей метался между желтыми стенами, на которых застыли радужные блики оконных стекол. На каменистом дне оранжевого аквариума неподвижно лежала бледная и раздутая, как утопленник, шпорцевая лягушка, а над диваном с кофейным столиком висела картина маслом, напоминающая белый шум телеэкрана.
- Вообще-то я ширево не приветствую и никому в своей квартире ширяться не разрешаю. Но ты мой давний друг и недавно обретенный драгдилер, так что добро пожаловать, - с легкой улыбкой ответил Глеб и, не таясь, шмыгнул. Глаза его блестели, как влажные стеклянные бусины.
Радостно рухнув на диван, Матвей издал хриплый смешок и разложил на прозрачной столешнице кухню. Темные очки, о которых он совсем забыл, сползли на кончик носа, угрожая упасть прямо на скудный набор инструментов и сделать приготовления Матвея бессмысленными. Глеб налил воду из графина в стакан, поставил его перед Матвеем и участливо снял темные очки с его носа. Высокий стакан был полон почти до краев. Не заметив вмешательства Глеба, который сел в кресло, что стояло напротив, Матвей раскрыл зиплок и высыпал в фурик полграмма мефедрона. Он набрал в шприц воду и медленно впрыснул ее в стеклянное горлышко. Тонкая струя, вырывающаяся из канюли, разрушала целостность серовато-белой кристаллической горстки, скатываясь по ней мелкими каплями, поверхности которых липко покрывались порошком. Примерно с минуту Матвей помешивал раствор пляшущей в руке иглой, после чего кинул в получившуюся желтую муть ватку. Проходя через импровизированный фильтр, в шприц проникал едва желтоватый, даже немного золотящийся готовый раствор.
- Да, хорошо быть поставщиком. Все тебе рады… - задумчиво протянул Глеб, закинув ногу на ногу. Его голос звучал несколько грубовато, а в улыбке проскальзывала непонятная насмешливость. Глеб смотрел на Матвея с любопытством юнната, который поймал жутко выглядящее, но крайне занятное насекомое, однако Матвей не заметил и этого.
- Ага, сплошные преимущества, - отстраненно ответил он. Сейчас ему было совсем не до бесед. Костлявые кисти окончательно поддались дрожи нервного напряжения, слившегося с предвкушением, которое не смазывало приход, а лишь подчеркивало его благостную ноту, придавая ей дополнительную прелесть. Закатав левую штанину, Матвей сделал несколько глубоких вдохов, чтобы унять трясущиеся руки, и без особого пиетета воткнул иглу в наиболее заметную вену, которая змеей уходила куда-то под коленку. Вспыхнул алым контроль, и Матвей надавил на пластиковый поршень.
- Ох, ебать… - протяжно простонал он сдавленно-нежным от прихода голосом и откинулся в мягкую нору дивана. Тонкие светлые волосы рассыпались по лбу, сжались зубы, в горле родилась горячая волна, которая эйфорией растеклась по всему телу, заменив прежний нервный тремор. Мир вокруг золотился, его цвета теплились контрастом, контуры предметов размывались шлейфом, похожим на тягучее жидкое золото, гул бытовых приборов и уличный говор налились объемом, который сочился тяжелым эхом. Но экстаз первых минут неизбежно схлынул, челюсти разжались, и зубы стали отбивать мелкую чечетку.
Пока Матвей валялся, откинувшись на податливую спинку дивана, и приходил в себя, Глеб принес из спальни засаленную колоду карт, умелым движением перетасовал их и разложил на кофейном столике, отодвинув кухню Матвея в сторону.
«Не свежатина, но тоже хорошо», - умиротворенно подумал Матвей, разминая плечи и хрустя суставами пальцев. Он вернул закатанную штанину на место, скрыв свежую точку укола, из которой вниз по ноге спускалась кровяная дорожка – уже подсыхающая и теряющая красноту.
- Не ожидал, что ты станешь любителем стимуляторов, - произнес Глеб, подняв с пола опустевший шприц и положив его на край столика.
- Я уже давно профессионал, - с улыбкой ответил Матвей, - стадию любителя я прошел в конце двадцать девятого года.
Перед глазами мелькали карты, сливаясь в многоликий калейдоскоп придворной знати черно-красных мастей, Глеб постоянно выигрывал, не забывая рассуждать о гражданских свободах. А Матвея, который не ширялся целую неделю, немного повело. Когда он закрывал глаза, черное пространство внутри головы незримо пульсировало, а время переставало поддаваться исчислению. Через открытую форточку проникал шелест чужих разговоров, которые вели сменяющие друг друга прохожие. Глеб несколько раз с загадочным видом уходил в спальню, где ритмично стучал картой по стеклу и приглушенно шмыгал. Из спальни он выходил основательно разогнанным.
- Город трех революций. Не удивлюсь, если всё снова начнется здесь, - заявил он, вернувшись после третьей заправки. Матвей, которого уже отпустило, мрачно посмотрел на него:
- Я бы на твоем месте был осторожнее со словами. Нанюхает тебя какой-нибудь эшник, запишет твою агитацию, а потом дело сошьет.
- Будет тебе, Грязев. Как будто я не знаю, что ты красный, как вареный рак.
Под стимуляторами Глеб делался честным, бесстрашным и туповатым.
- Почему ты так считаешь? – осторожно поинтересовался Матвей, поглаживая кончиками пальцев жирные от времени и чужих рук карты.
- Почти все дилеры сейчас красные.
- Да, к сожалению, - нахмурился Матвей. Глеб затронул не самую приятную тему и, кажется, пока этого не понял. Вместо того, чтобы перевести разговор на что-нибудь менее саднящее или хотя бы снова рассказать, как во время одного из алкопохождений он вдруг осознал себя в неизвестно чьих и немного окровавленных спортивных штанах, Глеб посмотрел на Матвея с неприкрытым удивлением.
- Я не хотел оказываться в таком положении, - пожал плечами Матвей, - просто так сложилось.
- Насколько возможно покинуть эту структуру? – спросил Глеб, впившись в него пристальным, но при этом сострадательным и даже немного заговорщицким взглядом.
- Почти невозможно.
- И что может тебе помочь? – решительно допытывался Глеб.
- Луковка, - саркастически усмехнулся Матвей, - не грузи меня, ладно?
- ...«Мертвая рука» существует, - раздался в переулке усиленный динамиками голос Громова, - ответный удар неизбежен. Мы, жертвы и мученики, попадем в православный рай, а агрессоры просто сдохнут в ядерном огне, потому что не успеют покаяться.
От неожиданности Матвей вздрогнул. Выглянув в окно, он увидел двухмерную голографическую проекцию, пронзающую воздух: Громова, одетого в строгий костюм с галстуком, и блестящие за его спиной кремлевские звезды. Из-за крошечных капель слепого дождя проекцию дергало мелкой рябью, и президент покрывался оспинами, которые придавали ему совсем уж старческий вид. Его интонация была вкрадчиво-агрессивной, как у пахана. На пластиковых стульях, расставленных в три ряда, сидели пенсионерки в дождевиках, и на их предплечьях угадывались фиолетовые нарукавные повязки с российским триколором. Пенсионерки смотрели запись недавнего президентского обращения.
«Старый хрен совсем кукухой поехал», - брезгливо подумал Матвей и закрыл форточку, чтобы не слышать нездорово-дементную речь.
- Да уж, шесть лет назад ты от тяжелых вариантов отказывался. Я тогда еле-еле тебя на тропик уговорил. Не думал, что когда-нибудь увижу, как ты вмазываешься. Тетя Настя утверждала, что я сопьюсь, а у тебя жизнь сложится неплохо. Особенно если ты из Офтони уедешь, - снова раздался торопливый голос Глеба. Слова вязли в сжатых зубах, наползая друг на друга. Матвей недовольно посмотрел на него. Не замечая его негативной реакции, Глеб продолжал демонстрировать развитое красноречие:
- А как все сложилось на самом деле? Сначала ты, никого не предупредив, куда-то уезжаешь, а спустя два года я встречаю тебя в Питере. Ты тощий и бледный, ширяешься уже даже не в центряк, толкаешь наркоту…
- В чем-то она оказалась права. Живу я неплохо, - перебил его Матвей, пока Глеб не ушел слишком далеко от начальной мысли.
- Ты никогда не считал себя катализатором чужой зависимости? – задал Глеб совсем уж запредельный вопрос, немного при этом нахмурившись. Матвей криво улыбнулся:
- Разве я сторож брату моему? Глеб, хватит уже меня грузить. Ко мне домой, если ты не в курсе, только малая часть покупателей ходит, а сам я вообще ни к кому не хожу. Ты понял намек? Или мне объяснить?
- Да ладно, я же просто спросил, - добродушно улыбнулся Глеб. Степень его глупости росла с каждой снюханной дорогой.
Закрывшись в туалете, Матвей сел на опущенную крышку унитаза и вытащил из кармана серебряный портсигар. Блекло-розовые обои в мелкую звездочку достигали стыка с потолком, где их уродовали пузырящиеся вздутия и уродливые кляксы давних затоплений, виновниками которых были соседи сверху. Линолеум был уложен неровно, а там, где вдоль стен вились грубо окрашенные трубы, даже не был прибит к полу строительным пистолетом. Подцепив линолеум за край, можно было рассмотреть бугристый пол и скопления пыли, в которой виднелись трупики пауков-сенокосцев.
На бачке унитаза стояла тяжелая стеклянная пепельница, в пупырчатой поверхности которой сверкали тусклые микроскопические копии потолочной лампочки. Хозяева разрешали курить только в туалете, потому что это было единственное в квартире место, оборудованное вытяжкой. Глеб смолил исключительно там и гостей гнал туда же – даже тех, кто любил курить на приходе. В особенно людные выходные туалет постоянно был занят.
Поставив пепельницу на линолеум, прожженный мелкими сигаретными искрами, Матвей закурил. Когда половина сигареты истлела, он нашел в списке контактов нужный номер и поднес телефон к уху.
- Рада тебя слышать, Герочка, - ответил ему юный, однако несколько строгий женский голос.
- Лиза, ты можешь минут через пятнадцать подъехать к Соляному переулку? Лучше со стороны Гангутской, - предложил Матвей, пропустив формально-вежливое приветствие. Находиться в квартире Глеба еще два часа ему решительно не хотелось. Лиза довольно хмыкнула:
- Надо же, обычно ты сдвигаешь время вперед. Мы договаривались на шесть, а сейчас только четыре.
- Да можешь ты или нет? – не выдержал Матвей, сорвавшись на сдавленное шипение.
- Естественно, могу. Главное, дорогой мой Герочка, чтобы ты дошел до Гангутской.
Матвей не опоздал. Он даже пришел немного раньше. Серебристый миникупер Лизы был припаркован у дороги, в тени ветшающего блекло-розового дома – типичной для Центрального района двухвековой постройки. Окна первого этажа были закрыты складчатыми железными листами, а над входом в продуктовый магазин красовались старомодные фонари в черных резных коконах. Шуршало на ветру цветастое объявление, отклеивающееся от мятой водосточной трубы. В таком окружении блестящий серебром миникупер терял свой лоск и становился линялым, как и большинство предметов вокруг.
Еще издалека Матвей заметил открытое окно, за которым виднелись руль и разозленно-довольная Лиза. В ее довольстве было нечто плотоядное и давно нарывающее. Темные волосы сливались с меховым воротником кожаного пальто, тонкие пальцы с агрессивным темным маникюром барабанили по рулю, а пухлые черные губы, переливающиеся мерцанием бензина, отрывисто шевелились, насмешливо обнажая белый оскал.
- Да вся Россия уже знает, что ты любишь помладше, - торжествующе цедила она в смартфон, - готовься к судам, боров. Под шконку пойдешь за растление несовершеннолетней.
Фотомодели Лизе Филлипенко, оказавшейся в донельзя достоевской ситуации, биологически было восемнадцать, а морально – все сорок. Яркая, даже немного вульгарная внешность была то ли результатом раннего взросления, форсированного сожителем-педофилом, менеджером «Лукойла», то ли отпечатком богемной профессии. Это была не первая фотомодель, которой Матвей приходился дилером, и все они имели очень даже уловимое сходство – специфическую нездоровую худобу, которую законопослушный социум считал образцом для подражания и пытался достичь его, сидя на изнуряющих диетах. Хотя был способ куда более быстрый и очевидный. При первой же встрече Матвею бросились в глаза острые, как нож, кокаиновые скулы, которые выдавали в Лизе его потенциальную постоянную клиентку. Последующие встречи доказали, что он не ошибся.
- И нахер мне твои деньги?– продолжала Лиза, взвинчивая тон и не замечая подошедшего Матвея. – Деньги у меня и так есть. Я хочу, чтобы тебя, пидора гнойного, на зоне драли. За мое поруганное детство. Да, блядь, вот так. По-другому не хочу.
Судя по резкой интонации и ядовитости обвинений, она разговаривала с формально сорокалетним мужчиной, который пять лет назад ее развратил, а потом четыре года с ней сожительствовал, приучая к кокаину и алкоголю. Когда восемнадцатилетняя Лиза сбежала от него со скандалом и публичным заявлением, что он любит распускать руки, тот выдвинул ответную претензию, которая заключалась в следующем: кокаинистка и алкоголичка Лиза намеренно изводила его истериками, вытекающими из отходняков. Почему-то позабыв, что до встречи с ним, против которой родители Лизы ничуть не возражали, она не знала ни алкоголя, ни кокаина.
Матвей сухо кашлянул, привлекая внимание, и Лиза наконец повернулась к нему, просияв при этом искренним восторгом и отразившись в стеклах его темных очков. Матвей протянул ей ладонь, где лежал маленький зиплок с двумя граммами кокаина, и Лиза быстро подцепила его длинными темными ногтями, которые слегка оцарапали прохладную кожу.
- Еще встретимся, Герочка, - косо улыбнулась она, а потом вернулась к уничижительной беседе, резко сменив милость на гнев, - да не с тобой, боров. С тобой вертухаи встретятся.
Наблюдать за этим было немного горько, и Матвей побрел, хлюпко шаркая кроссовками, в сторону Фурштатской. На Фурштатской находилась бильярдная «Евпатий Коловрат», принадлежащая Грише, который купил ее совсем недавно и теперь все встречи проводил там.
В отделенной от общего зала просторной комнате, декорированной белым кафелем и зелеными веерными пальмами, стоял по центру стол без луз, обтянутый зеленым сукном. В трех крапчатых шарах – белом, желтом и красном – тускло отражались продолговатые потолочные лампы, а на стене, чуть выше зубцов зелени, светящимися салатовыми трубками было выложено название бильярдной. Когда Матвей открыл дверь комнаты, Гриша усердно натирал кончик кия меловым бруском. На широком лакированном борту стояли прямоугольная светло-синяя бутылка джина «Bombay Sapphire», два низких стакана, один из которых был на четверть полон, и черное блюдце. На нем болезненно белели начерченные дороги кокаина, тут же лежали кредитная карта со скрученной в трубочку купюрой.
Заметив Матвея, Гриша положил кий на сукно и улыбнулся:
- А вот и ты. Проходи, не стесняйся. Все-таки не чужие люди.
- Привет, - скупо ответил Матвей и подошел к бильярдному столу. Обаятельная маска, которую Гриша старательно удерживал, несколько диссонировала с мелкими движениями лица, в которых проскальзывала агрессия, и улыбкой, похожей на оскал. Либо у Гриши начинались отхода, либо он был настроен серьезно. Судя по семи готовым к употреблению дорогам, отхода должны были наступить нескоро. Матвей нахмурился.
Опорожнив стакан и снюхав дорогу пожирнее, Гриша потер руки и внимательно посмотрел на него:
- Почему-то раньше я не придавал значения тому, что вы с Щипцовым земляки. А вы, оказывается, еще и приятели.
- Но я ведь никому об этом не говорил, - вздрогнул Матвей. Разговор толком не начался, а уже принял неприятный оборот.
- Мы все знаем. Пора бы уже привыкнуть, - отчетливо проговорил Гриша, и в его тоне послышалось садистское удовольствие.
«Меньше знаешь – крепче спишь», - решил Матвей и не стал задавать лишних вопросов. К тому же, его уже давно подтачивало подозрение, которое, кажется, стало подтверждаться.
- Как со свежестью дела? Слышал, ты бросил.
- Пока рано о чем-то говорить, еще месяца не прошло. Временно на меф спрыгнул, - поморщился Матвей. Первый пик сильной тяги минул, но Матвей знал, что спустя несколько месяцев ремиссии, когда ситуация начнет казаться благополучной, вспыхнет второй пик сильной тяги, который снова сменится благополучием, и омрачать его будут лишь реалистичные сновидения про холодную сталь в хрустнувшем русле вены и алые бутоны контроля, распускающиеся в прозрачной желтизне.
- Переходи на кокос, - хитро подмигнул Гриша одним глазом и довольно загоготал. А потом жестом хлебосольного хозяина подвинул блюдце к Матвею. Конечно, Гриша сегодня был не самым приятным собеседником, однако поправиться не мешало. Хотя бы на сорок минут. Приставив купюру к ноздре, Матвей припал к кокаину, как животное на водопое, и раздалось протяжное шмыганье. Нос наполнился запахом лекарств, который разошелся по горлу прохладным онемением, однако до мозга добрался только ломкий отзвук должного эффекта.
- Это ведь еще не всё, - улыбнувшись, полез в карман Гриша, - у меня для тебя сюрприз есть.
Когда Гриша силой впихнул в его ослабшие пальцы «сюрприз», Матвей явственно ощутил, как у него задрожали ноги. Это была темно-красная ксива с двуглавым орлом, мечом на фоне щита и, конечно же, змеей, обвившей этот самый меч. Раскрыв документ, Матвей увидел фотографию со своим лицом, которое почему-то крепилось к шее с чужим телом, одетым в черный костюм. У Матвея никогда не было такого костюма. Фотография была склеена на удивление хорошо, и Матвей даже выглядел на ней прилично, хоть и не респектабельно.
«Ну конечно, внешний сотрудник», - убедился опечаленный Матвей, прочитав свою фамилию и должность. Ему не очень-то хотелось двигаться вверх по карьерной лестнице. Нынешний доход его устраивал, а большего ему не требовалось. К тому же, чем серьезнее становились обязательства, тем меньше оставалось шансов покинуть структуру, в которой он увязал, как в болоте, хотя бы живым. И врученная Гришей ксива только что свела к нулю часть этих хрупких шансов. Но отказываться от нее было себе дороже.
- Я не подведу, - сдержанно ответил Матвей, чтобы скрыть неуверенную дрожь в голосе, и спрятал ксиву в карман, будто она жгла ему ладонь темно-красным пламенем.
- Если начнешь подводить, то быстро перестанешь. Усек? - хмыкнул Гриша, прищурившись.
- Усек, - промямлил Матвей, потеряв выдержку, и нервно сглотнул. То ли не заметив этого, то ли не придав этому значения, Гриша разлил по стаканам прозрачный джин.
«Куда уж хуже-то? Во что меня втягивают? Впрочем, следовало ожидать. Поручения Асфара Юнусовича хорошими не бывают», - напрягся Матвей, однако взял стакан и втянул ноздрями душистый хвойный аромат. Когда Гриша предлагал кокаин, за этим всегда следовало какое-нибудь поручение, а если он еще и наливал спиртное, то поручение было серьезным.
- Ты когда на баяне играл, замечал возле вокзала барыг на машинах, которые героин продают? – спросил Гриша, положив руку ему на плечо. От такого дружелюбия Матвею стало некомфортно.
- Замечал, - холодно ответил он, полный недобрых предчувствий, - а что?
- А то, что ты теперь будешь еще и хмурым торговать. Утрешь нос казачью, которое с тебя деньги тянуло, - усмехнулся Гриша.
Матвею удалось сохранить кажущееся спокойствие, однако внутри нехорошо екнуло, как бывало в детстве, когда Матвей готовился скатиться на санках с ледяной горки и поддаться неуправляемому ускорению. До него запоздало дошло, что прелюдия с угрозами была не декоративной, а очень даже функциональной. Но один нюанс его все же смущал. Между торговлей стимуляторами и торговлей опиатами пролегала тонкая этическая грань. Заключалась она в характере зависимости, которая в первом случае была психологической, а во втором – физической и, соответственно, кабальной. Прежде не желающий мешать кокаин с алкоголем, Матвей сделал жадный глоток и почти не заметил горечи.
- Я же говорил, что тебе с такой фамилией только опиаты продавать, - продолжал Гриша, не замечая его перекошенного лица, - героиновый барыга Грязев, а? Еще и Германович. Как по мне, это очень забавно.
«Охренеть как забавно», - опустил Матвей угрюмый взгляд. Но вслух спросил:
- А быстрые клиенты?
- С ними тоже работай. Если не будешь справляться, перекинь их на Куртова. Пусть от него будет больше толка, - сказал Гриша. Наконец отстранившись от Матвея, он поставил стакан с джином на лакированный борт и взял в руки кий. Угрожающе нависнув над зеленым сукном, как сгорбившийся стервятник, он стал прицеливаться в белый шар.
Матвей знал, что Куртов, висящий на крючке у ФСКН, никому деньги не отстегивал. Куртов занимался совсем другим, но не менее полезным делом – добывал информацию, и это была одна из причин, по которой Матвей не хотел с ним сближаться. Куртов не раз пытался завязать разговор, однако Матвей держал дистанцию, и отношения их связывали только деловые, но никак не доверительные. Вот только дергаться было бессмысленно. Матвей понимал, что это лишь ускорит погружение в трясину. Просить у Гриши второго курьера определенно не стоило – хватало и одного прирученного стукачка, которого Матвей на всякий случай остерегался.
Гриша ударил по шару, скользнув кием по кисти, и тот остановился лишь после того, как задел два других шара и четыре раза коснулся бортов.
- Быстрых не бросай, просто захватишь еще и медленных, - произнес Гриша, следя за Матвеем краем глаза, - ниша специфическая: тебе или понравится, или сильно не понравится. Зависит от твоего настроя. Посмотрим, как ты будешь справляться. Стрелять умеешь?
- Немного. Я в Офтони из воздушки стрелял, - ответил оробевший Матвей.
- Купи себе какой-нибудь ствол. А то случаются форс-мажоры, - продолжал Гриша, гоняя по сукну белый шар, - у тебя машины пока нет, поэтому послезавтра за тобой заедет Миша. А сегодня освободи двести тысяч и купи сто граммов у Полины. Я пришлю тебе ее контакты.
Миша был не только владельцем авто, но и вооруженным громилой, в прошлом которого была контрактная служба. В общем-то, сейчас он занимался тем же, что и раньше – стрелял в людей за деньги, и ему было даже проще: суммы выросли, а хлопот стало меньше. Каждый день Матвей должен был делиться с ним героиновым заработком. На многое Миша не претендовал, однако доля ему все же полагалась – за потраченный бензин, гипотетические риски и просто чувство защищенности.
- Проще пареной репы, - говорил Гриша, пока Матвей нервно припадал к стакану, - вы с Мишей по сорок минут стоите на каждой точке. Маршрут такой: Болты, Сенная, Апрашка. В хорошие дни по сто граммов уходит.
- А в плохие? – спросил Матвей, стараясь не смотреть на Гришу.
- Сорок-пятьдесят. По четыре тысячи за грамм, - прищурился тот, как сытый домашний котяра, которого все холят и лелеют.
- Дороже, чем меф, - пробормотал озадаченный Матвей.
- Зато все клиенты постоянные. Кстати, с героина будешь дополнительно отстегивать. Пятьсот в месяц.
- С-сколько?.. – невольно вскрикнул Матвей и опять сдавленно замямлил. – Как же я пол-ляма…
- Нормально все будет. Место хорошее, хлебное, - утешающе посмотрел на него Гриша, - делать настоящие деньги лучше на медленных, поверь мне. Сложно не будет. Тем более, ты себя разгрузил. Мутишь что-то с трафаретами, с закладчиками, с дронами. Это правильно. Многие берут количеством, весь день сами бегают, а посредникам не доверяют. Но так только мелочь работает. Чтобы росли доходы, нужно освобождать личное время, а обязанности делегировать другим.
Подойдя к Матвею, он оперся на кий, как на дорожный посох, и продемонстрировал ему экран смартфона, где была открыта фотография. Матвей сразу узнал одного из прежних клиентов, Гошу Ломакина. Его сложно было не запомнить. Ветшающая одежонка, которая уже через год обещала стать нищенской, странным образом сочеталась с золотым обручальным кольцом, давно потерявшим первичный блеск. Он довольно часто покупал амфетамин, и Матвей подозревал, что Ломакин занимается бутором и перепродажей. Но деятельность Ломакина его уже не касалась. Как и обстоятельства его жизни.
- Ты его знаешь? – спросил Гриша, глядя Матвею прямо в глаза.
- Знаю, - тихо сказал Матвей, испугавшись, - это Гоша Ломакин. Он раньше часто со мной связывался, а потом куда-то пропал.
- Что он Гоша Ломакин, мы тоже знаем. Как часто он у тебя закупался?
- Раз в несколько дней. Брал по пять-десять граммов.
- Есть, Грязев, одна личная просьба, о которой никто не должен знать, - строго произнес Гриша, - сообщи мне, когда он снова с тобой свяжется. И отправь координаты, на которые ты его пошлешь. Больше ничего делать не надо.
- Хорошо, - пробормотал Матвей, опустив голову. Взгляд потух и помутнел, утратив живую искру. Пальцы крепко сжали гладкий стакан, жирно скользнув по стеклу.
- На сегодня всё. Ты можешь идти, - с мягкой угрозой сообщил Гриша и указал кивком на дверь.
«Да я и сам прирученный стукачок. Ничем не лучше Куртова», - подавленно заключил Матвей и резким жестом опрокинул стакан, залив горьковатый джин себе в глотку. Мягкое цитрусовое послевкусие, которое понравилось бы ему в любой другой день, но не сегодня, лишь усилило осознание собственной паршивости. Он отчетливо понимал, что сделал что-то не то, и это чувство не желало его покидать. Поставив стакан на место, Матвей резко развернулся и направился к выходу.
- Чего ты опять хмурый? – со смешком спросил Гриша напоследок.
- Имя у меня такое, - мрачно ответил Матвей через плечо, остановившись у двери. Гриша счел это шуткой и захохотал. Под аккомпанемент его нестихающего смеха Матвей выскочил в общий зал, уставленный бильярдными столами, и поспешно, чуть ли не бегом устремился на улицу. Ему хотелось добежать до ближайшей незапертой арки и проблеваться там, вытошнив все съеденное за день, проблеваться до боли во внутренностях, а потом без сознания рухнуть в лужу собственной рвоты и отключиться от происходящего вокруг мира.
Открытая арка нашлась – с галогенной лампой, источающей кровянистый свет, взвизгивающим эхом его торопливых шагов и дряблыми объявлениями на неровных стенах. Проблеваться не получилось. Достав зажигалку и портсигар, который раньше принадлежал ныне мертвой Тусе, Матвей сжал зубами сигарету. Он курил, пока у него не запершило в горле.
☸
Медленно подступал синеющий вечер, витрины Центрального района уже начинали искриться, и Матвей шел сквозь темнеющую петербургскую синь, словно деревянный, слабо вслушиваясь в гудящие кругом голоса. Центр был подозрительно оживленным, и Матвей не сразу заподозрил неладное. Очнувшись от раздумий, он вдруг застыл возле тикающего светофора и наконец разглядел у перекрестка черный, как застывающая смола, автозак, возле которого без движения стояли двадцать омоновцев. Их сходство было таким механическим, что Матвей невольно поежился. Омоновцы повторяли друг друга черной униформой без знаков опознавания, черными шлемами с зеркальным забралом, которые делали их безликими, и резиновыми дубинками. Они напоминали ядовитых муравьев, закованных в крепкий панцирь.
Мимо торопливо пробежал казак в зеленом кафтане. Он задел Матвея плечом, но не заметил этого и скрылся в толпе, маяча уменьшающимся крестом кубанки. В руке у него подрагивала нагайка, свернутая петлей.
«Да ла-адно…» - раздраженно подумал Матвей, вспомнив бесконечный трёп ускоренного Глеба, который помимо бытовых пустяков упоминал еще и несанкционированный митинг против пенсионной реформы. Митинг должен был состояться сегодня, и маршрут его начинался на улице Восстания. Именно по этой улице Матвей шел последние десять минут. Он припомнил, что черные автозаки стояли на каждом перекрестке, а в толпе время от времени мелькали казачьи кафтаны, однако Матвей, подавленный своим безвыходным положением, не придал этому значения.
Конечно, у него не было при себе ничего запрещенного. Он даже был почти трезвым и в грядущем митинге участия принимать не собирался, однако рисковать не стоило: вряд ли слуги режима будут разбираться, намеренно ли он сюда пришел. Возможно, именно в случае нелепого ареста и пригодилась бы ксива сотрудника наркоконтроля, но Матвею не хотелось несколько часов подряд доказывать, что он не оппозиционер и вообще вне политики.
Свернув в Озерной переулок, он спустился в первое попавшееся заведение. В подвальном помещении располагалась кальянная. В ней вполне можно было переждать митинг и избежать унизительной поездки в ближайшее отделение полиции.
Полулежа на низком диване с пестрыми узорчатыми подушками, Матвей собирался с силами, которые постоянно брал в долг у самого себя, истощая их внутренний запас, и его ленивый взгляд скользил по полумраку зала, где рядами стояли низкие диваны, больше похожие на топчаны, и такие же низкие столики. Заметив в дальнем углу взмах руки, явно адресованный ему, Матвей нехотя приподнял голову и узнал Александру Сергеевну. Она приветливо улыбалась и молча махала ему суховатой пигментной рукой. Натужно улыбнувшись в ответ, Матвей кивнул и вернулся в состояние полутранса.
Александра Сергеевна была не одна. За столиком, на котором уже стояли пузатый желтый кальян и две кружки пива, сидела еще и корпулентная женщина лет сорока пяти. Пухловатые руки лежали на пышном подоле красного в горох платья, а изящно склоненная голова с завивающимися локонами темных волос смотрела на Александру Сергеевну. Когда Матвей уже решил, что это то ли подруга, то ли сестра, женщина в платье сделала совсем не дружеский и даже не родственный жест – положила руку на колено Александры Сергеевны, обтянутое брючной тканью. Матвей вспомнил ее недавние рассуждения про Веймарскую республику, ЛГБТ и цензуру, и ему наконец-то все стало ясно.
Прикрыв глаза, он откинул голову и немного задремал. Разбудили его через десять минут. Принесли том-ям, пуэр и кальян, мерцающий гладкими стеклянными боками и оранжевыми кубиками углей. Матвей смотрел на сочный бледно-оранжевый бульон, в котором виднелись жирные очертания вареных креветок, однако аппетит пропал напрочь. Матвею нравилась возможность есть все, что заблагорассудится, не глядя на прейскурант. Морепродукты и китайские чаи он особенно любил, и ему было комфортно жить, зная, что он может позволить их себе в любой момент – не экономя деньги, не откладывая мысль на завтра, на следующую неделю, на следующий аванс…
Открывшаяся героиновая перспектива смазала привычное гедонистическое удовольствие, замарав его серым посмертным пеплом. Если в мире и существовала грань, которую Матвей переступать не хотел, то это были опиатные дела. Частично из-за того, что именно опиатами занимался его отец, частично - из-за сомнительной добровольности употребления.
Когда он вернулся домой, двор произвел на него удручающее впечатление. Гражданка и днем выглядела не очень жизнеутверждающе, а ближе к ночи это свойство усиливалось. На сером асфальте отсвечивали фонарным светом комковатый грязный снег и исколотая каблуками наледь. Панельная стена с ровными рядами окон уходила в низкое бетонно-серое небо, подпирая его, как кряжистый Атлант.
Матвея уже поджидали люди, которые вписывались в ландшафт района как нельзя лучше. Возле черно-белых меандров топтались по промокшим окуркам Соня в рыжем парике, который резал ее подбородок двумя острыми завитками, смуглый башкир с монголоидными глазами блоковского скифа и напряженный дембель, похожий на него чертами лица.
Матвей машинально отметил, что лицо Сони покрыто специфической гепатитной желтизной, которую не могла скрыть даже косметика. На пальцах, которые сжимали воняющую ментолом сигарету, искрились два броских кольца, имитирующих драгоценные камни, а веки чернели над глазами угловатыми крыльями. Было очень удивительно, что при своем образе жизни Соня подхватила гепатит только сейчас. Она была не первым срезанным колосом в окружении Матвея. Его знакомых неумолимо выкашивало: кто ложился в больничную койку, кто в гроб, кто на нары. Хотя последнее можно было считать шансом на выздоровление. Ладе не повезло сильнее всех, потому что она стала носительницей ВИЧ и теперь сама избегала прежних знакомств.
Башкира, одетого в черную аляску, спортивные штаны и замызганные кроссовки, звали Алишер. Алишер был хрестоматийным мулечником с нестабильной психикой. Как-то раз он даже пытался всучить Матвею окровавленные золотые серьги, которые хотел обменять на мефедрон. Серьги Матвей не взял и отправил Алишера в ближайший ломбард, а тот умудрился выпросить у Матвея влажную салфетку, чтобы смыть с серег кровь и сдать их в ломбард чистыми. Он испытывал к Матвею амбивалентные чувства, какие и должен был испытывать к барыге: ненавидел и в сердцах называл мразью, но при этом искренне радовался, когда заставал Матвея дома, и так же искренне его благодарил. Но сволочью, которая его травит, считать не переставал. Иногда Алишер рассказывал про брата, служащего на Дальнем Востоке. Видимо, третьим был именно он. Под расстегнутым воротником кителя виднелась тельняшка, на бритом черепе сидел синий берет с красной звездой, а грудь пересекал пышный белый аксельбант.
Заметив Матвея, визиторы впились в него то ли радостными, то ли злобными взглядами. Стоять перед людьми, которые не желали лечь рядом с ним, как лань подле льва, было не очень-то комфортно, и Матвей нащупал в кармане телескопическую дубинку. Слегка откинув голову, он превентивно огрызнулся, ощущая себя в полном праве это сделать:
- Вы бы еще в очередь встали. Чего вы тут забыли?
- Угадай, бля. Меф я тут забыла, - кинув окурок на асфальт, Соня шаркнула по нему сапогом.
- Так, ты, - вспылил Матвей и ткнул ее пальцем в грудь, - пока не вернешь долг, хер я тебе что-то продам. Ясно?
- Пиздец ты жадный!
- В смысле, блядь, жадный? – прищурился Матвей, уставившись на нее. Алишер, как и заметно нервничающий брат, молчал, однако в его молчании чувствовались вежливость и такт. Матвей резко повернулся к ним.
- Вам чего надо?
- Так это… Нам бы мефа взять, грамма два, три… - смущенно забормотал Алишер, комкая в кулаке мятые и грязные до серости пятитысячные купюры.
- Эй! Мне ты всегда давал в долг! Ты совсем охренел? Как мне работать без мефа? – принялась орать Соня. Она была крайне обижена отказом и решила довести дело до конца - даже ценой скандала.
- С тоской на лице, - съязвил Матвей, устремив на нее решительный взгляд, а потом перевел его на братьев, - можете уходить, у меня ничего нет.
- Да я два года одну барбитуру жрал! – заорал дембель. От натуги у него даже кровь прилила к лицу.
- Сначала звонят, а потом приходят, - вне себя проговорил Матвей, - вы по тупости проебались, а я тут при чем? Мне вообще насрать, сколько ты служил и что жрал!
Выпалив последнее оскорбление с особенной злобой, он проворно открыл железную дверь и захлопнул ее прямо перед носом у дембеля, который сорвался с места, но попасть в парадную не успел. Дверь лязгнула замком прямо у него перед лицом. Однако Матвей к лифту не пошел. Прислонившись ухом к холодящему железу, он прислушался к разговорам снаружи. Стихающий стук каблуков заглушился быдловатыми интонациями дембеля и тихим, обвиняющим голосом Алишера.
- А барыг попроще ты не знаешь? Только этого мусорского мудака на серьезных щщах?
- Не надо было голос повышать. Я же говорил, что сам буду общаться. Я бы всё вымутил...
- Слишком резво он съебался. Зассал. Побоялся, что я ему башку проломлю. Да, сука?! – вдруг сорвался дембель на крик и стукнул кулаком по железной двери. Матвей, подслушивающий в парадной, вздрогнул. Дембель оказался не только агрессивным, но и не очень-то тупым.
- Я таких, как ты, пачками выносил, понятно тебе?! – продолжал он на повышенных тонах.
- Не блажи, Дося!
- Да он за дверью стоит, он никуда не ушел и прекрасно меня слышит! Трусливый пидарас!
- Дося!
Квартира встретила Матвея сгущающейся темнотой и едва уловимым запахом медикаментов, который въелся в кухонный воздух. Уже почти год Матвей каждый день фасовал на кухне стимуляторы, и это накладывало на быт все более заметный отпечаток. Не переодеваясь, Матвей плашмя рухнул на кровать и погрузился в глубину неприятного, пестро-липкого, дергающего во все стороны сна. Проспал он всего полчаса. За это время Соня успела прислать тысячу рублей на его киви-кошелек и ворох однообразных сообщений в телеграм.
«Матвей, не злись».
«Вот часть моего долга, Мотя».
«Ты не мудак, ты золотце».
«Хотя бы граммулечку, пожалуйста!!!»
«Выгляни в окно. Мне очень холодно, у меня мерзнут яичники».
Устало выдохнув, Матвей подошел к окну и увидел в конусе фонарного света расхаживающую из стороны в сторону Соню. С высоты девятого этажа она казалась очень больной и хрупкой. Еще раз выдохнув, Матвей отыскал на подоконнике пустую сигаретную пачку и затолкал как можно глубже разбодяженный грамм мефедрона.
Долг Сони не переставал расти. Соня считала Матвея бесхребетным, и он это знал, однако сейчас ему очень хотелось, чтобы она ушла. Потянув на себя пластиковую раму, Матвей высунул голову в промозглую ночную сырость и громко свистнул. Соня резко подняла голову, как дрессированная собака, и Матвей нарочито заметно помахал рукой. Закрытая пачка из-под красного «Честерфилда» по широкой дуге полетела вниз и приземлилась на асфальт, мокрый от тающего снега.
Закрыв окно, Матвей повалился в кресло и уронил лоб на сложенные руки. С долей брезгливости он подметил, что к его квартире стала выстраиваться разреженная, но все же очередь. Это нужно было срочно исправлять. Он просидел в таком положении десять минут, не шевелясь, однако все же заставил себя выпрямиться.
Его ждали дела. Нужно было позвонить Александре Сергеевне и сменить место жительства. Нужно было связаться с Полиной и купить героин.
Мимо торопливо пробежал казак в зеленом кафтане. Он задел Матвея плечом, но не заметил этого и скрылся в толпе, маяча уменьшающимся крестом кубанки. В руке у него подрагивала нагайка, свернутая петлей.
«Да ла-адно…» - раздраженно подумал Матвей, вспомнив бесконечный трёп ускоренного Глеба, который помимо бытовых пустяков упоминал еще и несанкционированный митинг против пенсионной реформы. Митинг должен был состояться сегодня, и маршрут его начинался на улице Восстания. Именно по этой улице Матвей шел последние десять минут. Он припомнил, что черные автозаки стояли на каждом перекрестке, а в толпе время от времени мелькали казачьи кафтаны, однако Матвей, подавленный своим безвыходным положением, не придал этому значения.
Конечно, у него не было при себе ничего запрещенного. Он даже был почти трезвым и в грядущем митинге участия принимать не собирался, однако рисковать не стоило: вряд ли слуги режима будут разбираться, намеренно ли он сюда пришел. Возможно, именно в случае нелепого ареста и пригодилась бы ксива сотрудника наркоконтроля, но Матвею не хотелось несколько часов подряд доказывать, что он не оппозиционер и вообще вне политики.
Свернув в Озерной переулок, он спустился в первое попавшееся заведение. В подвальном помещении располагалась кальянная. В ней вполне можно было переждать митинг и избежать унизительной поездки в ближайшее отделение полиции.
Полулежа на низком диване с пестрыми узорчатыми подушками, Матвей собирался с силами, которые постоянно брал в долг у самого себя, истощая их внутренний запас, и его ленивый взгляд скользил по полумраку зала, где рядами стояли низкие диваны, больше похожие на топчаны, и такие же низкие столики. Заметив в дальнем углу взмах руки, явно адресованный ему, Матвей нехотя приподнял голову и узнал Александру Сергеевну. Она приветливо улыбалась и молча махала ему суховатой пигментной рукой. Натужно улыбнувшись в ответ, Матвей кивнул и вернулся в состояние полутранса.
Александра Сергеевна была не одна. За столиком, на котором уже стояли пузатый желтый кальян и две кружки пива, сидела еще и корпулентная женщина лет сорока пяти. Пухловатые руки лежали на пышном подоле красного в горох платья, а изящно склоненная голова с завивающимися локонами темных волос смотрела на Александру Сергеевну. Когда Матвей уже решил, что это то ли подруга, то ли сестра, женщина в платье сделала совсем не дружеский и даже не родственный жест – положила руку на колено Александры Сергеевны, обтянутое брючной тканью. Матвей вспомнил ее недавние рассуждения про Веймарскую республику, ЛГБТ и цензуру, и ему наконец-то все стало ясно.
Прикрыв глаза, он откинул голову и немного задремал. Разбудили его через десять минут. Принесли том-ям, пуэр и кальян, мерцающий гладкими стеклянными боками и оранжевыми кубиками углей. Матвей смотрел на сочный бледно-оранжевый бульон, в котором виднелись жирные очертания вареных креветок, однако аппетит пропал напрочь. Матвею нравилась возможность есть все, что заблагорассудится, не глядя на прейскурант. Морепродукты и китайские чаи он особенно любил, и ему было комфортно жить, зная, что он может позволить их себе в любой момент – не экономя деньги, не откладывая мысль на завтра, на следующую неделю, на следующий аванс…
Открывшаяся героиновая перспектива смазала привычное гедонистическое удовольствие, замарав его серым посмертным пеплом. Если в мире и существовала грань, которую Матвей переступать не хотел, то это были опиатные дела. Частично из-за того, что именно опиатами занимался его отец, частично - из-за сомнительной добровольности употребления.
Когда он вернулся домой, двор произвел на него удручающее впечатление. Гражданка и днем выглядела не очень жизнеутверждающе, а ближе к ночи это свойство усиливалось. На сером асфальте отсвечивали фонарным светом комковатый грязный снег и исколотая каблуками наледь. Панельная стена с ровными рядами окон уходила в низкое бетонно-серое небо, подпирая его, как кряжистый Атлант.
Матвея уже поджидали люди, которые вписывались в ландшафт района как нельзя лучше. Возле черно-белых меандров топтались по промокшим окуркам Соня в рыжем парике, который резал ее подбородок двумя острыми завитками, смуглый башкир с монголоидными глазами блоковского скифа и напряженный дембель, похожий на него чертами лица.
Матвей машинально отметил, что лицо Сони покрыто специфической гепатитной желтизной, которую не могла скрыть даже косметика. На пальцах, которые сжимали воняющую ментолом сигарету, искрились два броских кольца, имитирующих драгоценные камни, а веки чернели над глазами угловатыми крыльями. Было очень удивительно, что при своем образе жизни Соня подхватила гепатит только сейчас. Она была не первым срезанным колосом в окружении Матвея. Его знакомых неумолимо выкашивало: кто ложился в больничную койку, кто в гроб, кто на нары. Хотя последнее можно было считать шансом на выздоровление. Ладе не повезло сильнее всех, потому что она стала носительницей ВИЧ и теперь сама избегала прежних знакомств.
Башкира, одетого в черную аляску, спортивные штаны и замызганные кроссовки, звали Алишер. Алишер был хрестоматийным мулечником с нестабильной психикой. Как-то раз он даже пытался всучить Матвею окровавленные золотые серьги, которые хотел обменять на мефедрон. Серьги Матвей не взял и отправил Алишера в ближайший ломбард, а тот умудрился выпросить у Матвея влажную салфетку, чтобы смыть с серег кровь и сдать их в ломбард чистыми. Он испытывал к Матвею амбивалентные чувства, какие и должен был испытывать к барыге: ненавидел и в сердцах называл мразью, но при этом искренне радовался, когда заставал Матвея дома, и так же искренне его благодарил. Но сволочью, которая его травит, считать не переставал. Иногда Алишер рассказывал про брата, служащего на Дальнем Востоке. Видимо, третьим был именно он. Под расстегнутым воротником кителя виднелась тельняшка, на бритом черепе сидел синий берет с красной звездой, а грудь пересекал пышный белый аксельбант.
Заметив Матвея, визиторы впились в него то ли радостными, то ли злобными взглядами. Стоять перед людьми, которые не желали лечь рядом с ним, как лань подле льва, было не очень-то комфортно, и Матвей нащупал в кармане телескопическую дубинку. Слегка откинув голову, он превентивно огрызнулся, ощущая себя в полном праве это сделать:
- Вы бы еще в очередь встали. Чего вы тут забыли?
- Угадай, бля. Меф я тут забыла, - кинув окурок на асфальт, Соня шаркнула по нему сапогом.
- Так, ты, - вспылил Матвей и ткнул ее пальцем в грудь, - пока не вернешь долг, хер я тебе что-то продам. Ясно?
- Пиздец ты жадный!
- В смысле, блядь, жадный? – прищурился Матвей, уставившись на нее. Алишер, как и заметно нервничающий брат, молчал, однако в его молчании чувствовались вежливость и такт. Матвей резко повернулся к ним.
- Вам чего надо?
- Так это… Нам бы мефа взять, грамма два, три… - смущенно забормотал Алишер, комкая в кулаке мятые и грязные до серости пятитысячные купюры.
- Эй! Мне ты всегда давал в долг! Ты совсем охренел? Как мне работать без мефа? – принялась орать Соня. Она была крайне обижена отказом и решила довести дело до конца - даже ценой скандала.
- С тоской на лице, - съязвил Матвей, устремив на нее решительный взгляд, а потом перевел его на братьев, - можете уходить, у меня ничего нет.
- Да я два года одну барбитуру жрал! – заорал дембель. От натуги у него даже кровь прилила к лицу.
- Сначала звонят, а потом приходят, - вне себя проговорил Матвей, - вы по тупости проебались, а я тут при чем? Мне вообще насрать, сколько ты служил и что жрал!
Выпалив последнее оскорбление с особенной злобой, он проворно открыл железную дверь и захлопнул ее прямо перед носом у дембеля, который сорвался с места, но попасть в парадную не успел. Дверь лязгнула замком прямо у него перед лицом. Однако Матвей к лифту не пошел. Прислонившись ухом к холодящему железу, он прислушался к разговорам снаружи. Стихающий стук каблуков заглушился быдловатыми интонациями дембеля и тихим, обвиняющим голосом Алишера.
- А барыг попроще ты не знаешь? Только этого мусорского мудака на серьезных щщах?
- Не надо было голос повышать. Я же говорил, что сам буду общаться. Я бы всё вымутил...
- Слишком резво он съебался. Зассал. Побоялся, что я ему башку проломлю. Да, сука?! – вдруг сорвался дембель на крик и стукнул кулаком по железной двери. Матвей, подслушивающий в парадной, вздрогнул. Дембель оказался не только агрессивным, но и не очень-то тупым.
- Я таких, как ты, пачками выносил, понятно тебе?! – продолжал он на повышенных тонах.
- Не блажи, Дося!
- Да он за дверью стоит, он никуда не ушел и прекрасно меня слышит! Трусливый пидарас!
- Дося!
Квартира встретила Матвея сгущающейся темнотой и едва уловимым запахом медикаментов, который въелся в кухонный воздух. Уже почти год Матвей каждый день фасовал на кухне стимуляторы, и это накладывало на быт все более заметный отпечаток. Не переодеваясь, Матвей плашмя рухнул на кровать и погрузился в глубину неприятного, пестро-липкого, дергающего во все стороны сна. Проспал он всего полчаса. За это время Соня успела прислать тысячу рублей на его киви-кошелек и ворох однообразных сообщений в телеграм.
«Матвей, не злись».
«Вот часть моего долга, Мотя».
«Ты не мудак, ты золотце».
«Хотя бы граммулечку, пожалуйста!!!»
«Выгляни в окно. Мне очень холодно, у меня мерзнут яичники».
Устало выдохнув, Матвей подошел к окну и увидел в конусе фонарного света расхаживающую из стороны в сторону Соню. С высоты девятого этажа она казалась очень больной и хрупкой. Еще раз выдохнув, Матвей отыскал на подоконнике пустую сигаретную пачку и затолкал как можно глубже разбодяженный грамм мефедрона.
Долг Сони не переставал расти. Соня считала Матвея бесхребетным, и он это знал, однако сейчас ему очень хотелось, чтобы она ушла. Потянув на себя пластиковую раму, Матвей высунул голову в промозглую ночную сырость и громко свистнул. Соня резко подняла голову, как дрессированная собака, и Матвей нарочито заметно помахал рукой. Закрытая пачка из-под красного «Честерфилда» по широкой дуге полетела вниз и приземлилась на асфальт, мокрый от тающего снега.
Закрыв окно, Матвей повалился в кресло и уронил лоб на сложенные руки. С долей брезгливости он подметил, что к его квартире стала выстраиваться разреженная, но все же очередь. Это нужно было срочно исправлять. Он просидел в таком положении десять минут, не шевелясь, однако все же заставил себя выпрямиться.
Его ждали дела. Нужно было позвонить Александре Сергеевне и сменить место жительства. Нужно было связаться с Полиной и купить героин.
Глава 11
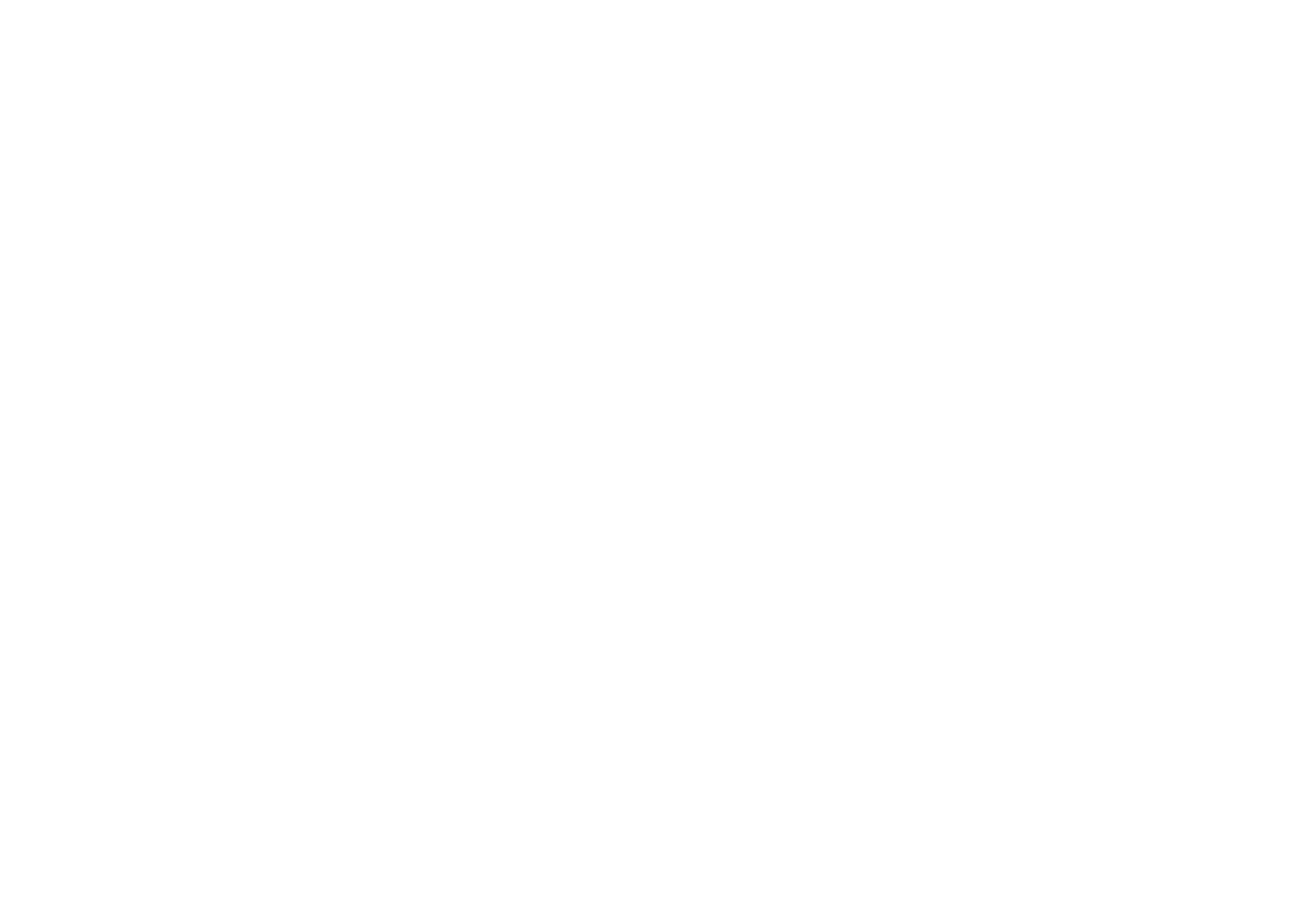
Не могу не воздать похвалу тому, кто первый извлек из маковых головок морфий.
Михаил Булгаков, «Морфий»
Михаил Булгаков, «Морфий»
апрель, 2031 год
- Тебе понравится. В арке ворота с кодовым замком, подъезд с домофоном, в квартире мини-монитор и камера, через которую видно лестничную клетку, - говорила Александра Сергеевна, заслоняясь от солнца козырьком ладони, - нужно очень постараться, чтобы попасть к тебе домой, так что тебя редко будут беспокоить всякие упыри.
Ее фиолетовые волосы отливали на свету сиреневыми зигзагами, а под заостренными черными бровями щурились внимательные и несколько холодные глаза. Она целеустремленно шагала вперед по квадратным плитам тротуара, шурша широкими штанинами брюк, а за ней плелся уставший Матвей, уже второй месяц подряд одолеваемый невольной ремиссией. Слева журчал разговорами, шелестом листьев и дробью шагов пешеходный бульвар, укрытый зеленеющими кронами деревьев, а справа кипела жизнью Большая Конюшенная, светящаяся пестрыми стеклами баров и ухоженным фасадом старого фонда.
Остановившись возле мутно-розового трехэтажного дома, декорированного пыльной белой лепниной и поросшим сорняками балкончиком, который угрожающе нависал над аркой, она набрала нужный код, и дверь в кованых воротах со скрипом открылась. Здесь проходила граница, за которой заканчивался парадный Петербург. В длинной, как кишка, арке пахло мочой. Следуя за Александрой Сергеевной, Матвей оказался во дворе-колодце, который навис над ним сально-бежевыми стенами. На них, словно оспины, проглядывали узкие окна с деревянными рамами, пустоты отслоившейся штукатурки и мокрота туберкулезного балтийского воздуха, проступающая сквозь краску черными пятнами. С металлического хребта крыш спускались тронутые ржавчиной водосточные трубы. Матвей поморщился. Тесное нутро, в котором ему предстояло жить следующий год, удручало даже сильнее, чем дом на улице Юты Бондаровской, однако стоило в разы дороже. От двора-колодца, в который солнечный свет не проникал даже в такой ясный день, будто он застревал в невидимом фильтре, разило достоевщиной и депрессивными настроениями.
- Во дворе только три жилые квартиры, соседей у тебя почти не будет, - произнесла Александра Сергеевна и подошла к железной двери, поигрывая связкой ключей, - другие квартиры сдаются в аренду. Сейчас там образовательный центр для дошколят, какая-то мутная муниципальная контора и пекарня. У них, кстати, отличная выпечка. Крайне рекомендую.
Вежливо придержав дверь, Матвей пропустил Александру Сергеевну и лишь потом зашел сам. Стены грязно-голубой парадной были обезображены трещинами, отслаивающимися чешуйками краски и желтоватыми разводами потеков, но удручающее впечатление немного сглаживали пилястры, имитирующие граненые египетские колонны. Матвей был удивлен тем, что месяц проживания в таком неприглядном - или же, если сказать иначе, благородном старинном - доме стоит девяносто тысяч рублей. В Петербурге он жил почти два года, и все квартиры, которые он видел за этот период, были воплощением двух крайностей: они напоминали либо притоны, либо некогда роскошные дворцы. Иногда попадались засиженные клопами притоны, когда-то бывшие роскошными дворцами.
Поднимаясь на третий этаж, Матвей искренне надеялся, что в квартире дела будут обстоять не так плохо.
- Вот, пожалуйста, твое будущее жилье. Сто двадцать квадратных метров, двести лет истории. В спальне есть сейф. Можешь хранить там… ценные вещи, - подытожила Александра Сергеевна, повернула ключ в замке и потянула на себя тяжелую железную дверь. Взгляду открылся ухоженный ярко-голубой коридор, уходящий далеко вперед: его делили на части сводчатые арки, а вдоль стен были расставлены лакированные статуэтки жирафов и фламинго. По левую сторону располагались четыре дубовых двери, такой же дверью коридор оканчивался.
- То есть, большую часть суммы я плачу за два века истории? – спросил Матвей, сделав шаг вперед. Под тяжелым ботинком с рифленой подошвой скрипнул светлый паркет.
- Правильно понимаешь, - кивнула Александра Сергеевна, - в центре Питера много рухляди, которая стоит неоправданно дорого.
- То есть, вы осознанно мне рухлядь сдаете? – беззлобно посмотрел на нее Матвей. Она ослепительно улыбнулась, однако в улыбке просвечивал агрессивный оскал.
- Не снимай, если не хочешь. Ты знал, куда мы идем, и одобрил этот вариант.
- Ну да… - промямлил Матвей, врасплох застигнутый ее напором. Он и прежде замечал в ней старательно маскируемую хватку, которая прорывалась, когда Александра Сергеевна переставала изображать интеллигентную даму. Категоричное и полное уверенности возражение «не хочешь – не бери», которое Матвей часто слышал от определенного типажа людей, лишь укрепило его подозрение. В объяснения про ритуальные услуги он уже давно перестал верить. Возможно, Александра Сергеевна действительно сколотила капитал на гробах, но в несколько ином смысле. Во всяком случае, даже в бальзаковском возрасте она казалась достаточно отбитой и лишенной чувства самосохранения, чтобы иметь в анамнезе не одну лишь наркозависимость.
Шоколадного оттенка дубовые двери вели в прохладную спальню, оформленную в блекло-голубых тонах, темный кабинет с широким столом и красной мебелью, ярко освещенную кухню с ракушками на обоях и залитый солнечными лучами зал, в центре которого по-королевски располагался громоздкий диван. Каждая комната была чуть меньше склепоподобной квартиры на Гражданке. Из окон открывался классический петербургский вид: двор-колодец, иногда оглашающийся крикливым эхом голосов, наслаивающиеся друг на друга гребни крыш с отстающими листами железа и тахикардическая линия стеклянных небоскребов, горящая на далеком горизонте. В конце коридора находился такой же большой совмещенный санузел, один угол которого занимали стиральная машинка и сушилка для белья. Расписанный потолок изображал синее летнее небо, подернутое кучерявыми облаками, а кафельное пространство под ним блестело сталью сантехники.
За счет косметического ремонта квартира выглядела весьма презентабельно, и презентабельность не портили даже исторически обусловленные погрешности. Паркет и дубовые двери надрывно скрипели, рассыхающиеся деревянные рамы пропускали сквозняк, а под потолком виднелись желтые разводы от ливневой воды, которая пробивалась сквозь щели в кровле, пропитывала деревянные перекрытия и частично выступала на стенах, как пот мертвеца.
«Блеск и нищета питерских хат», - подумал Матвей и заплатил Александре Сергеевне за два месяца вперед.
Чтобы надежно себя обезопасить, Матвей купил в «Икее» набор из двенадцати ножей с сиреневыми ручками и спрятал по два ножа в каждой комнате, чтобы в случае форс-мажора можно было вооружиться и хотя бы ранить нападающего. Бейсбольную биту он поместил в шкаф для верхней одежды, который стоял возле входной двери, а через знакомого мента, лейтенанта Пирогова, промышляющего сутенерством, купил карманного размера «глок 26». После инцидента с Ширшовыми он стал выходить на улицу исключительно вооруженным, а теперь у него всегда были при себе пистолет и электрошокер.
У торговли опиатами, особенно торговли такого формата, который Матвею навязали, была своя специфика. С клиентами приходилось вступать в живой контакт, и рассчитывались они наличными, которые часто были грязными, мятыми, а иногда даже окровавленными. Большую часть денег Матвей хранил на трех счетах, открытых в Hong Kong Construction Bank. Матвей очень надеялся, что наверху не знают про его запасные счета, которые формально находились в юрисдикции другого государства, не связанного с Россией никакими обязательствами.
Проститутки, которые стоили дороже и выглядели приличнее, платили не только рублями, но и валютой. К концу первой недели Матвей привык к юаням и долларам и даже научился беглым взглядом определять их подлинность.
Спустя три недели после переезда Матвей проснулся под жужжание робота-пылесоса – смешной белой лепешки, которая ползала по квартире, тыкаясь в предметы равнодушной плоской мордой и монотонно попискивая. Измученность, вызванная отсутствием свежести и желанием это отсутствие восполнить, никуда не делась и немного омрачила пробуждение.
Прикрыв лицо холодной ладонью, Матвей спрятался от отраженного света, который разбрасывала по спальне блестящая на солнце хрустальная люстра. Нехотя выбравшись из-под одеяла, он чуть задернул плотную штору, и спальня погрузилась в полумрак. Бок люстры, оставшийся освещенным, осыпал бликами необъятную кровать, тумбочку с квадратной лампой и пять картинок с солнечными пейзажами, которые висели над изголовьем кровати.
Погрузив босые ноги в пушистый ковер, под которым скрипнул светло-желтый паркет, Матвей подошел к длинному шкафу с зеркальными дверцами и переоделся в домашнее. Засомневавшись и нахмурив брови, открыл сейф и облегченно вздохнул: пачки денег, перевязанные цветными резинками, и расфасованные стимуляторы, которые нужно было передать Куртову, никуда не пропали.
Приблизившись к низкому комоду, над которым висело зеркало, Матвей увидел в отражении свое лицо - характерно-землистое, однако за два месяца несколько посвежевшее. Белели металлокерамические зубы, которые заменили половину настоящих – стремительно рассыпающихся, обнаживших почерневшие от кариеса сердцевины. Лицо перестало быть слишком уж костистым, в нем проступил намек на семейную породистость, передающуюся по мужской линии, и даже его было достаточно, чтобы счесть Матвея приятным взгляду. Из нижней кромки зеркала вырастали отражения пустой вазы и керамической статуэтки куницы, которые стояли на комоде. На передней лапке куницы висело золотое кольцо с аметистом, которое Матвей украл у богобоязненной матери. На полу, сбоку от комода, покоился кофр с баяном, который достался Матвею от торгующего героином отца.
После завтрака он закрылся в кабинете и принялся за фасовку. За три недели кабинет пропитался кислым запашком уксуса. Уксусом пах героин, и Матвею было немного противно к нему прикасаться. Полина оказалась крайне непостоянной: каждый раз дрон приносил партию героина, разительно отличающуюся от прежней, и Матвею приходилось вникать в нюансы заново. Первая партия, принявшая свою конечную форму в Таджикистане, представляла собой черный, как уличная грязь, сухой порошок, воняющий уксусом. Вторая партия имела нежный оттенок кофе с молоком и уксусом почти не пахла. А сегодня Матвею предстояло разбираться с грязно-розовыми камнями, от которых несло ангидридом. Широкий разброс цвета и консистенции озадачивал Матвея.
«Да-а, мне бы сейчас папин совет пригодился… - думал он каждый раз, отупело разглядывая высыпанный на тарелку героин. – Что вообще делают с этим говном?»
Прочитав все доступные мануалы, Матвей пришел к выводу, что лучше придерживаться классического правила – добавлять то, что напоминает искомое вещество цветом, вкусом и дисперсностью. Чтобы клиент не заметил подвоха или же, заметив, списал на возросший толер. Матвей всегда соблюдал золотую середину: бодяжил, чтобы клиент по незнанию не отравился слишком чистым веществом, но делал это умеренно, чтобы не нарваться на неприятности.
Бодяжить крысиным ядом Матвей не желал, считая это совсем уж запредельным свинством. Сахарная пудра была слишком белой и блестящей, и замаскировать ее наличие было трудно. Мука при контакте с водой превращалась в красноречивые сопли, из-за которых у Матвея однажды уже были проблемы. Оптимальным вариантом оказался достаточно горький димедрол, усиливающий эффект героина и тем самым маскирующий неполноту грамма.
Российский рынок предлагал медленным потребителям исключительно героин, в нем не было места карфентанилу и ханке. Карфентанил, попавший в Россию не без помощи этнических группировок, которые лишились прежнего заработка, в свое время чуть не обрушил налаженную сеть продаж. Покупатели стали умирать слишком быстро, потому что не превысить дозировку было чрезвычайно сложно. Особо мудрые героинщики стали покупать карфентанил, делить на крошечные порции и растягивать мизерное количество препарата на месяц. Начался отток денег и рынок стал проседать. Воспользовавшись правом монополиста, ФСКН ввела на карфентанил негласный, но строгий запрет. Членов ОПГ, которые этот запрет проигнорировали, обезглавили и для наглядности разбросали головы по петербургским паркам. Головы быстро обнаружили и несколько недель демонстрировали в новостях. Больше в Россию карфентанил не завозили.
С ханкой, черной опийной смолой, которая была крайне прущей, дело обстояло немного иначе. Ханка была скорее украинским наркотиком, нежели российским. Негласный торговый договор связывал ФСКН с наркосиндикатами Афганистана и Таджикистана, которые ввиду географической близости поставляли героин именно в Россию. Никакого антирусского заговора в этом не было - всего лишь финансовый расчет и очевидная логистика. Тонким слоем героин оседал на полицейских участках, где допрашивали наркоманов, пойманных ради плана по 228, на ломбардах, куда русские мальчики и девочки несли золото родственников, и на гробах, в которых покоились дошедшие до точки зависимые. Героин среднеазиатского производства плотно занял место ханки и синтетических опиоидов, которые были в разы сильнее героина – и даже ханки.
Несколько раз в неделю Матвей выходил на Большую Конюшенную, садился в черный гелендваген с тонированными стеклами и проезжался по трем точкам: Балтийскому вокзалу, Сенной площади и Апраксиному двору. Подработка отнимала всего три часа. Точки действительно оказались хлебными - меньше тридцати граммов у Матвея никогда не уходило. На новом месте он осознал и увидел в действии непреложную истину. Он понял, что товар действительно стоит столько, сколько за него готовы платить. А платить за героин страдающие покупатели были готовы неприлично много.
Камуфлированный Миша был обладателем бритой головы, сидящей на бычьей шее, и двух искусственных пальцев на левой кисти, которые представляли собой довольно ловкие черные конструкции. Круглое бледное лицо напоминало сырой поминальный блин. Сидя за рулем, Миша механическими движениями левой руки перебирал гранатовые четки. В шевелении его пальцев просматривался автоматизм то ли буддистского монаха, то ли бывшего зэка. Когда в первый день к гелендвагену подошел казачий патруль, возглавляемый расслабленным и гордо вышагивающим приказным Епифановым, крепко сложенный Миша приветливо ощерился.
- Это Герыч, - представил он Матвея, который сидел на заднем сиденье, неуверенно сжимая пальцами большой зиплок с расфасованной черной сотней, - теперь он здесь хмурый продает.
Приказный Епифанов издал сдавленный смешок, поправил кубанку и ухмыльнулся, изогнув рот с жидкими усами:
- Ну здравствуй… Герыч. Очень рад знакомству.
Хотя Евгений Львович попрошайничал именно возле Балтийского вокзала, Матвей пока ни разу его не встретил, потому что попрошайничал тот под землей, в извилистом переходе между станциями метро и наверх поднимался крайне редко. Он сидел у кафельной стены перехода, словно крот, и не видел дневного света.
Миша был контрактником, который в свое время прошел Сирию, и типичным фронтовиком с деформированной психикой, которому было скучно там, где не было огнестрела и возможности стрелять в людей. Он постоянно улыбался, чурался психоактивных веществ, потому что и без них был достаточно двинутым, и почему-то считал Матвея гомосексуалистом, однако относился к нему доброжелательно.
- Ты не такой простой, раз тебя сюда Асфар Юнусович посадил. Сам понимаешь, на геру нормальных людей не садят. Нервы нужны железные, чтобы работать с этими шириками, - объяснял Миша, - не думай, что я зашквариться боюсь. Я об этом вообще не думаю. Я стрелять люблю. В Алеппо я не только стрелял, но и головы резал…
Матвей с перекошенным лицом слушал словоохотливого Мишу и осознавал, что перед ним сидит вскормленный боевыми действиями маньяк.
- Прикольный ты тип, - посмеивался тот, - сначала был халдеем, потом блатняк на баяне играл, а теперь хмурым торгуешь. Если бы еще бросил всю эту хуйню, которую ты себе колешь… Плохо, что ты тоже наркот.
- Я бросаю, - мрачно возражал Матвей, поддерживая беседу.
- Э-э, нет, так не бросают. Бросают, когда вообще не колются. А ты колешься. Поэтому ты тощий, как насекомое.
Пожалуй, если бы Миша познакомился с ним раньше, то сокрушался бы сильнее, потому что Матвей за два месяца немного поправился и весил теперь почти шестьдесят килограммов.
- Я когда с Сирии вернулся, стал работу искать и устроился в «Евросеть» охранником. Месяц там сидел и судоку разгадывал, - говорил Миша, завершая предложения тихими смешками, - потом надоело баклуши бить, и я в чоп устроился. А начальник чопа порекомендовал меня службе охраны, потому что я часто людям руки ломал, когда их винтил. Стал квартиру в центре снимать, а через полгода гелен купил. Мне даже в армии меньше платили, прикинь?
Матвею хотелось горестно простонать, но Миша был непредсказуемым собеседником, поэтому он держался, вместо этого болезненно вскидывая брови. Бесспорно, торговать одному было бы немного скучно, однако истории из жизни кровожадного кшатрия, одетого в камуфляж, не особо скрашивали досуг, они лишь нагоняли едва ощутимую жуть, которая незаметно проползала в голову и разбухала там неприятным черным комком.
- Здорово, конечно, что ты тоже ствол таскаешь, но ты не бойся, - не унимался Миша, расслабленно откидываясь на водительское сиденье, - я два года обезьян через прицел наблюдал, а в этих дохляков тем более попаду. Для меня это курорт, а не работа.
- И часто приходится стрелять? – настороженно спрашивал Матвей.
- Да, иногда приходится, - с бытовой небрежностью произносил Миша, и от непринужденности его тона у Матвея холодело в солнечном сплетении.
Провода опутывали придушенный смогом Петербург, как липкая паутина, и в ней огромными пауками ворочались жирные, тягучие, смолисто-черные тучи, похожие на вязкие комья опия-сырца. Совсем недавно минул безрадостный мглистый полдень. За тонированным окном гелендвагена, в котором отражался профиль Матвея, переливались искусственным огнем цветастые вывески. Их свет рассеянными пятнами ложился на широкие арки и двустворчатые деревянные двери, через которые в Балтийский вокзал набивались люди. Люди сливались в тянущуюся серую массу и издавали нечеловечески монотонный гул пчелиного улья. Под белым округлым сводом стояла женщина в фиалковом платье, на плече которой спокойно полулежал серый британский кот с плоской мордой. Она придерживала тучное тельце кота, прижимая его к себе, а тот с важным видом осматривал окружающий мир. На плитке перед каменными ступенями валялась наполовину обглоданная вяленая вобла.
Миша сидел за рулем, перебирал гранатовые четки, бусины которых бились друг об друга с глухим стуком, и не останавливал скользящего взгляда, который непрерывно сканировал местность. Матвей, одетый в новые джинсы и длинный синий свитер крупной вязки, из-под острого ворота которого выглядывал воротник рубашки, сидел сзади, и расслабленно курил. Справа от него лежали на сиденье пистолет, большой плотный зиплок с расфасованными граммами и скромных размеров рюкзак, куда Матвей складывал полученные деньги. Уткнувшись носом в смартфон, он читал твиттер и морщился.
Фанатичные оппозиционеры и фанатичные ватники были ему одинаково противны. Особенно много их ошивалось в твиттере Глеба. Глеб до сих пор отстаивал невиновность Юлии Черных, которую три месяца назад арестовали за одиночный пикет и теперь тянули ход дела, добивая голодающую Черных бюрократической волокитой. Занимался он этим не от своего лица, а от лица правозащитной организации «Цикута», и в комментариях неизбежно сталкивались либеральное крыло, которое писало про фашистский режим, и консервативное крыло, которое обзывало их пидарасами, жидомасонами и шестерками «тупых пендосов».
Отвлекшись на судорожный стук, Матвей заметил за отражением своего лица, на котором брезжила оранжевым точка сигареты, слабый женский кулак в кожаной перчатке, стучащий по стеклу с удивительной для такой комплекции силой. Вскинув брови, Матвей узнал в неприятной женщине, которой можно было дать тридцать лет, некогда румяную Ладу. Она сутулилась, словно стеснялась себя и дряхлеющего без надлежащей терапии тела. Кусая губы, она куталась в неуместную сейчас теплую куртку, которая была ей великовата, и время от времени дрожала всем телом. Бледное лицо покрывала испарина, а глаза были черными от широких зрачков и набирающей мощь абстяги.
Матвей изможденно прикрыл глаза. Он вспомнил, какой общительной и зажигательной была Лада полтора года назад, и ему стало не по себе. Он чуть ли не кожей ощутил ход времени. Своих героиновых клиентов он никогда раньше не видел, и сравнивать ему было не с чем. А вот Ладу он прекрасно помнил. Романтической любви он к ней не испытывал, но было нечто вроде полового влечения, которое, впрочем, сошло на нет, когда она заинтересовалась опиатами. Сжав губы, Матвей высунул в узкую щель татуированные пальцы.
- Матвей! – воскликнула она, узнав длинные суставчатые пальцы с неровными линиями татуировок. Беззвучно охнув, она торопливо сунула ему в руку хрустящие пятисотки. Выровняв деньги, влажные от потеющего кулака, Матвей убрал их в рюкзак.
- Быстрее, пожалуйста! – вскрикнула Лада, потаптываясь на месте. Матвей сглотнул. Он легко мог вновь заслужить ее благосклонность, и Лада охотно пошла бы на контакт, но вряд ли руководствуясь при этом их прежними доверительными отношениями, повторить которые не представлялось возможным. Даже если не учитывать аспект доверия, склонить к сексу Ладу, будучи столь нужным ей наркодилером, было плевым делом, но Матвею нужно было совсем не это. Ему хотелось хотя бы возобновить дружеское общение, не омраченное этическими нюансами, а на большее он не претендовал. К тому же, Лада была неизлечимо больна.
- Матвей! – сипло взвизгнула она, нехорошо оскалившись. Он искривился и высунул за окно два пальца, сжимающие зиплок с серо-розовыми камнями. Забрав желаемое, Лада резко развернулась на месте, взбежала по темно-серым ступеням вокзала настолько быстро, насколько это позволял абстяжный колотун, и скрылась за качнувшейся деревянной дверью. Матвей протяжно вздохнул и выбросил дотлевший окурок на асфальт парковки.
Сбыв тридцать граммов, что было хорошим уловом, Матвей сказал Мише, чтобы тот ехал на Сенную площадь. За холодным черным фильтром тонировки сливались в босховское полотно стальные ворота запертых арок, дома старого фонда, давящие суровостью возраста, и горячее сияние реклам. Матвей гнал от себя гнетущие воспоминания, но безуспешно: они вдруг перескочили с Лады, судьбу которой предопределил присущий опиатам фатализм, на Гошу Ломакина. Две недели назад Ломакин ни с того ни с сего объявился, чем крайне огорчил Матвея, и решил купить аж двадцать граммов мефедрона. Матвей отправил его на адрес и выполнил поручение Гриши. Ломакин снова исчез. На этот раз, кажется, не по своей воле и надолго.
- Ты можешь припарковаться где-нибудь на пару минут? – спросил Матвей, пряча глаза, когда гелендваген проезжал над стеклянно-черными волнами Фонтанки. Миша с непонятной эмоцией покосился на него:
- Ты прям в машине колоться собрался, что ли?
- А что, мне еще два часа ждать?! – нервно повысил голос Матвей.
- Понял, понял, уже паркуюсь, - пошел на попятную Миша, пытаясь его успокоить, и медленно крутанул руль, - только не психуй.
Автомобиль повел квадратной мордой и подъехал к обочине. Над дорогой спазматически дергалась выцветшая растяжка с советской красной звездой, георгиевскими лентами и безликими профилями в солдатских касках. Дополнял композицию высокий, но не соответствующий истине лозунг: «Слава и почет нашим предкам, погибшим ради Великой Победы». Последний ветеран Великой Отечественной скончался в двадцать седьмом году, когда уже мало кто помнил, с чего эта война началась и как проходила. В памяти остался лишь факт победы, которая несомненно была великой просто потому, что это была победа. Советских мертвецов водружали на хоругви по инерции - гордиться нужно было хоть какой-нибудь войной. Позже стараниями государства старых ветеранов сменили новые, сирийские. Вот только новой войной гордиться было неловко и даже стыдно.
Матвей достал из кармашка рюкзака кухню и торопливо разложил ее на сиденье. Сжав угловатыми коленками фурик с водой, он высыпал в воду полграмма мефедрона, и в салоне запахло больницей. Миша наморщил нос. Завертелась юлой металлическая игла, закружился желтеющий водоворот белой взвеси, которая осела в кусочке ваты, и шприц наполнился бледно-желтым, как моча, готовым раствором. Закатав левый рукав, Матвей нашел скромных габаритов вену и принялся копаться иглой под кожей. Приноровился он не сразу и взял контроль лишь с четвертой попытки, после чего грубо надавил на поршень, дожав его до самого конца.
Матвей обмяк, будто его ударили по голове, и размазался по сиденью, а изо рта вырвался тихий стон – сдавленный, словно кто-то сжал его легкие, не давая дышать полной грудью, и полный скоротечной любви к ближним. Горло наполнилось теплом, которое омыло тело и мозг юркими бурунами, а Миша, салон гелендвагена и нелепая в своем утверждении растяжка на несколько секунд обзавелись прозрачно-желтой вуалью.
- Поехали… - обессиленно махнул рукой Матвей, стискивая зубы и даже не пытаясь сесть ровно. Следующие пять минут он шумно дышал и пытался оправиться.
Вторая точка располагалась на отшибе Сенной площади, в закутке между спуском в метрополитен и торговым центром. На противоположной стороне площади до сих пор функционировало кафе «Кристалл». Иногда Матвея так и подмывало заглянуть туда в поисках старых лиц, однако он всегда находил причины этого не делать.
В условленное время в окно постучала Катерина Ивановна - сухопарая женщина лет сорока, одетая в легкий синий плащ, которая вела на поводке бело-рыжего беспородного щенка. Щенок смешно переставлял лапы, а слишком большие для его пропорций уши качались в такт движению.
- Как поживаешь, Геронька? - сладко заулыбалась женщина, когда Матвей наполовину приспустил стекло, и уставилась на него бледными из-за крошечных зрачков глазами. - Как работа?
- Мрак, тлен и серая рутина, - попытался проворчать Матвей, однако губы разъехались в блаженной улыбке. Катерина Ивановна была осведомителем ФСКН и героинщицей старой гвардии с двадцатилетним опытом употребления. Вчера Гриша сказал, чтобы Матвей от его имени бесплатно выдал ей три хороших грамма – в знак благодарности за выполненное поручение.
- Надо же, ты только что поставился, - констатировала Катерина Ивановна, кокетливо склонив голову набок. Лицо и поза Матвея были слишком красноречивыми, хотя пик прихода уже миновал: тяжело блестели почерневшие глаза, едва слышно бились друг об друга зубы, а движения были проникнуты утренней негой. Матвей вручил Катерине Ивановне зиплок всё с теми же серо-розоватыми камнями, и та галантно приняла его, словно это был подарок любовника.
- Сегодня розовый? – с долей недоверия посмотрела она сначала на зиплок, а потом на Матвея. – Ты все цвета радуги перебираешь, дружок?
- Можешь не брать, если не хочешь, - уверенно улыбнулся он. Катерина Ивановна поджала губы, но положила зиплок в карман плаща и удалилась из поля зрения вместе с косолапым щенком.
«Всегда срабатывает», - произнес про себя Матвей. Эта фраза действовала безотказно, каким бы тоном её ни говорили. Покупатель неизбежно соглашался, потому что не находил в себе сил отказаться от наркотиков, которые уже были у него в руках.
Поработав напоследок возле Апраксиного двора, Матвей попросил Мишу отъехать подальше и взялся за подсчет полученных денег. Набралось двести сорок тысяч рублей, тридцать тысяч из которых он отдал Мише. Деловито пересчитав купюры, тот тепло улыбнулся и убрал их в карман камуфляжных штанов. Утверждая, что настоящие деньги делают на медленных, Гриша ни капли не лукавил. Матвей сначала не осознавал серьезность его заявления, хоть и понимал, что денег героин приносит много. Но одно дело – абстрактное «много», и совсем другое – конкретные шестизначные числа.
Однако день, начавшийся хорошо, закончился несколько скверно. Уже по приезде домой Матвей заметил в ленте твиттера свежее селфи довольной Сони, которую он утром снова отоварил в долг. Ехидный кошачий взгляд, расширенные зрачки и глумливую улыбку дополняла приписка, полная желчи и самодовольства: «когда твой дилер тряпка».
Матвей нахмурил брови. За плечами Сони виднелся Асин чердак: узорчатый сиреневый платок с бахромой, дугой висящий под деревянным скосом, и золотистая музыка ветра из дешевого пластика, подрагивающая каскадом полупрозрачных дельфинов. В голову немедленно пришел план действий. Ася ответила на звонок без спешки, буквально на последних длинных гудках, и Матвей услышал ее заспанный голос – голос человека, застигнутого врасплох:
- Матвей, это ты? Что-то случилось?
- Соня у тебя? – спросил он, расстегнув на воротнике рубашки душащую пуговицу.
- Да, она сейчас спит. Передать ей что-нибудь?
- Ничего не надо передавать, - отчетливо проговорил Матвей, - она вообще не должна знать, что я скоро у тебя буду. Сделай вид, что я тебе не звонил, и постарайся удержать ее дома, пока я не приеду, если она вдруг проснется.
- А в чем она провинилась, раз ты так пытаешься ее выловить? – с подозрением поинтересовалась Ася.
- Задолжала денег и повела себя некультурно, - ответил Матвей после задумчивого промедления.
- Я ей, конечно, ничего не скажу и помогу тебе. Но за тобой должок. Мало ли, вдруг ты сможешь меня выручить, когда я попаду в неприятности. Ты ведь теперь важная шишка.
- Договорились, - ответил Матвей, - но помни, что я могу разрулить ситуацию, если ты столкнешься с ментами или нашей конторой. А с эшниками я ничего сделать не смогу. Это совсем другая структура, к которой я вообще не имею отношения.
- Любая помощь хороша, - философски произнесла Ася, - приезжай. Дверь будет открыта.
- Тебе понравится. В арке ворота с кодовым замком, подъезд с домофоном, в квартире мини-монитор и камера, через которую видно лестничную клетку, - говорила Александра Сергеевна, заслоняясь от солнца козырьком ладони, - нужно очень постараться, чтобы попасть к тебе домой, так что тебя редко будут беспокоить всякие упыри.
Ее фиолетовые волосы отливали на свету сиреневыми зигзагами, а под заостренными черными бровями щурились внимательные и несколько холодные глаза. Она целеустремленно шагала вперед по квадратным плитам тротуара, шурша широкими штанинами брюк, а за ней плелся уставший Матвей, уже второй месяц подряд одолеваемый невольной ремиссией. Слева журчал разговорами, шелестом листьев и дробью шагов пешеходный бульвар, укрытый зеленеющими кронами деревьев, а справа кипела жизнью Большая Конюшенная, светящаяся пестрыми стеклами баров и ухоженным фасадом старого фонда.
Остановившись возле мутно-розового трехэтажного дома, декорированного пыльной белой лепниной и поросшим сорняками балкончиком, который угрожающе нависал над аркой, она набрала нужный код, и дверь в кованых воротах со скрипом открылась. Здесь проходила граница, за которой заканчивался парадный Петербург. В длинной, как кишка, арке пахло мочой. Следуя за Александрой Сергеевной, Матвей оказался во дворе-колодце, который навис над ним сально-бежевыми стенами. На них, словно оспины, проглядывали узкие окна с деревянными рамами, пустоты отслоившейся штукатурки и мокрота туберкулезного балтийского воздуха, проступающая сквозь краску черными пятнами. С металлического хребта крыш спускались тронутые ржавчиной водосточные трубы. Матвей поморщился. Тесное нутро, в котором ему предстояло жить следующий год, удручало даже сильнее, чем дом на улице Юты Бондаровской, однако стоило в разы дороже. От двора-колодца, в который солнечный свет не проникал даже в такой ясный день, будто он застревал в невидимом фильтре, разило достоевщиной и депрессивными настроениями.
- Во дворе только три жилые квартиры, соседей у тебя почти не будет, - произнесла Александра Сергеевна и подошла к железной двери, поигрывая связкой ключей, - другие квартиры сдаются в аренду. Сейчас там образовательный центр для дошколят, какая-то мутная муниципальная контора и пекарня. У них, кстати, отличная выпечка. Крайне рекомендую.
Вежливо придержав дверь, Матвей пропустил Александру Сергеевну и лишь потом зашел сам. Стены грязно-голубой парадной были обезображены трещинами, отслаивающимися чешуйками краски и желтоватыми разводами потеков, но удручающее впечатление немного сглаживали пилястры, имитирующие граненые египетские колонны. Матвей был удивлен тем, что месяц проживания в таком неприглядном - или же, если сказать иначе, благородном старинном - доме стоит девяносто тысяч рублей. В Петербурге он жил почти два года, и все квартиры, которые он видел за этот период, были воплощением двух крайностей: они напоминали либо притоны, либо некогда роскошные дворцы. Иногда попадались засиженные клопами притоны, когда-то бывшие роскошными дворцами.
Поднимаясь на третий этаж, Матвей искренне надеялся, что в квартире дела будут обстоять не так плохо.
- Вот, пожалуйста, твое будущее жилье. Сто двадцать квадратных метров, двести лет истории. В спальне есть сейф. Можешь хранить там… ценные вещи, - подытожила Александра Сергеевна, повернула ключ в замке и потянула на себя тяжелую железную дверь. Взгляду открылся ухоженный ярко-голубой коридор, уходящий далеко вперед: его делили на части сводчатые арки, а вдоль стен были расставлены лакированные статуэтки жирафов и фламинго. По левую сторону располагались четыре дубовых двери, такой же дверью коридор оканчивался.
- То есть, большую часть суммы я плачу за два века истории? – спросил Матвей, сделав шаг вперед. Под тяжелым ботинком с рифленой подошвой скрипнул светлый паркет.
- Правильно понимаешь, - кивнула Александра Сергеевна, - в центре Питера много рухляди, которая стоит неоправданно дорого.
- То есть, вы осознанно мне рухлядь сдаете? – беззлобно посмотрел на нее Матвей. Она ослепительно улыбнулась, однако в улыбке просвечивал агрессивный оскал.
- Не снимай, если не хочешь. Ты знал, куда мы идем, и одобрил этот вариант.
- Ну да… - промямлил Матвей, врасплох застигнутый ее напором. Он и прежде замечал в ней старательно маскируемую хватку, которая прорывалась, когда Александра Сергеевна переставала изображать интеллигентную даму. Категоричное и полное уверенности возражение «не хочешь – не бери», которое Матвей часто слышал от определенного типажа людей, лишь укрепило его подозрение. В объяснения про ритуальные услуги он уже давно перестал верить. Возможно, Александра Сергеевна действительно сколотила капитал на гробах, но в несколько ином смысле. Во всяком случае, даже в бальзаковском возрасте она казалась достаточно отбитой и лишенной чувства самосохранения, чтобы иметь в анамнезе не одну лишь наркозависимость.
Шоколадного оттенка дубовые двери вели в прохладную спальню, оформленную в блекло-голубых тонах, темный кабинет с широким столом и красной мебелью, ярко освещенную кухню с ракушками на обоях и залитый солнечными лучами зал, в центре которого по-королевски располагался громоздкий диван. Каждая комната была чуть меньше склепоподобной квартиры на Гражданке. Из окон открывался классический петербургский вид: двор-колодец, иногда оглашающийся крикливым эхом голосов, наслаивающиеся друг на друга гребни крыш с отстающими листами железа и тахикардическая линия стеклянных небоскребов, горящая на далеком горизонте. В конце коридора находился такой же большой совмещенный санузел, один угол которого занимали стиральная машинка и сушилка для белья. Расписанный потолок изображал синее летнее небо, подернутое кучерявыми облаками, а кафельное пространство под ним блестело сталью сантехники.
За счет косметического ремонта квартира выглядела весьма презентабельно, и презентабельность не портили даже исторически обусловленные погрешности. Паркет и дубовые двери надрывно скрипели, рассыхающиеся деревянные рамы пропускали сквозняк, а под потолком виднелись желтые разводы от ливневой воды, которая пробивалась сквозь щели в кровле, пропитывала деревянные перекрытия и частично выступала на стенах, как пот мертвеца.
«Блеск и нищета питерских хат», - подумал Матвей и заплатил Александре Сергеевне за два месяца вперед.
Чтобы надежно себя обезопасить, Матвей купил в «Икее» набор из двенадцати ножей с сиреневыми ручками и спрятал по два ножа в каждой комнате, чтобы в случае форс-мажора можно было вооружиться и хотя бы ранить нападающего. Бейсбольную биту он поместил в шкаф для верхней одежды, который стоял возле входной двери, а через знакомого мента, лейтенанта Пирогова, промышляющего сутенерством, купил карманного размера «глок 26». После инцидента с Ширшовыми он стал выходить на улицу исключительно вооруженным, а теперь у него всегда были при себе пистолет и электрошокер.
У торговли опиатами, особенно торговли такого формата, который Матвею навязали, была своя специфика. С клиентами приходилось вступать в живой контакт, и рассчитывались они наличными, которые часто были грязными, мятыми, а иногда даже окровавленными. Большую часть денег Матвей хранил на трех счетах, открытых в Hong Kong Construction Bank. Матвей очень надеялся, что наверху не знают про его запасные счета, которые формально находились в юрисдикции другого государства, не связанного с Россией никакими обязательствами.
Проститутки, которые стоили дороже и выглядели приличнее, платили не только рублями, но и валютой. К концу первой недели Матвей привык к юаням и долларам и даже научился беглым взглядом определять их подлинность.
Спустя три недели после переезда Матвей проснулся под жужжание робота-пылесоса – смешной белой лепешки, которая ползала по квартире, тыкаясь в предметы равнодушной плоской мордой и монотонно попискивая. Измученность, вызванная отсутствием свежести и желанием это отсутствие восполнить, никуда не делась и немного омрачила пробуждение.
Прикрыв лицо холодной ладонью, Матвей спрятался от отраженного света, который разбрасывала по спальне блестящая на солнце хрустальная люстра. Нехотя выбравшись из-под одеяла, он чуть задернул плотную штору, и спальня погрузилась в полумрак. Бок люстры, оставшийся освещенным, осыпал бликами необъятную кровать, тумбочку с квадратной лампой и пять картинок с солнечными пейзажами, которые висели над изголовьем кровати.
Погрузив босые ноги в пушистый ковер, под которым скрипнул светло-желтый паркет, Матвей подошел к длинному шкафу с зеркальными дверцами и переоделся в домашнее. Засомневавшись и нахмурив брови, открыл сейф и облегченно вздохнул: пачки денег, перевязанные цветными резинками, и расфасованные стимуляторы, которые нужно было передать Куртову, никуда не пропали.
Приблизившись к низкому комоду, над которым висело зеркало, Матвей увидел в отражении свое лицо - характерно-землистое, однако за два месяца несколько посвежевшее. Белели металлокерамические зубы, которые заменили половину настоящих – стремительно рассыпающихся, обнаживших почерневшие от кариеса сердцевины. Лицо перестало быть слишком уж костистым, в нем проступил намек на семейную породистость, передающуюся по мужской линии, и даже его было достаточно, чтобы счесть Матвея приятным взгляду. Из нижней кромки зеркала вырастали отражения пустой вазы и керамической статуэтки куницы, которые стояли на комоде. На передней лапке куницы висело золотое кольцо с аметистом, которое Матвей украл у богобоязненной матери. На полу, сбоку от комода, покоился кофр с баяном, который достался Матвею от торгующего героином отца.
После завтрака он закрылся в кабинете и принялся за фасовку. За три недели кабинет пропитался кислым запашком уксуса. Уксусом пах героин, и Матвею было немного противно к нему прикасаться. Полина оказалась крайне непостоянной: каждый раз дрон приносил партию героина, разительно отличающуюся от прежней, и Матвею приходилось вникать в нюансы заново. Первая партия, принявшая свою конечную форму в Таджикистане, представляла собой черный, как уличная грязь, сухой порошок, воняющий уксусом. Вторая партия имела нежный оттенок кофе с молоком и уксусом почти не пахла. А сегодня Матвею предстояло разбираться с грязно-розовыми камнями, от которых несло ангидридом. Широкий разброс цвета и консистенции озадачивал Матвея.
«Да-а, мне бы сейчас папин совет пригодился… - думал он каждый раз, отупело разглядывая высыпанный на тарелку героин. – Что вообще делают с этим говном?»
Прочитав все доступные мануалы, Матвей пришел к выводу, что лучше придерживаться классического правила – добавлять то, что напоминает искомое вещество цветом, вкусом и дисперсностью. Чтобы клиент не заметил подвоха или же, заметив, списал на возросший толер. Матвей всегда соблюдал золотую середину: бодяжил, чтобы клиент по незнанию не отравился слишком чистым веществом, но делал это умеренно, чтобы не нарваться на неприятности.
Бодяжить крысиным ядом Матвей не желал, считая это совсем уж запредельным свинством. Сахарная пудра была слишком белой и блестящей, и замаскировать ее наличие было трудно. Мука при контакте с водой превращалась в красноречивые сопли, из-за которых у Матвея однажды уже были проблемы. Оптимальным вариантом оказался достаточно горький димедрол, усиливающий эффект героина и тем самым маскирующий неполноту грамма.
Российский рынок предлагал медленным потребителям исключительно героин, в нем не было места карфентанилу и ханке. Карфентанил, попавший в Россию не без помощи этнических группировок, которые лишились прежнего заработка, в свое время чуть не обрушил налаженную сеть продаж. Покупатели стали умирать слишком быстро, потому что не превысить дозировку было чрезвычайно сложно. Особо мудрые героинщики стали покупать карфентанил, делить на крошечные порции и растягивать мизерное количество препарата на месяц. Начался отток денег и рынок стал проседать. Воспользовавшись правом монополиста, ФСКН ввела на карфентанил негласный, но строгий запрет. Членов ОПГ, которые этот запрет проигнорировали, обезглавили и для наглядности разбросали головы по петербургским паркам. Головы быстро обнаружили и несколько недель демонстрировали в новостях. Больше в Россию карфентанил не завозили.
С ханкой, черной опийной смолой, которая была крайне прущей, дело обстояло немного иначе. Ханка была скорее украинским наркотиком, нежели российским. Негласный торговый договор связывал ФСКН с наркосиндикатами Афганистана и Таджикистана, которые ввиду географической близости поставляли героин именно в Россию. Никакого антирусского заговора в этом не было - всего лишь финансовый расчет и очевидная логистика. Тонким слоем героин оседал на полицейских участках, где допрашивали наркоманов, пойманных ради плана по 228, на ломбардах, куда русские мальчики и девочки несли золото родственников, и на гробах, в которых покоились дошедшие до точки зависимые. Героин среднеазиатского производства плотно занял место ханки и синтетических опиоидов, которые были в разы сильнее героина – и даже ханки.
Несколько раз в неделю Матвей выходил на Большую Конюшенную, садился в черный гелендваген с тонированными стеклами и проезжался по трем точкам: Балтийскому вокзалу, Сенной площади и Апраксиному двору. Подработка отнимала всего три часа. Точки действительно оказались хлебными - меньше тридцати граммов у Матвея никогда не уходило. На новом месте он осознал и увидел в действии непреложную истину. Он понял, что товар действительно стоит столько, сколько за него готовы платить. А платить за героин страдающие покупатели были готовы неприлично много.
Камуфлированный Миша был обладателем бритой головы, сидящей на бычьей шее, и двух искусственных пальцев на левой кисти, которые представляли собой довольно ловкие черные конструкции. Круглое бледное лицо напоминало сырой поминальный блин. Сидя за рулем, Миша механическими движениями левой руки перебирал гранатовые четки. В шевелении его пальцев просматривался автоматизм то ли буддистского монаха, то ли бывшего зэка. Когда в первый день к гелендвагену подошел казачий патруль, возглавляемый расслабленным и гордо вышагивающим приказным Епифановым, крепко сложенный Миша приветливо ощерился.
- Это Герыч, - представил он Матвея, который сидел на заднем сиденье, неуверенно сжимая пальцами большой зиплок с расфасованной черной сотней, - теперь он здесь хмурый продает.
Приказный Епифанов издал сдавленный смешок, поправил кубанку и ухмыльнулся, изогнув рот с жидкими усами:
- Ну здравствуй… Герыч. Очень рад знакомству.
Хотя Евгений Львович попрошайничал именно возле Балтийского вокзала, Матвей пока ни разу его не встретил, потому что попрошайничал тот под землей, в извилистом переходе между станциями метро и наверх поднимался крайне редко. Он сидел у кафельной стены перехода, словно крот, и не видел дневного света.
Миша был контрактником, который в свое время прошел Сирию, и типичным фронтовиком с деформированной психикой, которому было скучно там, где не было огнестрела и возможности стрелять в людей. Он постоянно улыбался, чурался психоактивных веществ, потому что и без них был достаточно двинутым, и почему-то считал Матвея гомосексуалистом, однако относился к нему доброжелательно.
- Ты не такой простой, раз тебя сюда Асфар Юнусович посадил. Сам понимаешь, на геру нормальных людей не садят. Нервы нужны железные, чтобы работать с этими шириками, - объяснял Миша, - не думай, что я зашквариться боюсь. Я об этом вообще не думаю. Я стрелять люблю. В Алеппо я не только стрелял, но и головы резал…
Матвей с перекошенным лицом слушал словоохотливого Мишу и осознавал, что перед ним сидит вскормленный боевыми действиями маньяк.
- Прикольный ты тип, - посмеивался тот, - сначала был халдеем, потом блатняк на баяне играл, а теперь хмурым торгуешь. Если бы еще бросил всю эту хуйню, которую ты себе колешь… Плохо, что ты тоже наркот.
- Я бросаю, - мрачно возражал Матвей, поддерживая беседу.
- Э-э, нет, так не бросают. Бросают, когда вообще не колются. А ты колешься. Поэтому ты тощий, как насекомое.
Пожалуй, если бы Миша познакомился с ним раньше, то сокрушался бы сильнее, потому что Матвей за два месяца немного поправился и весил теперь почти шестьдесят килограммов.
- Я когда с Сирии вернулся, стал работу искать и устроился в «Евросеть» охранником. Месяц там сидел и судоку разгадывал, - говорил Миша, завершая предложения тихими смешками, - потом надоело баклуши бить, и я в чоп устроился. А начальник чопа порекомендовал меня службе охраны, потому что я часто людям руки ломал, когда их винтил. Стал квартиру в центре снимать, а через полгода гелен купил. Мне даже в армии меньше платили, прикинь?
Матвею хотелось горестно простонать, но Миша был непредсказуемым собеседником, поэтому он держался, вместо этого болезненно вскидывая брови. Бесспорно, торговать одному было бы немного скучно, однако истории из жизни кровожадного кшатрия, одетого в камуфляж, не особо скрашивали досуг, они лишь нагоняли едва ощутимую жуть, которая незаметно проползала в голову и разбухала там неприятным черным комком.
- Здорово, конечно, что ты тоже ствол таскаешь, но ты не бойся, - не унимался Миша, расслабленно откидываясь на водительское сиденье, - я два года обезьян через прицел наблюдал, а в этих дохляков тем более попаду. Для меня это курорт, а не работа.
- И часто приходится стрелять? – настороженно спрашивал Матвей.
- Да, иногда приходится, - с бытовой небрежностью произносил Миша, и от непринужденности его тона у Матвея холодело в солнечном сплетении.
Провода опутывали придушенный смогом Петербург, как липкая паутина, и в ней огромными пауками ворочались жирные, тягучие, смолисто-черные тучи, похожие на вязкие комья опия-сырца. Совсем недавно минул безрадостный мглистый полдень. За тонированным окном гелендвагена, в котором отражался профиль Матвея, переливались искусственным огнем цветастые вывески. Их свет рассеянными пятнами ложился на широкие арки и двустворчатые деревянные двери, через которые в Балтийский вокзал набивались люди. Люди сливались в тянущуюся серую массу и издавали нечеловечески монотонный гул пчелиного улья. Под белым округлым сводом стояла женщина в фиалковом платье, на плече которой спокойно полулежал серый британский кот с плоской мордой. Она придерживала тучное тельце кота, прижимая его к себе, а тот с важным видом осматривал окружающий мир. На плитке перед каменными ступенями валялась наполовину обглоданная вяленая вобла.
Миша сидел за рулем, перебирал гранатовые четки, бусины которых бились друг об друга с глухим стуком, и не останавливал скользящего взгляда, который непрерывно сканировал местность. Матвей, одетый в новые джинсы и длинный синий свитер крупной вязки, из-под острого ворота которого выглядывал воротник рубашки, сидел сзади, и расслабленно курил. Справа от него лежали на сиденье пистолет, большой плотный зиплок с расфасованными граммами и скромных размеров рюкзак, куда Матвей складывал полученные деньги. Уткнувшись носом в смартфон, он читал твиттер и морщился.
Фанатичные оппозиционеры и фанатичные ватники были ему одинаково противны. Особенно много их ошивалось в твиттере Глеба. Глеб до сих пор отстаивал невиновность Юлии Черных, которую три месяца назад арестовали за одиночный пикет и теперь тянули ход дела, добивая голодающую Черных бюрократической волокитой. Занимался он этим не от своего лица, а от лица правозащитной организации «Цикута», и в комментариях неизбежно сталкивались либеральное крыло, которое писало про фашистский режим, и консервативное крыло, которое обзывало их пидарасами, жидомасонами и шестерками «тупых пендосов».
Отвлекшись на судорожный стук, Матвей заметил за отражением своего лица, на котором брезжила оранжевым точка сигареты, слабый женский кулак в кожаной перчатке, стучащий по стеклу с удивительной для такой комплекции силой. Вскинув брови, Матвей узнал в неприятной женщине, которой можно было дать тридцать лет, некогда румяную Ладу. Она сутулилась, словно стеснялась себя и дряхлеющего без надлежащей терапии тела. Кусая губы, она куталась в неуместную сейчас теплую куртку, которая была ей великовата, и время от времени дрожала всем телом. Бледное лицо покрывала испарина, а глаза были черными от широких зрачков и набирающей мощь абстяги.
Матвей изможденно прикрыл глаза. Он вспомнил, какой общительной и зажигательной была Лада полтора года назад, и ему стало не по себе. Он чуть ли не кожей ощутил ход времени. Своих героиновых клиентов он никогда раньше не видел, и сравнивать ему было не с чем. А вот Ладу он прекрасно помнил. Романтической любви он к ней не испытывал, но было нечто вроде полового влечения, которое, впрочем, сошло на нет, когда она заинтересовалась опиатами. Сжав губы, Матвей высунул в узкую щель татуированные пальцы.
- Матвей! – воскликнула она, узнав длинные суставчатые пальцы с неровными линиями татуировок. Беззвучно охнув, она торопливо сунула ему в руку хрустящие пятисотки. Выровняв деньги, влажные от потеющего кулака, Матвей убрал их в рюкзак.
- Быстрее, пожалуйста! – вскрикнула Лада, потаптываясь на месте. Матвей сглотнул. Он легко мог вновь заслужить ее благосклонность, и Лада охотно пошла бы на контакт, но вряд ли руководствуясь при этом их прежними доверительными отношениями, повторить которые не представлялось возможным. Даже если не учитывать аспект доверия, склонить к сексу Ладу, будучи столь нужным ей наркодилером, было плевым делом, но Матвею нужно было совсем не это. Ему хотелось хотя бы возобновить дружеское общение, не омраченное этическими нюансами, а на большее он не претендовал. К тому же, Лада была неизлечимо больна.
- Матвей! – сипло взвизгнула она, нехорошо оскалившись. Он искривился и высунул за окно два пальца, сжимающие зиплок с серо-розовыми камнями. Забрав желаемое, Лада резко развернулась на месте, взбежала по темно-серым ступеням вокзала настолько быстро, насколько это позволял абстяжный колотун, и скрылась за качнувшейся деревянной дверью. Матвей протяжно вздохнул и выбросил дотлевший окурок на асфальт парковки.
Сбыв тридцать граммов, что было хорошим уловом, Матвей сказал Мише, чтобы тот ехал на Сенную площадь. За холодным черным фильтром тонировки сливались в босховское полотно стальные ворота запертых арок, дома старого фонда, давящие суровостью возраста, и горячее сияние реклам. Матвей гнал от себя гнетущие воспоминания, но безуспешно: они вдруг перескочили с Лады, судьбу которой предопределил присущий опиатам фатализм, на Гошу Ломакина. Две недели назад Ломакин ни с того ни с сего объявился, чем крайне огорчил Матвея, и решил купить аж двадцать граммов мефедрона. Матвей отправил его на адрес и выполнил поручение Гриши. Ломакин снова исчез. На этот раз, кажется, не по своей воле и надолго.
- Ты можешь припарковаться где-нибудь на пару минут? – спросил Матвей, пряча глаза, когда гелендваген проезжал над стеклянно-черными волнами Фонтанки. Миша с непонятной эмоцией покосился на него:
- Ты прям в машине колоться собрался, что ли?
- А что, мне еще два часа ждать?! – нервно повысил голос Матвей.
- Понял, понял, уже паркуюсь, - пошел на попятную Миша, пытаясь его успокоить, и медленно крутанул руль, - только не психуй.
Автомобиль повел квадратной мордой и подъехал к обочине. Над дорогой спазматически дергалась выцветшая растяжка с советской красной звездой, георгиевскими лентами и безликими профилями в солдатских касках. Дополнял композицию высокий, но не соответствующий истине лозунг: «Слава и почет нашим предкам, погибшим ради Великой Победы». Последний ветеран Великой Отечественной скончался в двадцать седьмом году, когда уже мало кто помнил, с чего эта война началась и как проходила. В памяти остался лишь факт победы, которая несомненно была великой просто потому, что это была победа. Советских мертвецов водружали на хоругви по инерции - гордиться нужно было хоть какой-нибудь войной. Позже стараниями государства старых ветеранов сменили новые, сирийские. Вот только новой войной гордиться было неловко и даже стыдно.
Матвей достал из кармашка рюкзака кухню и торопливо разложил ее на сиденье. Сжав угловатыми коленками фурик с водой, он высыпал в воду полграмма мефедрона, и в салоне запахло больницей. Миша наморщил нос. Завертелась юлой металлическая игла, закружился желтеющий водоворот белой взвеси, которая осела в кусочке ваты, и шприц наполнился бледно-желтым, как моча, готовым раствором. Закатав левый рукав, Матвей нашел скромных габаритов вену и принялся копаться иглой под кожей. Приноровился он не сразу и взял контроль лишь с четвертой попытки, после чего грубо надавил на поршень, дожав его до самого конца.
Матвей обмяк, будто его ударили по голове, и размазался по сиденью, а изо рта вырвался тихий стон – сдавленный, словно кто-то сжал его легкие, не давая дышать полной грудью, и полный скоротечной любви к ближним. Горло наполнилось теплом, которое омыло тело и мозг юркими бурунами, а Миша, салон гелендвагена и нелепая в своем утверждении растяжка на несколько секунд обзавелись прозрачно-желтой вуалью.
- Поехали… - обессиленно махнул рукой Матвей, стискивая зубы и даже не пытаясь сесть ровно. Следующие пять минут он шумно дышал и пытался оправиться.
Вторая точка располагалась на отшибе Сенной площади, в закутке между спуском в метрополитен и торговым центром. На противоположной стороне площади до сих пор функционировало кафе «Кристалл». Иногда Матвея так и подмывало заглянуть туда в поисках старых лиц, однако он всегда находил причины этого не делать.
В условленное время в окно постучала Катерина Ивановна - сухопарая женщина лет сорока, одетая в легкий синий плащ, которая вела на поводке бело-рыжего беспородного щенка. Щенок смешно переставлял лапы, а слишком большие для его пропорций уши качались в такт движению.
- Как поживаешь, Геронька? - сладко заулыбалась женщина, когда Матвей наполовину приспустил стекло, и уставилась на него бледными из-за крошечных зрачков глазами. - Как работа?
- Мрак, тлен и серая рутина, - попытался проворчать Матвей, однако губы разъехались в блаженной улыбке. Катерина Ивановна была осведомителем ФСКН и героинщицей старой гвардии с двадцатилетним опытом употребления. Вчера Гриша сказал, чтобы Матвей от его имени бесплатно выдал ей три хороших грамма – в знак благодарности за выполненное поручение.
- Надо же, ты только что поставился, - констатировала Катерина Ивановна, кокетливо склонив голову набок. Лицо и поза Матвея были слишком красноречивыми, хотя пик прихода уже миновал: тяжело блестели почерневшие глаза, едва слышно бились друг об друга зубы, а движения были проникнуты утренней негой. Матвей вручил Катерине Ивановне зиплок всё с теми же серо-розоватыми камнями, и та галантно приняла его, словно это был подарок любовника.
- Сегодня розовый? – с долей недоверия посмотрела она сначала на зиплок, а потом на Матвея. – Ты все цвета радуги перебираешь, дружок?
- Можешь не брать, если не хочешь, - уверенно улыбнулся он. Катерина Ивановна поджала губы, но положила зиплок в карман плаща и удалилась из поля зрения вместе с косолапым щенком.
«Всегда срабатывает», - произнес про себя Матвей. Эта фраза действовала безотказно, каким бы тоном её ни говорили. Покупатель неизбежно соглашался, потому что не находил в себе сил отказаться от наркотиков, которые уже были у него в руках.
Поработав напоследок возле Апраксиного двора, Матвей попросил Мишу отъехать подальше и взялся за подсчет полученных денег. Набралось двести сорок тысяч рублей, тридцать тысяч из которых он отдал Мише. Деловито пересчитав купюры, тот тепло улыбнулся и убрал их в карман камуфляжных штанов. Утверждая, что настоящие деньги делают на медленных, Гриша ни капли не лукавил. Матвей сначала не осознавал серьезность его заявления, хоть и понимал, что денег героин приносит много. Но одно дело – абстрактное «много», и совсем другое – конкретные шестизначные числа.
Однако день, начавшийся хорошо, закончился несколько скверно. Уже по приезде домой Матвей заметил в ленте твиттера свежее селфи довольной Сони, которую он утром снова отоварил в долг. Ехидный кошачий взгляд, расширенные зрачки и глумливую улыбку дополняла приписка, полная желчи и самодовольства: «когда твой дилер тряпка».
Матвей нахмурил брови. За плечами Сони виднелся Асин чердак: узорчатый сиреневый платок с бахромой, дугой висящий под деревянным скосом, и золотистая музыка ветра из дешевого пластика, подрагивающая каскадом полупрозрачных дельфинов. В голову немедленно пришел план действий. Ася ответила на звонок без спешки, буквально на последних длинных гудках, и Матвей услышал ее заспанный голос – голос человека, застигнутого врасплох:
- Матвей, это ты? Что-то случилось?
- Соня у тебя? – спросил он, расстегнув на воротнике рубашки душащую пуговицу.
- Да, она сейчас спит. Передать ей что-нибудь?
- Ничего не надо передавать, - отчетливо проговорил Матвей, - она вообще не должна знать, что я скоро у тебя буду. Сделай вид, что я тебе не звонил, и постарайся удержать ее дома, пока я не приеду, если она вдруг проснется.
- А в чем она провинилась, раз ты так пытаешься ее выловить? – с подозрением поинтересовалась Ася.
- Задолжала денег и повела себя некультурно, - ответил Матвей после задумчивого промедления.
- Я ей, конечно, ничего не скажу и помогу тебе. Но за тобой должок. Мало ли, вдруг ты сможешь меня выручить, когда я попаду в неприятности. Ты ведь теперь важная шишка.
- Договорились, - ответил Матвей, - но помни, что я могу разрулить ситуацию, если ты столкнешься с ментами или нашей конторой. А с эшниками я ничего сделать не смогу. Это совсем другая структура, к которой я вообще не имею отношения.
- Любая помощь хороша, - философски произнесла Ася, - приезжай. Дверь будет открыта.
☸
Когда убер подъехал к синевато-белому деревянному забору, Матвей хрипло попрощался с водителем и выскочил из салона, как готовая разжаться пружина. Как можно тише отворив калитку, он скользнул в серый от почвы и пыли дворик, где жался к земле частный дом из красного кирпича. Входная дверь, измазанная потеками белой эмали, тоже поддалась без шума, и Матвей оказался в кухне, где дымно-сладко пахло недавней анашой. На пыльном подоконнике стоял керамический горшок с красной геранью, по желтеющему листу которой медленно полз мелкий алый паучок, под светом люстры напоминающий кровавую точку. Над столом, где стояли две чашки дышащего паром чая, красовалась размашистая надпись, сделанная черной краской. «Жених приехал», - гласили готически-резкие буквы, тянущиеся к полу застывшими потеками. Под надписью сидела в продавленном кресле Ася, и на правой стороне ее лица играли светло-голубые переливы медленно бурлящей лава-лампы, что располагалась на кухонной тумбочке. В увядшем свете тонкая шея, уместная скорее на теле девочки-подростка, и невысокая фигурка, закутанная в вязаную кофту, казались несколько ирреальными, будто Ася принадлежала какому-то другому миру, сопряженному с этим.
- Садись, подождем немного, - пригласила она Матвея движением руки и поправила большие очки в толстой квадратной оправе, сползшие на кончик носа, - вряд ли она долго проспит. Она упоролась в щи, напоследок еще и колесом закинулась. Не представляю, как она вообще в таком состоянии умудрилась заснуть.
- Если через полчаса она не спустится, я ее сам разбужу, - вежливо возразил Матвей, и его лицо нехорошо дернулось, но он быстро спрятал это чувство и сел за стол. Ася равнодушно пожала плечами:
- Как пожелаешь. У тебя наверняка дела, не можешь же ты до утра её ждать.
Следующие двадцать минут Матвея и Ася курили, стряхивая пепел в треснутую пиалу, вполголоса беседовали и радостно посмеивались, как и подобает встретившимся после долгой разлуки друзьям. Когда Соня спустилась с чердака и вошла в кухню, со скрипом ступая по деревянным доскам пола ступнями, обтянутыми нейлоном, Ася заметила ее не сразу. Однако Матвей, настроенный на резкую, но справедливую беседу, повернул голову в ее сторону, как пикирующий стервятник. На этот раз Соня была без парика, и стало ясно, что стрижена она коротко. Черные пряди ложились на уши, но не скрывали мочек, на которых покачивались тяжелые золотые серьги, а блестящее сапфирово-синее платье, открывающее колени, было изрядно помято.
- Наконец-то встретились, Соня. Как ты спала? – ослепительно улыбнулся Матвей, резко встав с места и шагнув в ее сторону.
- Так себе, - осторожно ответила Соня и нервно облизнула красные губы. Весь её вид выражал готовность порывисто метнуться в сторону, если вдруг Матвею придет в голову на нее напасть. А Матвей расслабленно стоял перед ней, держа руки в карманах и улыбаясь самодовольно, но без должного дружелюбия.
- Помнишь, ты просила, чтобы я тебе в долг продавал? – он сделал еще один шаг в ее сторону. – Оказывается, моя участливость тебе не так уж и нужна. Видимо, ты наконец обогатилась, уволилась из своего лупанария и собралась в Грузию. Вот я и пришел поздравить тебя со сбывшейся мечтой. И деньги свои забрать. Все двадцать две тысячи, до последнего рубля.
Ася опасливо глядела на то на Соню, уже не скрывающую смятения, то на Матвея, который был полон решимости и вел себя непривычно уверенно. Последние полгода они виделись исключительно мельком, когда Асе требовалась его профессиональная помощь, и она успела забыть, что Матвей из себя представляет. А сегодня она поймала себя на том, что уже не видит в Матвее немногословного юного наркомана, который тянул лямку на отшибе жизни и вел себя соответственно. Впрочем, немногословность в нем сохранилась, но теперь это была немногословность человека, который наконец-то стал из нуля кое-кем, распробовал прелесть нового положения и благополучно с ним сросся.
- Толку с того, что тебя подобрал невский синдикат? Как был лошком, так и остался лошком! – вдруг выкрикнула Соня, поддавшись врожденной вспыльчивости. О побеге она забыла и гордо выпрямилась, словно хотела задавить Матвея габаритами, как это делают конкурирующие животные. Матвей размахнулся и, не жалея сил, ударил ее кулаком по лицу.
Ася чуть не поперхнулась чаем, но неловко отвела взгляд. До нее стало доходить, что просьба Матвея может привести к не самым хорошим результатам, но идти на попятную было уже поздно. С неловким видом она чуть сжалась, став похожей на птенца, поставила кружку на стол, и ее глаза напряженно заблестели.
От удара Соня чуть не упала, но вовремя выпрямилась, уцепившись за подоконник. Видимо, она до последнего не верила, что Матвей, будучи мужчиной, сможет так увесисто ее ударить.
- Попробуй только тронь меня снова! Хочешь нарваться на моего сутенера? – прикрикнула она на него.
- Ты неправильно задаешь вопрос, Соня. Хочет ли твой сутенер нарваться на меня? Он знает, сколько ты мне должна?
- У меня сейчас нет денег! – еще громче крикнула она, широко распахнув глаза.
- При чем тут вообще деньги? Я постоянно вхожу в твое положение, иду на уступки, а ты этого не ценишь и считаешь, что я обязан прощать тебе хамство. Воспитанные люди так не поступают. Они беседуют тет-а-тет и уж точно не выносят такую щекотливую ситуацию в публичное пространство, - веско изложил Матвей все свои аргументы и крепко схватил ее за правое запястье.
- Где я сейчас возьму деньги? Где?!
- В пизде! – не выдержал Матвей и другой рукой схватил Соню еще и за горло. – Тебе напомнить, зачем существуют ломбарды?!
По-змеиному вывернувшись, Соня выскользнула из хватки Матвея и побежала в узкий коридор, который заканчивался туалетом. Матвей бросился вслед за ней, но когда он тоже скрылся в коридоре, оглушительно хлопнула деревянная дверь туалета, почти черная от влаги и времени. Полная плохих предчувствий, Ася осторожно пошла туда, куда переместилась разыгрывающаяся драма. Ей очень не хотелось, чтобы Соня принялась показушно резать руки у нее дома. Теоретически Соня была на это способна. Завидев приближающуюся Асю, которая за последние пять минут заметно омрачилась лицом, Матвей шепотом спросил:
- Там же нет окна? Она не вылезет?
В знак отрицания Ася помотала головой. Матвей припал ухом к крепкой еловой двери и прислушался. Из туалета тягуче пахло прелыми тряпками. Резких звуков не доносилось. Видимо, Соня заняла удобное место и теперь выжидала.
- Женя, Женечка, пожалуйста, приезжай скорее! – вдруг истошно завопила она, заставив их вздрогнуть. – Мой дилер пытается меня избить! Он объебан в мясо, он в туалет ломится!
- Врешь ты всё, - мрачно сказал Матвей, который был практически трезвым и никуда не ломился. Чтобы придать своим словам убедительность, Соня остервенело заколотила кулаком по двери:
- Он сейчас дверь выбьет! Пожалуйста, Женечка, скорее!
«Лучше бы он не приходил…» - смутно подумала Ася, косясь на Матвея, который буравил дверь туалета похоронным взглядом и с затаенным остервенением грыз ноготь.
- Если она сюда своего мента притащит, и проблемы начнутся еще и у меня, то делай, что хочешь, но прикрой меня. Понял? - сказала Ася Матвею, с высоты своего роста ткнув его пальцем в ребра.
- Да понял я уже, - негромко произнес он.
- Он совсем рядом, он сейчас приедет! Лейтенант, мальчик молодой! Свернет тебе шею и сбросит в Неву. Твой труп пойдет на дно, и его обглодают ры-ыбы! – глумливо протараторила Соня, сорвавшись к концу выкрика на глумливый фальцет.
- Бля… - глухо выдавила Ася. Не став попусту кричать на Соню и Матвея, которые втянули ее в историю, она кинулась обратно в кухню, к тумбочке, где хранилась ее свежая заначка – плотно набитый спичечный коробок. Отыскав в полупустой сахарнице коробок, туго обмотанный пищевой пленкой, Ася обула калоши и побежала в огород, намереваясь спрятать заначку на нейтральной территории, в канаве между своим и соседским забором.
Заступник Женечка почему-то не торопился. Приехал он только через полчаса. Всё это время Ася с Матвеем сидели под дверью туалета и курили, обмениваясь неловкими репликами. Соня предвкушала спасение, поэтому сидела тихо и больше не кричала.
Когда «Женечка» наконец приехал, Матвей увидел румяного молодого мента, одетого в синюю форменную куртку на молнии, брюки с острым кровавым кантом и фуражку с красным, как пух на грудке снегиря, околышем. При виде лейтенанта, который мягким овалом лица производил милое впечатление, говорил ласково, но при этом вел себя нагло, как и полагается власть имущему, Матвей даже обрадовался, но виду не подал. Это оказался лейтенант Пирогов, у которого он покупал пистолет. За весьма жирный процент мелкий сутенер и лейтенант МВД Пирогов крышевал проституток, а на связь с Матвеем выходил, когда ему нужно было в очередной раз купить мефедрон. Покупал он не для себя и брал десятками граммов, чтобы стимулировать работающих на него проституток, за старания выдавая им доппаек.
- Опа, Герыч! Ты что тут делаешь? – искренне удивился он, войдя в кухню и завидев в шершавых стенах коридора знакомое угрюмое лицо. Сжав в зубах сигарету, Ася прошмыгнула мимо Пирогова на кухню и заняла прежнее место. Матвей выпрямился, отряхнул одежду и произнес, словно прочитав его мысли:
- Я трезвый, ударил ее всего один раз и в туалет не ломился. Она врет.
- Да, Соня бывает очень пиздливой. Она должна тебе? Сколько?
- Двадцать две тысячи, - сказал Матвей.
- Думаю, можно дать ей немного времени… - произнес Пирогов сдержанно, но твердо.
- Она тянет уже пять месяцев, - объяснил Матвей, дернув уголком рта, - разве это нормально, Жека?
Пирогов почесал в затылке, задумчиво нахмурился и наконец заключил:
- Это, конечно, ненормально.
Кое-как уговорив Соню выйти из туалета, он участливо, но с долей угрозы разъяснил ей ситуацию. Обосновались они на кухне. Ася со злым лицом курила одну сигарету за другой, а Матвей, сложив руки на груди, стоял возле окна с красной геранью. Бесспорно, Пирогов опекал Соню, однако в деле была осложняющая переменная - финансовый интерес другой стороны, который нельзя было оставить неудовлетворенным. Потирая ладонью опухшую от удара щеку, которая наливалась железно-фиолетовой синевой, Соня оскорбленно куксилась.
- Но он меня ударил! Он меня за шею хватал!
- А Лосось тебя вообще налысо побрил. Радуйся, что Герыч гуманист и всего лишь ударил, - образумливал ее Пирогов. Соня слегка надула губы и тягуче заныла:
- Что мне с синяком делать? У меня щека раздувается…
- Замажешь, - лениво бросил он.
Не без помощи Пирогова выяснилось, что Соня может вернуть всего шесть тысяч, но и те хранились у нее дома. Однако было смягчающее обстоятельство в виде золотых серег, которые она уже не раз закладывала в ломбард, и всякий раз старик-оценщик давал за них аж десять тысяч рублей. Услышав об этом, Матвей вспомнил золотое кольцо матери, тянущее на пять тысяч, и ему захотелось завистливо присвистнуть. А лейтенант Пирогов тем временем начал выполнять свои прямые обязанности.
- У вас шмалью пахнет… - многозначительно произнес он, глядя на Асю, которая была официальной владелицей жилья, но косясь еще и на Матвея. В его прищуре просматривался неприкрытый расчет. Матвей поморщился. Пирогов явно клонил к компромиссу, чтобы осуществить свое главную функцию и облегчить участь Сони.
- Мы с Герычем старые друзья, - сориентировалась Ася. Вскинув подбородок, она метнула в Матвея колючий взгляд.
- Да, это так. Мы дружим уже два года, - подтвердил он, пристально глядя на Пирогова. Соня жалась к сухой побеленной стене, совершенно не думая о пятнах на мерцающем платье, прикрывала ладонью темно-синее вздутие, выпятившее левую скулу, и напряженно ожидала развязки.
- Окей, Герыч, окей. Давай поступим так. Вы вдвоем едете к ней домой за деньгами, а потом сдаете серьги в ломбард. Ты забираешь деньги и делаешь вид, что она вернула долг полностью. А я делаю вид, что ничего не заметил, и забываю этот адрес, - наконец нарушил тишину Пирогов.
- Договорились, - ответил Матвей, подумав. Пирогов довольно усмехнулся. Соня серией щипков подтянула сползшие колготки и отправилась на чердак за сумкой.
- Если сбежишь от него или кинешь с серьгами, отобью почки! – пригрозил Пирогов ей вслед. – Будешь кровью ссать!
- Да не убегу я, - буркнула та через плечо.
Собравшись, Соня лишь ухудшила неприятное впечатление, которая производила неказистым видом: из-под короткой кожаной куртки выглядывало мятое платье, вымазанное на спине белым, а желтая сумка в зеленую леопардовую крапинку максимально диссонировала с пухлым бугром гематомы. Приличные элементы внешности жирно подчеркнули общую неряшливость и потасканность.
- Пожалуйста, не сердись, - напоследок сказал Матвей Асе, взяв ее хрупкие руки в свои ладони, и виновато улыбнулся. Ася скривила лицо, но сменила гнев на милость и сжала его руки в ответ. Когда это было необходимо, Матвей умел быть умоляюще-галантным. Это было еще одно свойство, унаследованное от отца, который наверняка точно так же сжимал руки Елены Алексеевны Грязевой, пытаясь сгладить острые углы, дыша на трезвую и злую Елену Алексеевну перегаром.
Дождавшись машину, Матвей усадил Соню на заднее сиденье, сделав это равнодушно и уже без галантного трепета, и расположился рядом. Путь до Нового Петергофа предстоял весьма долгий и дорогой.
Все полтора часа Соня кривила рот и стискивала зубы, обижаясь без прежнего показного кокетства, которое предназначалось для падкого на женщин Пирогова. Когда убер остановился прямо перед двухэтажным домом, где раньше жил и Матвей, она неуклюже вылезла, впечатав туфли в грязь, и шумно выдохнула. Женственность и грация были присущи ей лишь на работе и в короткие периоды мефедронового опьянения. Без мефедрона и соблазнительной маски Соня вела себя неприветливо и даже хабалисто.
Следуя за ней, как конвоир, Матвей фиксировал пейзаж, частью которого он некогда был. Прошел почти год, и рыжий кирпич выгорел под немощным солнцем, а двухэтажная коробка с узкими окнами как будто бы неуловимо просела, зарывшись в сырую землю. Чахлость парадной усугубилась: деревянные ступени рассохлись, с открытой двери коммуналки свисали неровные куски дермантина, а на серой стене возникло целое полотно из матерных выражений, которые передавали эмоцию, обуревающую автора, но никак не словесный посыл. Прозрачные стекла в круглом окне сменились желтыми, но и по ним уже змеилась молния трещин. Под подоконником валялись пустой блистер «Свежести-32» и винная бутылка с хрустнувшим горлышком.
Заведя Соню в квартиру и ступив на истертый клетчатый линолеум, Матвей впервые осознал, что в его новой квартире планировка точно такая же, но комнаты заметно просторнее – и все они принадлежат ему. Соня ввалилась в свою комнату, и ее грязные каблуки дробно застучали по паркету. Матвей остался ждать в коридоре.
- Кто там приперся? Чего ты в вещах роешься? – донесся из комнаты Сони мужской голос - заспанный, молодой и гоповатый.
- А ну заткнулся! - прикрикнула она, и молодой мужчина выполнил приказанное.
Пока Соня искала деньги, Матвей заметил мелькнувшего в кухонном проеме Евгения Львовича и окликнул его по имени. Когда тот, шаркая тапками, подошел к Матвею и вытер жирные пальцы о спортивные штаны с вытянутыми коленями, стало заметно, что он сильно поседел и стал красновато-припухлым. Темная искусственная рука заметно износилась и покрылась царапинами.
- Давно я тебя на Болтах не видел, Матюша, очень давно… - проговорил Евгений Львович, нетрезво сцепляя волочащиеся слоги.
- Я опять там работаю, - невесело усмехнулся он, - может, пересечемся, если повезет.
- Правда? И в какой должности? – спросил Евгений Львович. Нерешительно помолчав, Матвей перестал улыбаться:
- Да так, торгую…
- Глупый я, конечно, вопрос задал… Ничего, зато не в гробу.
- Это уж точно, - издал Матвей едкий смешок.
Демонстративно вручив Матвею шесть серых купюр, Соня на глазах у Евгения Львовича обозвала его тварью, а Матвей дал ей легкий подзатыльник. Спускаясь по скрипящей лестнице парадняка, они устало обменивались оскорблениями. Перепалка была вялой, словно они не очень-то хотели этим заниматься и ненавидели друг друга по инерции. Евгений Львович проводил их мутным взглядом, задумчиво пожевал губы и пошаркал обратно на кухню.
Пасмурное полотно вечернего неба бугрилось над узким, как плацкартный вагон, переулком, и неоновой вывеской ломбарда, которая роняла на асфальт маслянисто-желтый свет. В рябой желтизне, расстелившейся у него под ногами, Матвей заметил белое трафаретное слово размером с голубиную тушку - «@playa».
«Надо же, до сих пор не закрасили», - удивился Матвей, вспомнив, что в последний раз нанимал трафаретчика, когда жил на Гражданке. Выбор трафаретчика был циничным, но коммерчески выгодным – узкий пятак перед крыльцом ломбарда, который располагался в не самом благополучном районе Петербурга и собирал вокруг себя соответствующий контингент.
В ломбарде пахло старыми газетами и пылью, а за допотопной белой решеткой сидел все тот же седой старик, чье сахарно-бледное лицо выражало скептицизм. На вид ему было около восьмидесяти лет, однако для его возраста рассудок помутнел почти незначительно. Обменяв золотые серьги на залоговый билет и деньги, Соня театральным жестом сунула десять тысяч Матвею в руки.
- Подавись, гнида, - процедила она сквозь зубы и вышла из ломбарда. Надрывно звякнул висящий на двери колокольчик. Матвей заметил, что оценщик оглядывает его с чувством узнавания, понимания и плохо сглаженной брезгливости.
Он вышел на улицу и легко вздохнул. Отныне находиться в Новом Петергофе было бессмысленно.
Поддавшись легкому чувству ностальгии по прежним местам, Матвей пересек пустырь, колосящийся травой и слабыми венчиками полевых цветов, и добрел до станции, где сел на электричку. Прислонившись виском к толстому оконному стеклу, он провожал взглядом торопливо ползущие деревья, частные дома, обнесенные заборами, и петляющие среди сероватой зелени речушки. Балтийский вокзал встретил его до сих пор идущими старинными часами, фонтаном из черного мрамора, чьи струи прерывисто бились об воду, и киви-терминалами, которых стало еще больше. Матвей невольно выцепил боковым зрением дверь общественного туалета, где он раньше часто кололся, но сдержал бегущую вперед него мысль и вышел на каменно-прохладное крыльцо, под тень арочных изгибов.
Когда он спустился по массивным ступеням и закурил, сверкнув в вечернем сумраке серебряной гравировкой портсигара, его тихо окликнули. Повернувшись, Матвей увидел Ладу, которая стремительно сокращала расстояние между ними. На ее раскрасневшемся лице, которое она на бегу почесывала, читалась озадаченность. Несмотря на крошечные, как игольное ушко, зрачки, вид у нее был не самый радостный. Видимо, она дошла до стадии, на которой героин требовался для поддержания сносного состояния, но никак не для переживания праздника.
«Сейчас и она начнет просить», - угловато изогнул губы Матвей. Однако Лада задала вопрос, который он от нее вообще не ожидал услышать. Особенно теперь, когда прошло столько времени.
- Ты знаешь, куда пропал Марат? Он жив? – спросила Лада.
- Его убили, - сказал Матвей и невротично затянулся. Ему и раньше не хотелось лишний раз обсуждать с кем-то жизнь Марата, а когда тот умер, нежелание лишь обострилось. Облик равнодушного, как среднеазиатская рептилия, Марата постепенно стирался из памяти и терял свои характерные черты, превращаясь в стандартизированный слепок, смазанную посмертную маску. Но воспоминания оставались, и ворошить их было гадливо.
- Убили? Ты уверен? Ты видел это собственными глазами? – встрепенулась Лада. Руки, скрытые красными перчатками, крепко сжали засаленный воротник куртки. Матвей стряхнул столбик пепла, и малая его часть осела на кроссовках Лады, рассыпавшись на серые сегменты. По воздуху катился звучный гул кипучего мегаполиса, в котором смешались тиканье светофоров, человеческий говор и автомобильные гудки.
- Нет, но я видел, как его увозят. А через полгода Асфар Юнусович сказал, что он мертв, - чуть отстранился Матвей.
- В смысле, Жаров?– округлила она глаза. Но тут же сжала губы, отчетливо очертив тонущий в фонарном сумраке рот.
- Знаешь, кто ты такой? Подментованная сволочь, - негромко произнесла Лада.
- Для меня это не новость, мне часто такое говорят, - с грустной улыбкой сказал Матвей.
- Да если бы ты просто барыга был, я бы не возмутилась. Меня возмущает, что стоило тебе прыгнуть повыше, так ты сразу начал мелочно мстить. Мелочно и подло.
- Чего-о? – искренне возмутился он. Лада на одном дыхании выпалила:
- Ты вообще знаешь, что о тебе говорят? И что именно говорят? Что ты стрелял в дочь главного прокурора, а клиентку, которая чем-то тебе насолила, вообще отравил!
С каждой фразой претензии Лады приобретали конкретику, а Матвей наконец понял, что она имеет в виду погибшую у него под дверью Тусю, портсигар которой сейчас лежал у него в кармане.
- Она сама умерла! – вырвалось у него.
- Не ожидала, что ты так быстро испортишься. Не знаю, что с вами всеми происходит, но в какой-то момент вы становитесь мудаковатыми и теряете берега. Хотя раньше были нормальные ребята.
- Сложно быть не мудаковатым, если вы по-хорошему не понимаете и на шею садитесь, - глухо отозвался Матвей. Лада, которая определенно была вмазанной, выбрала не самое удачное время для выяснения отношений с болезненно трезвым Матвеем. Одно лишь осознание того, что Лада в отличие от него может позволить себе саморазрушение, автоматически подсвечивало шероховатости ее поведения и превращало их в весомые поводы для злобы.
- Какое-то время я думала, что Марат тебе солгал. Но людей без причины не убивают, так ведь?
Матвей отбросил бычок в сторону. Тот мелькнул багровеющей точкой, будто падающая звезда, и растворился в сгущающейся кисельно-синей тьме. Лишь сегодня Матвей вдруг осознал, что многого не знал о противоречивых чувствах Лады. С долей злорадства он подметил в ее словах не только зависть, но и запоздалую ревность, которая довершала зловещий любовный треугольник, состоящий из живого Матвея, чахнущей Лады и покойного Марата, который уже не мог оценить ее любовь по достоинству. Почему-то живой Марат не вызывал в ней отклика, а вот мертвый внезапно стал интересовать. У Лады было крайне иррациональное и загадочное сердце.
- Начнем с того, что я не просил убивать Марата, - возразил Матвей, ощутив под ребрами зарождающееся волнение, - в его смерти виноват лишь он сам, и от меня это никак не зависело.
Подобравшись, Лада с бескровной улыбкой выложила самый главный аргумент, которому специально отвела последнюю очередь:
- Теперь вот думаю, что Марат правду говорил. Просто не было свидетелей, и никто не смог подтвердить.
- Я на сто процентов уверен, что ничего не было, - спокойно сказал Матвей.
- Как ты можешь быть уверен, если вообще ничего не помнишь? Что происходило в те две недели?
Матвей отвернулся от нее и направился в сторону Обводного канала. На окончательно потемневшем небе проступили сквозь пелену промышленных выхлопов серебристые пылинки звезд. За спиной пронзительным эхом отдавались тяжелые шаги Лады, а впереди хрустально подрагивали плошки садовых фонарей.
- Нельзя так жить. Ты теперь в людях видишь только лживых утырков, - продолжала она, - тоже мне, блядь, хастла нашелся. А по-человечески поступать…
- Следовало ожидать, что ты начнешь завидовать и откопаешь эту мутную историю. Хотя я не понимаю, чему тут можно завидовать. Я в крайне шатком положении, - печально произнес Матвей, повернувшись к ней. Они остановились на песчаной тропе Балтийского сада, чахлые деревья которого в темноте казались бурыми, словно на них лежал слой пыли.
- Что дает свежесть, особенно на первых порах? Похоть и невыносимое желание догнаться. Как будто сам не знаешь, на что идут люди. Да в сраный Пушкин прутся ради фурика, пока их не попускает. А когда варщик под боком, да еще и денег нет, то сам бог велел…
- Да пошла ты! – злобно выпалил Матвей. Однако в голове вдруг щелкнула догадка, и его осенило.
- Но вичовая-то из нас двоих – ты, - наконец произнес он. Красноватое лицо Лады полиловело еще сильнее, и она дала Матвею приглушенную перчаткой пощечину. Матвей с ленивым равнодушием, потер горящую щеку – скорее рефлекторно, чем осознанно.
- Я не настолько сволочь, чтобы из-за пощечины продавать тебе исключительно ядовитый бутор, - отстраненно сказал он, - но на поблажки можешь не рассчитывать. Только рыночные отношения. Я тебя не знаю, ты меня не знаешь.
Отвесив ему вторую пощечину, которая оказалась более хлесткой и едкой, Лада развернулась на месте и быстрым шагом, иногда срываясь на бег, устремилась к темнеющей громаде вокзала. Ее каштановые волосы метались по куртке, будто застигнутые врасплох змеи, пытающиеся покинуть обжитую яму.
- Вот же злобная дура… - негромко пробормотал Матвей себе под нос.
Две беспамятные недели пришлись на начало прошлого марта, а провел их Матвей в квартире Марата, который жил на улице Комсомола - между Финбаном и Крестами. Самая дальняя комната, служившая желтушному Марату спальней, была практически приличной и располагалась за железной дверью, которую в присутствии гостей Марат всегда запирал, а увесистый ключ длиной с ладонь носил на шее. Ключ болтался на толстом шнурке и терялся под складками комковатого свитера. В других двух комнатах мебели практически не было, и выполняли ее функцию разных габаритов коробки, ведра и оккупированные клопами матрасы. Клопы плодились, пили загрязненную кровь, смешанную с эфедрином и побочными химикатами, и энергично кусались. Что касается кухни, то готовили там всё что угодно, только не еду. Даже когда Марат ничего не варил, обои по инерции пахли столовым уксусом, ацетоном и растворителем.
Когда Матвей, приходнувшийся уже три раза и потративший все деньги, разлепил глаза и встал с полосатого матраса, на котором несколько часов подряд пребывал в забытьи, стало ясно, что мыслей у него в голове крайне много, но посыл у них совершенно схожий: желание во что бы то ни стало догнаться и, конечно же, сделать это немедленно. Почесав искусанные клопами руки, которые покрылись красноватыми бугорками, Матвей поправил черную футболку, чтобы она прикрывала правый карман, и отправился бродить по анфиладе комнат, в которых суетились незнакомые ему люди. Железная дверь была заперта, и Марата за ней не оказалось, однако Матвей нашел его в ванной.
Прикрыв глаза, тот сидел на краю железной ванной и медитативно курил. Пепел опадал на пол, образуя сиротливые сероватые горстки. Стены были облицованы некогда белой кафельной плиткой и зияли лакунами выпавших осколков, а под потолком антрацитово-черными разводами проступали застарелые мокрые пятна.
- Марат?.. – полувопросительным тоном начал Матвей, осторожно приоткрыв дверь. Марат поднял веки и заметил его землисто-бледное лицо. Матвей чуть ли не впивался пальцами в дверь и пристально смотрел на него ищущим взглядом мономана. Зрачки до сих пор застилали глаза чернотой, а зубы сжимались, и говорил он слегка неразборчиво.
- Что? – с мрачным видом спросил Марат.
- Я хочу догнаться, - сказал Матвей и вкрадчиво шагнул в ванную. Его глаза бегали из стороны в сторону, словно он искал нечто, чего нужно избегать или наоборот не бояться.
- Пятьсот рублей куб, - сказал Марат, не меняясь в лице. На пол упал еще один комочек сигаретного пепла. Дым вился перед лицом Марата, затуманивая его резкие черты.
- Так я уже всё потратил.
- Съезди домой за деньгами.
- Как я туда поеду? – угрюмо спросил Матвей, поведя нижней челюстью. – Электрички уже не ходят, а я в Новом Петергофе живу.
Марат посмотрел на него из-под тяжелых век, замолчал и задумался. В ванной повисла неловкая тишина, прерываемая размеренным звоном капель, срывающихся с крана, и ворчливым гомоном, который доносился с кухни. В соседней квартире раздавался монотонный, как будто бы комариный писк.
- Чего на пороге стоишь? – снова прикрыл глаза Марат. – Заходи, закрывай дверь, раз ты говорить пришел.
Почуяв приближающееся согласие, Матвей закрылся на щеколду. Нечесаные светлые волосы липли на влажный от пота лоб, а глубоко в глазницах жадно блестели глаза. Губы подрагивали в слабой полуулыбке, контур которой стушевывали стучать зубы, уже начинающие стучать. Подавшись вперед и чуть сгорбившись, Марат пристально посмотрел в его темные глаза:
- Отдрочишь? За пять кубов?
Матвей определенно хотел заполучить свежесть любой, даже самой высокой ценой. Вот только он считал высокой ценой совсем другое. У него возникло желание хорошенько измолотить Марата, раз тот не хочет отдавать по-хорошему, и забрать всю его заначку. У Марата не могло не быть заначки. Матвей даже слышал, что это была пол-литровая стеклянная бутылка, заполненная прозрачно-желтой свежестью почти до горлышка. Там явно было больше пяти кубов.
Мысль заняла меньше секунды. Мгновенно взвинтившись, Матвей резким движением выхватил из правого кармана литой молоток с желтой ручкой. Описав в воздухе широкую дугу, рука с молотком устремилась к черепу Марата. Растеряв всю медитативность, тот юрко метнулся вправо. Дымящийся бычок упал в раковину. Одной рукой ударив Матвея по запястью, Марат достал из кармана нож-бабочку и угрожающе ткнул в сторону Матвея.
Завидев даже не нож, а серебристо-стальной отблеск его лезвия, Матвей дернулся назад и прижался к стене, однако молоток не выпустил и предупреждающе занес руку. К землистому лицу прилила кровь, вена на лбу набухла, ноздри мелко раздувались.
- Мозги тебе лечить надо, - совсем уж мрачно сказал Марат, не убирая ножа, - ты какой-то нервный. Пошутил я. Пошутил, понимаешь? У меня злые шутки.
Матвей тяжело дышал и смотрел на него широко распахнутыми глазами, в которых медленно проступало осознание происходящего. Раздался грохочущий стук: кто-то настойчиво бил кулаком по двери ванной.
- Марат! Все уже на кухне ждут! – раздался упрашивающий голос Ирки Ширки, бывшей героинщицы, которой было уже за тридцать. – Когда вариться будем?
- Не мешай, - веско ответил ей Марат, - я с человеком беседую.
Удалились шаги босых ног, и снова повисла гнетущая комариная тишина. Марат и Матвей смотрели друг на друга немигающими взглядами, которые выражали ненависть разной степени. Сложив нож, Марат убрал его за пояс. Так же поступил и Матвей, спрятав молоток и поправив футболку, чтобы топорщащийся карман не бросался в глаза.
- Ты лучший друг Лады, а Ладу я уважаю, - вновь нарушил молчание Марат, - бесплатно я тебе варить не буду, но могу сварить в долг. Баян есть?
Вместо ответа Матвей продемонстрировал кубовый шприц, которым за прошедшие сутки успел воспользоваться уже несколько раз. Марат кивнул. Встав с бортика ванной, он неожиданно спросил:
- Почему молоток-то? Неэффективное оружие. Пока будешь забивать человека, он тебя пырнуть успеет.
- Молотком убивал Пичушкин. Он шестьдесят человек убил, - объяснил Матвей.
- Лечиться тебе надо, - покачал головой Марат, - совсем бардак в голове.
Щелчком пальцев столкнув потухший бычок в слив раковины, он пошел на кухню, где его уже ждали предвкушающие люди самого разного пола, возраста и юридического статуса.
Когда Матвей в конце второй недели пришел в себя, то обнаружил себя гладко выбритым и очень удивился. Видимо, невменяемость никак не повлияла на обыденные привычки.
«Наверное, заморочился», - бегло подумал он, почесывая искушенные руки. Виски кололо изнутри гудящей температурой, в желудке ворочался голод.
А вот куртку Матвей уже не обнаружил. Он отчетливо помнил, что вешал куртку в коридоре, однако теперь её там не было. Должно быть, кто-то надел его куртку, приняв за свою, или вообще вместо своей прохудившейся. На имеющуюся верхнюю одежду даже смотреть было не очень-то приятно. Наиболее приличным вариантом был черный женский бомбер с красными драконами – весь в катышках, явно принадлежащий гостье массивного телосложения, которая еще не успела сторчаться.
Закутавшись в бомбер, который оказался ему несколько велик, Матвей поспешно вышел на улицу Комсомола, обдуваемую холодным валом мартовского ветра. Ледяной ветер бил по кипяточно-горячему лицу, высекал из туловища зябкую дрожь. Впереди в обе стороны тянулись темно-красные стены Крестов, увитые колючей проволокой и мокрые от недавнего дождя. Над улицей Комсомола расцветало пасмурное серое утро.
Дальнейший путь Матвей помнил урывками – пострадавшая за две недели память отказывалась работать как следует. Вроде как он стоял на остановке, вроде как ехал на маршрутке, но окончательное пробуждение состоялось даже не по его воле. Он проснулся, потому что его грубо трясли, ухватив за плечо.
- Молодой человек! Молодой человек! – раздавался прямо над ним надрывный и строгий женский голос.
- А? Что? – едва очухался Матвей. До него дошло, что он лежит под почтовыми ящиками незнакомой парадной, белый потолок которой был украшен лепниной, а зеленые стены с камином шелушились ошметками отстающей краски. От колен Матвея шли вниз широкие каменные ступени, стертые шагами людей, которые уже многие лета покоились на погосте. Перед Матвеем лежала наполовину съеденная маковая булка. Чуть поодаль от него, не скрывая брезгливости, стояла кучерявая женщина лет сорока пяти, одетая в блестящий черный плащ. На плече у нее висела такая же сумка.
- Наш дом не богадельня! – в той же тональности продолжила женщина. – Ты людей пугаешь, нарколыга!
- Радуйтесь, что я хотя бы живой, - проворчал Матвей, поднимаясь и отряхиваясь. Температура не отступила: голову раздувало жаром, а в желудке неприятно тянуло, будто кто-то мягко пальпировал его изнутри.
- Ладно мы, мы в девяностых росли и привычные. Вы тогда пачками везде валялись – и живые, и мертвые. Но ты хотя бы о детях подумай. Что я внукам скажу?
- Что я наглядный пример того, как жить нельзя. С наглядным примером до детей лучше доходит, - буркнул он. Распалившись, женщина сдернула с плеча сумку и огрела Матвея по голове.
- Чего вы деретесь? – обиженно спросил он, ретируясь в сторону выхода. – Я на вас руку не поднимал. И вообще я уже ухожу, успокойтесь…
- Нахал! - устало бросила женщина ему в спину.
Выбравшись на улицу, Матвей с некоторым удивлением понял, что находится на Петроградской стороне. Близлежащие дома прятались за строительными лесами, на которых колыхались сетчато-зеленые лохмотья, а слякотную массу под ногами медленно растапливало жаркое полуденное солнце. Сладко пахло сдобой и свежезаваренным кофе.
«Почему я приехал именно сюда? – тоскливо подумал Матвей. – Зачем я вообще проделал такой крюк? Даже бешеные собаки такие крюки не наворачивают»
Тяжело вздохнув, он пригладил взлохматившиеся волосы и побрел, слабо держась на ногах, в сторону метро. Под дырявыми кроссовками хлюпала, расползаясь в стороны, грязно-снежная помесь. Матвей волок себя по земле ветшающего государства, которое было фашистским по заветам Оруэлла и Умберто Эко, в недрах которого мерцали маслянистая нефть, норильский никель и якутские алмазы, которое сдавало в аренду Китаю сумрачные сибирские леса.
- Садись, подождем немного, - пригласила она Матвея движением руки и поправила большие очки в толстой квадратной оправе, сползшие на кончик носа, - вряд ли она долго проспит. Она упоролась в щи, напоследок еще и колесом закинулась. Не представляю, как она вообще в таком состоянии умудрилась заснуть.
- Если через полчаса она не спустится, я ее сам разбужу, - вежливо возразил Матвей, и его лицо нехорошо дернулось, но он быстро спрятал это чувство и сел за стол. Ася равнодушно пожала плечами:
- Как пожелаешь. У тебя наверняка дела, не можешь же ты до утра её ждать.
Следующие двадцать минут Матвея и Ася курили, стряхивая пепел в треснутую пиалу, вполголоса беседовали и радостно посмеивались, как и подобает встретившимся после долгой разлуки друзьям. Когда Соня спустилась с чердака и вошла в кухню, со скрипом ступая по деревянным доскам пола ступнями, обтянутыми нейлоном, Ася заметила ее не сразу. Однако Матвей, настроенный на резкую, но справедливую беседу, повернул голову в ее сторону, как пикирующий стервятник. На этот раз Соня была без парика, и стало ясно, что стрижена она коротко. Черные пряди ложились на уши, но не скрывали мочек, на которых покачивались тяжелые золотые серьги, а блестящее сапфирово-синее платье, открывающее колени, было изрядно помято.
- Наконец-то встретились, Соня. Как ты спала? – ослепительно улыбнулся Матвей, резко встав с места и шагнув в ее сторону.
- Так себе, - осторожно ответила Соня и нервно облизнула красные губы. Весь её вид выражал готовность порывисто метнуться в сторону, если вдруг Матвею придет в голову на нее напасть. А Матвей расслабленно стоял перед ней, держа руки в карманах и улыбаясь самодовольно, но без должного дружелюбия.
- Помнишь, ты просила, чтобы я тебе в долг продавал? – он сделал еще один шаг в ее сторону. – Оказывается, моя участливость тебе не так уж и нужна. Видимо, ты наконец обогатилась, уволилась из своего лупанария и собралась в Грузию. Вот я и пришел поздравить тебя со сбывшейся мечтой. И деньги свои забрать. Все двадцать две тысячи, до последнего рубля.
Ася опасливо глядела на то на Соню, уже не скрывающую смятения, то на Матвея, который был полон решимости и вел себя непривычно уверенно. Последние полгода они виделись исключительно мельком, когда Асе требовалась его профессиональная помощь, и она успела забыть, что Матвей из себя представляет. А сегодня она поймала себя на том, что уже не видит в Матвее немногословного юного наркомана, который тянул лямку на отшибе жизни и вел себя соответственно. Впрочем, немногословность в нем сохранилась, но теперь это была немногословность человека, который наконец-то стал из нуля кое-кем, распробовал прелесть нового положения и благополучно с ним сросся.
- Толку с того, что тебя подобрал невский синдикат? Как был лошком, так и остался лошком! – вдруг выкрикнула Соня, поддавшись врожденной вспыльчивости. О побеге она забыла и гордо выпрямилась, словно хотела задавить Матвея габаритами, как это делают конкурирующие животные. Матвей размахнулся и, не жалея сил, ударил ее кулаком по лицу.
Ася чуть не поперхнулась чаем, но неловко отвела взгляд. До нее стало доходить, что просьба Матвея может привести к не самым хорошим результатам, но идти на попятную было уже поздно. С неловким видом она чуть сжалась, став похожей на птенца, поставила кружку на стол, и ее глаза напряженно заблестели.
От удара Соня чуть не упала, но вовремя выпрямилась, уцепившись за подоконник. Видимо, она до последнего не верила, что Матвей, будучи мужчиной, сможет так увесисто ее ударить.
- Попробуй только тронь меня снова! Хочешь нарваться на моего сутенера? – прикрикнула она на него.
- Ты неправильно задаешь вопрос, Соня. Хочет ли твой сутенер нарваться на меня? Он знает, сколько ты мне должна?
- У меня сейчас нет денег! – еще громче крикнула она, широко распахнув глаза.
- При чем тут вообще деньги? Я постоянно вхожу в твое положение, иду на уступки, а ты этого не ценишь и считаешь, что я обязан прощать тебе хамство. Воспитанные люди так не поступают. Они беседуют тет-а-тет и уж точно не выносят такую щекотливую ситуацию в публичное пространство, - веско изложил Матвей все свои аргументы и крепко схватил ее за правое запястье.
- Где я сейчас возьму деньги? Где?!
- В пизде! – не выдержал Матвей и другой рукой схватил Соню еще и за горло. – Тебе напомнить, зачем существуют ломбарды?!
По-змеиному вывернувшись, Соня выскользнула из хватки Матвея и побежала в узкий коридор, который заканчивался туалетом. Матвей бросился вслед за ней, но когда он тоже скрылся в коридоре, оглушительно хлопнула деревянная дверь туалета, почти черная от влаги и времени. Полная плохих предчувствий, Ася осторожно пошла туда, куда переместилась разыгрывающаяся драма. Ей очень не хотелось, чтобы Соня принялась показушно резать руки у нее дома. Теоретически Соня была на это способна. Завидев приближающуюся Асю, которая за последние пять минут заметно омрачилась лицом, Матвей шепотом спросил:
- Там же нет окна? Она не вылезет?
В знак отрицания Ася помотала головой. Матвей припал ухом к крепкой еловой двери и прислушался. Из туалета тягуче пахло прелыми тряпками. Резких звуков не доносилось. Видимо, Соня заняла удобное место и теперь выжидала.
- Женя, Женечка, пожалуйста, приезжай скорее! – вдруг истошно завопила она, заставив их вздрогнуть. – Мой дилер пытается меня избить! Он объебан в мясо, он в туалет ломится!
- Врешь ты всё, - мрачно сказал Матвей, который был практически трезвым и никуда не ломился. Чтобы придать своим словам убедительность, Соня остервенело заколотила кулаком по двери:
- Он сейчас дверь выбьет! Пожалуйста, Женечка, скорее!
«Лучше бы он не приходил…» - смутно подумала Ася, косясь на Матвея, который буравил дверь туалета похоронным взглядом и с затаенным остервенением грыз ноготь.
- Если она сюда своего мента притащит, и проблемы начнутся еще и у меня, то делай, что хочешь, но прикрой меня. Понял? - сказала Ася Матвею, с высоты своего роста ткнув его пальцем в ребра.
- Да понял я уже, - негромко произнес он.
- Он совсем рядом, он сейчас приедет! Лейтенант, мальчик молодой! Свернет тебе шею и сбросит в Неву. Твой труп пойдет на дно, и его обглодают ры-ыбы! – глумливо протараторила Соня, сорвавшись к концу выкрика на глумливый фальцет.
- Бля… - глухо выдавила Ася. Не став попусту кричать на Соню и Матвея, которые втянули ее в историю, она кинулась обратно в кухню, к тумбочке, где хранилась ее свежая заначка – плотно набитый спичечный коробок. Отыскав в полупустой сахарнице коробок, туго обмотанный пищевой пленкой, Ася обула калоши и побежала в огород, намереваясь спрятать заначку на нейтральной территории, в канаве между своим и соседским забором.
Заступник Женечка почему-то не торопился. Приехал он только через полчаса. Всё это время Ася с Матвеем сидели под дверью туалета и курили, обмениваясь неловкими репликами. Соня предвкушала спасение, поэтому сидела тихо и больше не кричала.
Когда «Женечка» наконец приехал, Матвей увидел румяного молодого мента, одетого в синюю форменную куртку на молнии, брюки с острым кровавым кантом и фуражку с красным, как пух на грудке снегиря, околышем. При виде лейтенанта, который мягким овалом лица производил милое впечатление, говорил ласково, но при этом вел себя нагло, как и полагается власть имущему, Матвей даже обрадовался, но виду не подал. Это оказался лейтенант Пирогов, у которого он покупал пистолет. За весьма жирный процент мелкий сутенер и лейтенант МВД Пирогов крышевал проституток, а на связь с Матвеем выходил, когда ему нужно было в очередной раз купить мефедрон. Покупал он не для себя и брал десятками граммов, чтобы стимулировать работающих на него проституток, за старания выдавая им доппаек.
- Опа, Герыч! Ты что тут делаешь? – искренне удивился он, войдя в кухню и завидев в шершавых стенах коридора знакомое угрюмое лицо. Сжав в зубах сигарету, Ася прошмыгнула мимо Пирогова на кухню и заняла прежнее место. Матвей выпрямился, отряхнул одежду и произнес, словно прочитав его мысли:
- Я трезвый, ударил ее всего один раз и в туалет не ломился. Она врет.
- Да, Соня бывает очень пиздливой. Она должна тебе? Сколько?
- Двадцать две тысячи, - сказал Матвей.
- Думаю, можно дать ей немного времени… - произнес Пирогов сдержанно, но твердо.
- Она тянет уже пять месяцев, - объяснил Матвей, дернув уголком рта, - разве это нормально, Жека?
Пирогов почесал в затылке, задумчиво нахмурился и наконец заключил:
- Это, конечно, ненормально.
Кое-как уговорив Соню выйти из туалета, он участливо, но с долей угрозы разъяснил ей ситуацию. Обосновались они на кухне. Ася со злым лицом курила одну сигарету за другой, а Матвей, сложив руки на груди, стоял возле окна с красной геранью. Бесспорно, Пирогов опекал Соню, однако в деле была осложняющая переменная - финансовый интерес другой стороны, который нельзя было оставить неудовлетворенным. Потирая ладонью опухшую от удара щеку, которая наливалась железно-фиолетовой синевой, Соня оскорбленно куксилась.
- Но он меня ударил! Он меня за шею хватал!
- А Лосось тебя вообще налысо побрил. Радуйся, что Герыч гуманист и всего лишь ударил, - образумливал ее Пирогов. Соня слегка надула губы и тягуче заныла:
- Что мне с синяком делать? У меня щека раздувается…
- Замажешь, - лениво бросил он.
Не без помощи Пирогова выяснилось, что Соня может вернуть всего шесть тысяч, но и те хранились у нее дома. Однако было смягчающее обстоятельство в виде золотых серег, которые она уже не раз закладывала в ломбард, и всякий раз старик-оценщик давал за них аж десять тысяч рублей. Услышав об этом, Матвей вспомнил золотое кольцо матери, тянущее на пять тысяч, и ему захотелось завистливо присвистнуть. А лейтенант Пирогов тем временем начал выполнять свои прямые обязанности.
- У вас шмалью пахнет… - многозначительно произнес он, глядя на Асю, которая была официальной владелицей жилья, но косясь еще и на Матвея. В его прищуре просматривался неприкрытый расчет. Матвей поморщился. Пирогов явно клонил к компромиссу, чтобы осуществить свое главную функцию и облегчить участь Сони.
- Мы с Герычем старые друзья, - сориентировалась Ася. Вскинув подбородок, она метнула в Матвея колючий взгляд.
- Да, это так. Мы дружим уже два года, - подтвердил он, пристально глядя на Пирогова. Соня жалась к сухой побеленной стене, совершенно не думая о пятнах на мерцающем платье, прикрывала ладонью темно-синее вздутие, выпятившее левую скулу, и напряженно ожидала развязки.
- Окей, Герыч, окей. Давай поступим так. Вы вдвоем едете к ней домой за деньгами, а потом сдаете серьги в ломбард. Ты забираешь деньги и делаешь вид, что она вернула долг полностью. А я делаю вид, что ничего не заметил, и забываю этот адрес, - наконец нарушил тишину Пирогов.
- Договорились, - ответил Матвей, подумав. Пирогов довольно усмехнулся. Соня серией щипков подтянула сползшие колготки и отправилась на чердак за сумкой.
- Если сбежишь от него или кинешь с серьгами, отобью почки! – пригрозил Пирогов ей вслед. – Будешь кровью ссать!
- Да не убегу я, - буркнула та через плечо.
Собравшись, Соня лишь ухудшила неприятное впечатление, которая производила неказистым видом: из-под короткой кожаной куртки выглядывало мятое платье, вымазанное на спине белым, а желтая сумка в зеленую леопардовую крапинку максимально диссонировала с пухлым бугром гематомы. Приличные элементы внешности жирно подчеркнули общую неряшливость и потасканность.
- Пожалуйста, не сердись, - напоследок сказал Матвей Асе, взяв ее хрупкие руки в свои ладони, и виновато улыбнулся. Ася скривила лицо, но сменила гнев на милость и сжала его руки в ответ. Когда это было необходимо, Матвей умел быть умоляюще-галантным. Это было еще одно свойство, унаследованное от отца, который наверняка точно так же сжимал руки Елены Алексеевны Грязевой, пытаясь сгладить острые углы, дыша на трезвую и злую Елену Алексеевну перегаром.
Дождавшись машину, Матвей усадил Соню на заднее сиденье, сделав это равнодушно и уже без галантного трепета, и расположился рядом. Путь до Нового Петергофа предстоял весьма долгий и дорогой.
Все полтора часа Соня кривила рот и стискивала зубы, обижаясь без прежнего показного кокетства, которое предназначалось для падкого на женщин Пирогова. Когда убер остановился прямо перед двухэтажным домом, где раньше жил и Матвей, она неуклюже вылезла, впечатав туфли в грязь, и шумно выдохнула. Женственность и грация были присущи ей лишь на работе и в короткие периоды мефедронового опьянения. Без мефедрона и соблазнительной маски Соня вела себя неприветливо и даже хабалисто.
Следуя за ней, как конвоир, Матвей фиксировал пейзаж, частью которого он некогда был. Прошел почти год, и рыжий кирпич выгорел под немощным солнцем, а двухэтажная коробка с узкими окнами как будто бы неуловимо просела, зарывшись в сырую землю. Чахлость парадной усугубилась: деревянные ступени рассохлись, с открытой двери коммуналки свисали неровные куски дермантина, а на серой стене возникло целое полотно из матерных выражений, которые передавали эмоцию, обуревающую автора, но никак не словесный посыл. Прозрачные стекла в круглом окне сменились желтыми, но и по ним уже змеилась молния трещин. Под подоконником валялись пустой блистер «Свежести-32» и винная бутылка с хрустнувшим горлышком.
Заведя Соню в квартиру и ступив на истертый клетчатый линолеум, Матвей впервые осознал, что в его новой квартире планировка точно такая же, но комнаты заметно просторнее – и все они принадлежат ему. Соня ввалилась в свою комнату, и ее грязные каблуки дробно застучали по паркету. Матвей остался ждать в коридоре.
- Кто там приперся? Чего ты в вещах роешься? – донесся из комнаты Сони мужской голос - заспанный, молодой и гоповатый.
- А ну заткнулся! - прикрикнула она, и молодой мужчина выполнил приказанное.
Пока Соня искала деньги, Матвей заметил мелькнувшего в кухонном проеме Евгения Львовича и окликнул его по имени. Когда тот, шаркая тапками, подошел к Матвею и вытер жирные пальцы о спортивные штаны с вытянутыми коленями, стало заметно, что он сильно поседел и стал красновато-припухлым. Темная искусственная рука заметно износилась и покрылась царапинами.
- Давно я тебя на Болтах не видел, Матюша, очень давно… - проговорил Евгений Львович, нетрезво сцепляя волочащиеся слоги.
- Я опять там работаю, - невесело усмехнулся он, - может, пересечемся, если повезет.
- Правда? И в какой должности? – спросил Евгений Львович. Нерешительно помолчав, Матвей перестал улыбаться:
- Да так, торгую…
- Глупый я, конечно, вопрос задал… Ничего, зато не в гробу.
- Это уж точно, - издал Матвей едкий смешок.
Демонстративно вручив Матвею шесть серых купюр, Соня на глазах у Евгения Львовича обозвала его тварью, а Матвей дал ей легкий подзатыльник. Спускаясь по скрипящей лестнице парадняка, они устало обменивались оскорблениями. Перепалка была вялой, словно они не очень-то хотели этим заниматься и ненавидели друг друга по инерции. Евгений Львович проводил их мутным взглядом, задумчиво пожевал губы и пошаркал обратно на кухню.
Пасмурное полотно вечернего неба бугрилось над узким, как плацкартный вагон, переулком, и неоновой вывеской ломбарда, которая роняла на асфальт маслянисто-желтый свет. В рябой желтизне, расстелившейся у него под ногами, Матвей заметил белое трафаретное слово размером с голубиную тушку - «@playa».
«Надо же, до сих пор не закрасили», - удивился Матвей, вспомнив, что в последний раз нанимал трафаретчика, когда жил на Гражданке. Выбор трафаретчика был циничным, но коммерчески выгодным – узкий пятак перед крыльцом ломбарда, который располагался в не самом благополучном районе Петербурга и собирал вокруг себя соответствующий контингент.
В ломбарде пахло старыми газетами и пылью, а за допотопной белой решеткой сидел все тот же седой старик, чье сахарно-бледное лицо выражало скептицизм. На вид ему было около восьмидесяти лет, однако для его возраста рассудок помутнел почти незначительно. Обменяв золотые серьги на залоговый билет и деньги, Соня театральным жестом сунула десять тысяч Матвею в руки.
- Подавись, гнида, - процедила она сквозь зубы и вышла из ломбарда. Надрывно звякнул висящий на двери колокольчик. Матвей заметил, что оценщик оглядывает его с чувством узнавания, понимания и плохо сглаженной брезгливости.
Он вышел на улицу и легко вздохнул. Отныне находиться в Новом Петергофе было бессмысленно.
Поддавшись легкому чувству ностальгии по прежним местам, Матвей пересек пустырь, колосящийся травой и слабыми венчиками полевых цветов, и добрел до станции, где сел на электричку. Прислонившись виском к толстому оконному стеклу, он провожал взглядом торопливо ползущие деревья, частные дома, обнесенные заборами, и петляющие среди сероватой зелени речушки. Балтийский вокзал встретил его до сих пор идущими старинными часами, фонтаном из черного мрамора, чьи струи прерывисто бились об воду, и киви-терминалами, которых стало еще больше. Матвей невольно выцепил боковым зрением дверь общественного туалета, где он раньше часто кололся, но сдержал бегущую вперед него мысль и вышел на каменно-прохладное крыльцо, под тень арочных изгибов.
Когда он спустился по массивным ступеням и закурил, сверкнув в вечернем сумраке серебряной гравировкой портсигара, его тихо окликнули. Повернувшись, Матвей увидел Ладу, которая стремительно сокращала расстояние между ними. На ее раскрасневшемся лице, которое она на бегу почесывала, читалась озадаченность. Несмотря на крошечные, как игольное ушко, зрачки, вид у нее был не самый радостный. Видимо, она дошла до стадии, на которой героин требовался для поддержания сносного состояния, но никак не для переживания праздника.
«Сейчас и она начнет просить», - угловато изогнул губы Матвей. Однако Лада задала вопрос, который он от нее вообще не ожидал услышать. Особенно теперь, когда прошло столько времени.
- Ты знаешь, куда пропал Марат? Он жив? – спросила Лада.
- Его убили, - сказал Матвей и невротично затянулся. Ему и раньше не хотелось лишний раз обсуждать с кем-то жизнь Марата, а когда тот умер, нежелание лишь обострилось. Облик равнодушного, как среднеазиатская рептилия, Марата постепенно стирался из памяти и терял свои характерные черты, превращаясь в стандартизированный слепок, смазанную посмертную маску. Но воспоминания оставались, и ворошить их было гадливо.
- Убили? Ты уверен? Ты видел это собственными глазами? – встрепенулась Лада. Руки, скрытые красными перчатками, крепко сжали засаленный воротник куртки. Матвей стряхнул столбик пепла, и малая его часть осела на кроссовках Лады, рассыпавшись на серые сегменты. По воздуху катился звучный гул кипучего мегаполиса, в котором смешались тиканье светофоров, человеческий говор и автомобильные гудки.
- Нет, но я видел, как его увозят. А через полгода Асфар Юнусович сказал, что он мертв, - чуть отстранился Матвей.
- В смысле, Жаров?– округлила она глаза. Но тут же сжала губы, отчетливо очертив тонущий в фонарном сумраке рот.
- Знаешь, кто ты такой? Подментованная сволочь, - негромко произнесла Лада.
- Для меня это не новость, мне часто такое говорят, - с грустной улыбкой сказал Матвей.
- Да если бы ты просто барыга был, я бы не возмутилась. Меня возмущает, что стоило тебе прыгнуть повыше, так ты сразу начал мелочно мстить. Мелочно и подло.
- Чего-о? – искренне возмутился он. Лада на одном дыхании выпалила:
- Ты вообще знаешь, что о тебе говорят? И что именно говорят? Что ты стрелял в дочь главного прокурора, а клиентку, которая чем-то тебе насолила, вообще отравил!
С каждой фразой претензии Лады приобретали конкретику, а Матвей наконец понял, что она имеет в виду погибшую у него под дверью Тусю, портсигар которой сейчас лежал у него в кармане.
- Она сама умерла! – вырвалось у него.
- Не ожидала, что ты так быстро испортишься. Не знаю, что с вами всеми происходит, но в какой-то момент вы становитесь мудаковатыми и теряете берега. Хотя раньше были нормальные ребята.
- Сложно быть не мудаковатым, если вы по-хорошему не понимаете и на шею садитесь, - глухо отозвался Матвей. Лада, которая определенно была вмазанной, выбрала не самое удачное время для выяснения отношений с болезненно трезвым Матвеем. Одно лишь осознание того, что Лада в отличие от него может позволить себе саморазрушение, автоматически подсвечивало шероховатости ее поведения и превращало их в весомые поводы для злобы.
- Какое-то время я думала, что Марат тебе солгал. Но людей без причины не убивают, так ведь?
Матвей отбросил бычок в сторону. Тот мелькнул багровеющей точкой, будто падающая звезда, и растворился в сгущающейся кисельно-синей тьме. Лишь сегодня Матвей вдруг осознал, что многого не знал о противоречивых чувствах Лады. С долей злорадства он подметил в ее словах не только зависть, но и запоздалую ревность, которая довершала зловещий любовный треугольник, состоящий из живого Матвея, чахнущей Лады и покойного Марата, который уже не мог оценить ее любовь по достоинству. Почему-то живой Марат не вызывал в ней отклика, а вот мертвый внезапно стал интересовать. У Лады было крайне иррациональное и загадочное сердце.
- Начнем с того, что я не просил убивать Марата, - возразил Матвей, ощутив под ребрами зарождающееся волнение, - в его смерти виноват лишь он сам, и от меня это никак не зависело.
Подобравшись, Лада с бескровной улыбкой выложила самый главный аргумент, которому специально отвела последнюю очередь:
- Теперь вот думаю, что Марат правду говорил. Просто не было свидетелей, и никто не смог подтвердить.
- Я на сто процентов уверен, что ничего не было, - спокойно сказал Матвей.
- Как ты можешь быть уверен, если вообще ничего не помнишь? Что происходило в те две недели?
Матвей отвернулся от нее и направился в сторону Обводного канала. На окончательно потемневшем небе проступили сквозь пелену промышленных выхлопов серебристые пылинки звезд. За спиной пронзительным эхом отдавались тяжелые шаги Лады, а впереди хрустально подрагивали плошки садовых фонарей.
- Нельзя так жить. Ты теперь в людях видишь только лживых утырков, - продолжала она, - тоже мне, блядь, хастла нашелся. А по-человечески поступать…
- Следовало ожидать, что ты начнешь завидовать и откопаешь эту мутную историю. Хотя я не понимаю, чему тут можно завидовать. Я в крайне шатком положении, - печально произнес Матвей, повернувшись к ней. Они остановились на песчаной тропе Балтийского сада, чахлые деревья которого в темноте казались бурыми, словно на них лежал слой пыли.
- Что дает свежесть, особенно на первых порах? Похоть и невыносимое желание догнаться. Как будто сам не знаешь, на что идут люди. Да в сраный Пушкин прутся ради фурика, пока их не попускает. А когда варщик под боком, да еще и денег нет, то сам бог велел…
- Да пошла ты! – злобно выпалил Матвей. Однако в голове вдруг щелкнула догадка, и его осенило.
- Но вичовая-то из нас двоих – ты, - наконец произнес он. Красноватое лицо Лады полиловело еще сильнее, и она дала Матвею приглушенную перчаткой пощечину. Матвей с ленивым равнодушием, потер горящую щеку – скорее рефлекторно, чем осознанно.
- Я не настолько сволочь, чтобы из-за пощечины продавать тебе исключительно ядовитый бутор, - отстраненно сказал он, - но на поблажки можешь не рассчитывать. Только рыночные отношения. Я тебя не знаю, ты меня не знаешь.
Отвесив ему вторую пощечину, которая оказалась более хлесткой и едкой, Лада развернулась на месте и быстрым шагом, иногда срываясь на бег, устремилась к темнеющей громаде вокзала. Ее каштановые волосы метались по куртке, будто застигнутые врасплох змеи, пытающиеся покинуть обжитую яму.
- Вот же злобная дура… - негромко пробормотал Матвей себе под нос.
Две беспамятные недели пришлись на начало прошлого марта, а провел их Матвей в квартире Марата, который жил на улице Комсомола - между Финбаном и Крестами. Самая дальняя комната, служившая желтушному Марату спальней, была практически приличной и располагалась за железной дверью, которую в присутствии гостей Марат всегда запирал, а увесистый ключ длиной с ладонь носил на шее. Ключ болтался на толстом шнурке и терялся под складками комковатого свитера. В других двух комнатах мебели практически не было, и выполняли ее функцию разных габаритов коробки, ведра и оккупированные клопами матрасы. Клопы плодились, пили загрязненную кровь, смешанную с эфедрином и побочными химикатами, и энергично кусались. Что касается кухни, то готовили там всё что угодно, только не еду. Даже когда Марат ничего не варил, обои по инерции пахли столовым уксусом, ацетоном и растворителем.
Когда Матвей, приходнувшийся уже три раза и потративший все деньги, разлепил глаза и встал с полосатого матраса, на котором несколько часов подряд пребывал в забытьи, стало ясно, что мыслей у него в голове крайне много, но посыл у них совершенно схожий: желание во что бы то ни стало догнаться и, конечно же, сделать это немедленно. Почесав искусанные клопами руки, которые покрылись красноватыми бугорками, Матвей поправил черную футболку, чтобы она прикрывала правый карман, и отправился бродить по анфиладе комнат, в которых суетились незнакомые ему люди. Железная дверь была заперта, и Марата за ней не оказалось, однако Матвей нашел его в ванной.
Прикрыв глаза, тот сидел на краю железной ванной и медитативно курил. Пепел опадал на пол, образуя сиротливые сероватые горстки. Стены были облицованы некогда белой кафельной плиткой и зияли лакунами выпавших осколков, а под потолком антрацитово-черными разводами проступали застарелые мокрые пятна.
- Марат?.. – полувопросительным тоном начал Матвей, осторожно приоткрыв дверь. Марат поднял веки и заметил его землисто-бледное лицо. Матвей чуть ли не впивался пальцами в дверь и пристально смотрел на него ищущим взглядом мономана. Зрачки до сих пор застилали глаза чернотой, а зубы сжимались, и говорил он слегка неразборчиво.
- Что? – с мрачным видом спросил Марат.
- Я хочу догнаться, - сказал Матвей и вкрадчиво шагнул в ванную. Его глаза бегали из стороны в сторону, словно он искал нечто, чего нужно избегать или наоборот не бояться.
- Пятьсот рублей куб, - сказал Марат, не меняясь в лице. На пол упал еще один комочек сигаретного пепла. Дым вился перед лицом Марата, затуманивая его резкие черты.
- Так я уже всё потратил.
- Съезди домой за деньгами.
- Как я туда поеду? – угрюмо спросил Матвей, поведя нижней челюстью. – Электрички уже не ходят, а я в Новом Петергофе живу.
Марат посмотрел на него из-под тяжелых век, замолчал и задумался. В ванной повисла неловкая тишина, прерываемая размеренным звоном капель, срывающихся с крана, и ворчливым гомоном, который доносился с кухни. В соседней квартире раздавался монотонный, как будто бы комариный писк.
- Чего на пороге стоишь? – снова прикрыл глаза Марат. – Заходи, закрывай дверь, раз ты говорить пришел.
Почуяв приближающееся согласие, Матвей закрылся на щеколду. Нечесаные светлые волосы липли на влажный от пота лоб, а глубоко в глазницах жадно блестели глаза. Губы подрагивали в слабой полуулыбке, контур которой стушевывали стучать зубы, уже начинающие стучать. Подавшись вперед и чуть сгорбившись, Марат пристально посмотрел в его темные глаза:
- Отдрочишь? За пять кубов?
Матвей определенно хотел заполучить свежесть любой, даже самой высокой ценой. Вот только он считал высокой ценой совсем другое. У него возникло желание хорошенько измолотить Марата, раз тот не хочет отдавать по-хорошему, и забрать всю его заначку. У Марата не могло не быть заначки. Матвей даже слышал, что это была пол-литровая стеклянная бутылка, заполненная прозрачно-желтой свежестью почти до горлышка. Там явно было больше пяти кубов.
Мысль заняла меньше секунды. Мгновенно взвинтившись, Матвей резким движением выхватил из правого кармана литой молоток с желтой ручкой. Описав в воздухе широкую дугу, рука с молотком устремилась к черепу Марата. Растеряв всю медитативность, тот юрко метнулся вправо. Дымящийся бычок упал в раковину. Одной рукой ударив Матвея по запястью, Марат достал из кармана нож-бабочку и угрожающе ткнул в сторону Матвея.
Завидев даже не нож, а серебристо-стальной отблеск его лезвия, Матвей дернулся назад и прижался к стене, однако молоток не выпустил и предупреждающе занес руку. К землистому лицу прилила кровь, вена на лбу набухла, ноздри мелко раздувались.
- Мозги тебе лечить надо, - совсем уж мрачно сказал Марат, не убирая ножа, - ты какой-то нервный. Пошутил я. Пошутил, понимаешь? У меня злые шутки.
Матвей тяжело дышал и смотрел на него широко распахнутыми глазами, в которых медленно проступало осознание происходящего. Раздался грохочущий стук: кто-то настойчиво бил кулаком по двери ванной.
- Марат! Все уже на кухне ждут! – раздался упрашивающий голос Ирки Ширки, бывшей героинщицы, которой было уже за тридцать. – Когда вариться будем?
- Не мешай, - веско ответил ей Марат, - я с человеком беседую.
Удалились шаги босых ног, и снова повисла гнетущая комариная тишина. Марат и Матвей смотрели друг на друга немигающими взглядами, которые выражали ненависть разной степени. Сложив нож, Марат убрал его за пояс. Так же поступил и Матвей, спрятав молоток и поправив футболку, чтобы топорщащийся карман не бросался в глаза.
- Ты лучший друг Лады, а Ладу я уважаю, - вновь нарушил молчание Марат, - бесплатно я тебе варить не буду, но могу сварить в долг. Баян есть?
Вместо ответа Матвей продемонстрировал кубовый шприц, которым за прошедшие сутки успел воспользоваться уже несколько раз. Марат кивнул. Встав с бортика ванной, он неожиданно спросил:
- Почему молоток-то? Неэффективное оружие. Пока будешь забивать человека, он тебя пырнуть успеет.
- Молотком убивал Пичушкин. Он шестьдесят человек убил, - объяснил Матвей.
- Лечиться тебе надо, - покачал головой Марат, - совсем бардак в голове.
Щелчком пальцев столкнув потухший бычок в слив раковины, он пошел на кухню, где его уже ждали предвкушающие люди самого разного пола, возраста и юридического статуса.
Когда Матвей в конце второй недели пришел в себя, то обнаружил себя гладко выбритым и очень удивился. Видимо, невменяемость никак не повлияла на обыденные привычки.
«Наверное, заморочился», - бегло подумал он, почесывая искушенные руки. Виски кололо изнутри гудящей температурой, в желудке ворочался голод.
А вот куртку Матвей уже не обнаружил. Он отчетливо помнил, что вешал куртку в коридоре, однако теперь её там не было. Должно быть, кто-то надел его куртку, приняв за свою, или вообще вместо своей прохудившейся. На имеющуюся верхнюю одежду даже смотреть было не очень-то приятно. Наиболее приличным вариантом был черный женский бомбер с красными драконами – весь в катышках, явно принадлежащий гостье массивного телосложения, которая еще не успела сторчаться.
Закутавшись в бомбер, который оказался ему несколько велик, Матвей поспешно вышел на улицу Комсомола, обдуваемую холодным валом мартовского ветра. Ледяной ветер бил по кипяточно-горячему лицу, высекал из туловища зябкую дрожь. Впереди в обе стороны тянулись темно-красные стены Крестов, увитые колючей проволокой и мокрые от недавнего дождя. Над улицей Комсомола расцветало пасмурное серое утро.
Дальнейший путь Матвей помнил урывками – пострадавшая за две недели память отказывалась работать как следует. Вроде как он стоял на остановке, вроде как ехал на маршрутке, но окончательное пробуждение состоялось даже не по его воле. Он проснулся, потому что его грубо трясли, ухватив за плечо.
- Молодой человек! Молодой человек! – раздавался прямо над ним надрывный и строгий женский голос.
- А? Что? – едва очухался Матвей. До него дошло, что он лежит под почтовыми ящиками незнакомой парадной, белый потолок которой был украшен лепниной, а зеленые стены с камином шелушились ошметками отстающей краски. От колен Матвея шли вниз широкие каменные ступени, стертые шагами людей, которые уже многие лета покоились на погосте. Перед Матвеем лежала наполовину съеденная маковая булка. Чуть поодаль от него, не скрывая брезгливости, стояла кучерявая женщина лет сорока пяти, одетая в блестящий черный плащ. На плече у нее висела такая же сумка.
- Наш дом не богадельня! – в той же тональности продолжила женщина. – Ты людей пугаешь, нарколыга!
- Радуйтесь, что я хотя бы живой, - проворчал Матвей, поднимаясь и отряхиваясь. Температура не отступила: голову раздувало жаром, а в желудке неприятно тянуло, будто кто-то мягко пальпировал его изнутри.
- Ладно мы, мы в девяностых росли и привычные. Вы тогда пачками везде валялись – и живые, и мертвые. Но ты хотя бы о детях подумай. Что я внукам скажу?
- Что я наглядный пример того, как жить нельзя. С наглядным примером до детей лучше доходит, - буркнул он. Распалившись, женщина сдернула с плеча сумку и огрела Матвея по голове.
- Чего вы деретесь? – обиженно спросил он, ретируясь в сторону выхода. – Я на вас руку не поднимал. И вообще я уже ухожу, успокойтесь…
- Нахал! - устало бросила женщина ему в спину.
Выбравшись на улицу, Матвей с некоторым удивлением понял, что находится на Петроградской стороне. Близлежащие дома прятались за строительными лесами, на которых колыхались сетчато-зеленые лохмотья, а слякотную массу под ногами медленно растапливало жаркое полуденное солнце. Сладко пахло сдобой и свежезаваренным кофе.
«Почему я приехал именно сюда? – тоскливо подумал Матвей. – Зачем я вообще проделал такой крюк? Даже бешеные собаки такие крюки не наворачивают»
Тяжело вздохнув, он пригладил взлохматившиеся волосы и побрел, слабо держась на ногах, в сторону метро. Под дырявыми кроссовками хлюпала, расползаясь в стороны, грязно-снежная помесь. Матвей волок себя по земле ветшающего государства, которое было фашистским по заветам Оруэлла и Умберто Эко, в недрах которого мерцали маслянистая нефть, норильский никель и якутские алмазы, которое сдавало в аренду Китаю сумрачные сибирские леса.
Глава 12
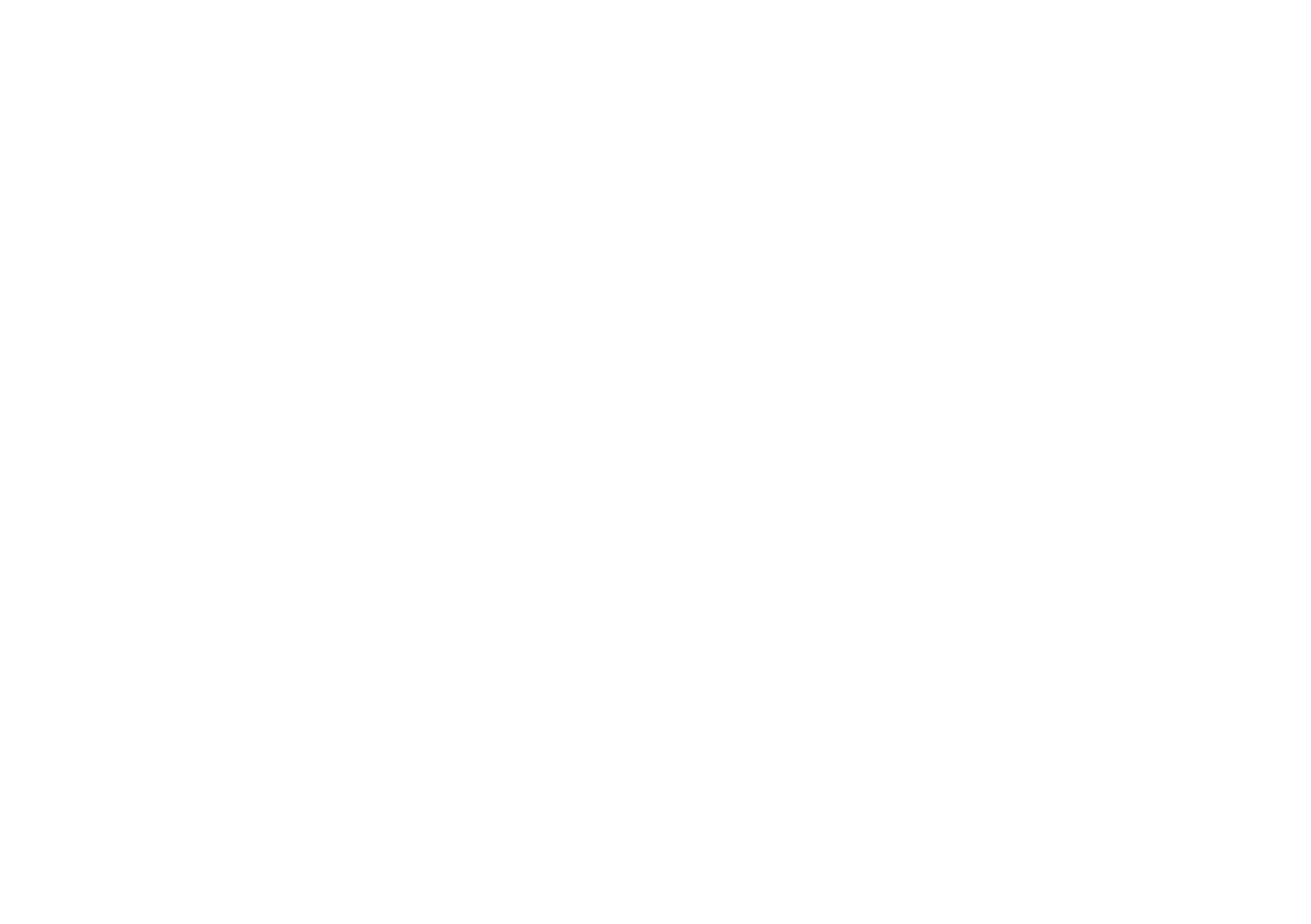
Непредвиденные случаи жизни являются не твоими врагами, а твоими союзниками. Научись их принимать, даже когда они тебя расстраивают. Согласие – это самая высшая форма Любви.
Дугпа Ринпоче, «Жизненные наставления далай-ламы»
Дугпа Ринпоче, «Жизненные наставления далай-ламы»
май, 2031 год
Постельное белье оливкового цвета нагревалось под жаркими лучами солнца, которое катилось над фосфорически-блестящими крышами и искристо отражалось в узком окне. Под одеялом проступали очертания человеческой фигуры, и наружу торчала худосочная рука, безвольно лежащая на простыне. Из-под подушки, защищающей голову от света и шума, выбивались жесткие светлые вихры. На внутренней стороне руки, между сгибом локтя и запястьем, отчетливо выделялся тонкий штрих заживающего разреза – следа операционного вмешательства, на месте которого неделю назад красовался абсцесс, набухший гноем и окаймленный ореолом красноты. Выбрав слишком тонкую вену, Матвей задул половину мефедрона в мышцу, и его от души тряхануло. Проходив несколько дней с температурой и абсцессом, который лез наружу, как тесто из кастрюли, и гепариновой мази не поддавался, он поехал в частную клинику, что располагалась близ Петровской набережной.
Матвея в клинике уже знали, потому что он оставил там больше трехсот тысяч рублей, когда менял хрупкие от стимуляторов зубы, и стоматолог прекрасно понимал природу его недомоганий, но тактично молчал, потому что был платным врачом. В его присутствии Матвей старался говорить культурно и вежливо, не допуская в речь специфических выражений. Впрочем, один раз сдержаться всё же не получилось. Сидя на кушетке, Матвей ждал, пока подействует наркоз, и пытался моргать левым глазом. Моргать не получалось: левая половина лица онемела, лишившись всякой подвижности. Время от времени опуская застывшее веко пальцем, Матвей ощущал странную рассеянность в голове, легкую дезориентацию в пространстве и нарастающее предчувствие, поселившееся между сердцем и желудком. Предчувствие было подозрительно знакомым и предпередозным. Впервые Матвей познакомился с ним, когда работал официантом – как раз перед тем, как упасть на пол в судорогах и с пеной у рта.
- Доктор, я, кажется, отъезжаю… - кратко передал он суть своего состояния, забыв о приличиях. – Я передознусь сейчас…
- Ничего страшного не случится, так и должно быть, - тактично успокоил его стоматолог, сохранив вежливый модус поведения, - это же зуб мудрости.
Гниющий зуб выскребали по кусочкам. Стоматолог с такой силой орудовал молотком, что Матвей опасался, как бы ему ненароком не раскрошили челюсть. Ватка пропиталась кровью насквозь, а моргать левым глазом Матвей начал только через четыре часа.
Абсцесс вскрыли с такой же корректностью и человеческим отношением, которые хоть и были обусловлены завышенным прайсом, однако хотя бы присутствовали.
Но голова болеть не перестала. Началось это еще до операции, и Матвей полагал, что головные боли как-то связаны с его аховым состоянием и просто дополняют общую картину страданий. Но абсцесс прошел, а головные боли почему-то нет. Болело каждый день, примерно по часу – череп будто сдавливало со всех сторон. Состояние было терпимое, но раздражающее. Добивающим штрихом оказался очередной пик тоски по свежести, совпавший по времени с операцией и недомоганием. Тоска заявляла о себе крайне изобретательно: фантомным запахом свежести, возникающим на несколько секунд, зудом, который так и манил проткнуть острой иглой хрупкую стенку вены, и красочными сновидениями, которые отнюдь не были кошмарами. Совсем наоборот. Истосковавшийся по свежести мозг старательно воспроизводил сокрушающую эйфорию, и просыпаться после таких снов было морально тяжело.
Голова болела и сейчас. Матвей не спал, он лежал под одеялом, не желая подниматься, избегая яркого света, бьющего по оконным стеклам, и ропота людей, стремящихся попасть то в образовательный центр, то в муниципальную контору непонятного назначения. Табличка с угрожающей аббревиатурой «ЦАЛСКСП» ничего не проясняла, но глаз Матвея вполне ожидаемо вычленял в ней знакомую ему аббревиатуру «ск сп». Рабочий телефон лежал возле руки и беззвучно моргал уведомлениями о пропущенных звонках. Пропущенных звонков насчитывалось уже шестнадцать.
«Надо что-то делать», - подумал Матвей, скорчив простыне печальную гримасу. Нехотя вынырнув из-под подушки, он привстал, и одеяло сползло с костистых плеч, подставив палящему свету острые выступы лопаток, выпуклую вереницу позвонков и проглядывающие дуги ребер. Матвей задернул штору. Молочно-голубая спальня погрузилась в теплый полумрак. Взяв с тумбочки личный телефон, он улегся набок и стал просматривать сайты турагенств. Листая прейскуранты, он выбирал место, подходящие под следующие критерии: популярность курорта у русских, безвизовый режим и, конечно же, наличие пальм. Загранпаспорт Матвей сделал еще зимой, но еще ни разу им не пользовался.
Когда день за шторами несколько поблек, а боль почти перестала сжимать голову, Матвей позвонил Грише. Нужно было согласовать отъезд с начальством.
- Я так больше не могу. Я должен отдохнуть и желательно не здесь, - сообщил он Грише, - у меня уже неделю болит голова, я крайне паршиво себя чувствую. На всю эту шушеру смотреть тошно, мне каждого второго хочется послать.
- Наконец-то наш трудоголик созрел для поездок. И куда ты собрался, если не секрет? – весьма доброжелательно спросил Гриша.
- В Китай, - сказал Матвей, - на остров Хайнань.
- Ты в курсе, что там с наркотиками там строго? Там наркоторговцев расстреливают.
- Я же отдыхать собираюсь. Пиво пить, на пальмы смотреть.
- Вряд ли ты сможешь там что-то вымутить. Я об этом.
- Так даже лучше, - пробормотал Матвей.
- Рад, что тебе надоело в квартире мариноваться. Если деньги есть, их надо на что-то тратить, - хмыкнул Гриша.
- И пока существует субъект, способный их тратить, - мрачно буркнул Матвей. Ответом ему был неудержимый гогот.
Матвей уже давно мог позволить себе какую-нибудь поездку, но у него даже не возникало такого желания: свежесть стоила гораздо дешевле, а ощущения дарила куда более сильные и глубокие, затмевая не только путешествия, но и секс. Матвея не впечатляли естественные эндорфиновые раздражители. Зимой он кололся почти каждый день, и если ему, собирающемуся на свидание, вдруг приходила мысль вмазаться, он без раздумий отменял свидание, променивая его на ширево. Однако ширева стало гораздо меньше, и теперь недостаток впечатлений нужно было как-то восполнять.
За двадцать лет жизни Матвей ни разу не летал на самолете, его перемещения ограничивались плацкартным путешествием из Мордовии в Петербург и единственной поездкой в Москву на ночном автобусе, так что на открывающиеся из окна виды Матвей реагировал с восторгом ребенка, который еще не утратил новизну восприятия. Под крылом самолета громоздились друг на друга облака, похожие на огромные ледяные торосы, которым не было ни конца, ни края.
Город Санья, находящийся на острове Хайнань, встретил Матвея тропической духотой, вязкой жарой и хлещущим ливнем. Сдав в аэропорту отпечатки пальцев, Матвей вышел под острую крышу деревянного козырька и дальше идти не решился. Под напором ливневых струй дрожали зеленые веера пальм, в изобилии росших всюду, куда падал взгляд, и мелкие бутоны огненно-алых крон, которые опирались на тонкие змеящиеся стволы. Промокшая кора казалась кофейно-черной, а крупные капли с чугунной глухотой бились об асфальт и кожистую пальмовую зелень, которая горела малахитом на фоне жемчужно-серых туч.
Проследовав за тремя женщинами средних лет, которые говорили по-русски, Матвей нашел автобус турагентства и занял место у окна. Его отель был в списке последним, и весь оставшийся час Матвей глазел на незнакомые ландшафты. Среди тропических лесов пригорода светлели двухэтажные дома разной степени ветхости – темные от сырости, покрытые трещинами, с провисающими рядами белья, которое сохло на балконах. Такими же домами полнилась и Санья, но с зарешеченными окнами и балконами. Матвею вспомнились утверждения знакомых, что в Китае практически не воруют. Судя по паранойяльному частоколу прутьев, это было не самое правдивое утверждение.
Наслаивающиеся друг на друга голографические вывески слепили глаза, отпечатываясь на сетчатке закрытых глаз жгучими яркими пятнами, а жилые дома перемежались закусочными, алкомаркетами и электрозаправками. Хаотичный трафик состоял из автомобилей местного производства и дешевых электромопедов. Центр города уже не напоминал беспорядочно функционирующий муравейник, но производил жутковатое впечатление: жилые комплексы представляли собой тридцатиэтажные высотки, стоящие вплотную друг к другу, и от количества домов, теснящихся на клочке земли, у Матвея рябило в глазах. Внешне новостройки ничем друг от друга не отличались и глядели на город темными окнами, напоминая мегаломанические человеческие ульи. На фоне китайских жилых кварталов постсоветские панельные фавелы казались вершиной уюта и многообразия.
Договорившись с гидом-китаянкой, которая для удобства представилась Таней, о завтрашней встрече, Матвей вышел из автобуса и ощутил беспредметное волнение в солнечном сплетении – очень похожее на затаенный страх, но явно имеющее другую природу. Монументальный пятизвездочный отель спускался к белому пляжу бухты Санья каскадом прозрачно-голубых бассейнов, скульптурных фонтанов и темных мраморных лестниц. Пышущий великолепием пейзаж полукругом охватывали два песочно-бежевых крыла отеля, которые нависали над Матвеем, грозясь раздавить его своими масштабами и потускневшей из-за пасмурной погоды белизной. Матвей понял, что впервые за долгое время ощущает естественную радость.
За стеной ливня терялись невысокие лесистые горы, разных оттенков пальмы с желтеющими по краям листьями и жасминовые деревья, окруженные белыми паучьими лилиями. Матвей побрел к отелю, волоча за собой небольшой чемодан на колесиках, которые с тихим шуршанием касались мраморных плит. Справа от входа журчал струями искусственный водоем, дно которого было устлано мелкими квадратами темной плитки, которая мерцала бензиновыми переливами и напоминала рыбью чешую. По поверхности воды бил дождь, покрывая ее мелкой рябью, размашистыми кругами и хрупкими пузырями.
Матвею достался номер на четвертом этаже, который формально был пятым. Хмыкнув, он нашел ситуацию несколько иронической. Миновав холл со светодиодной инсталляцией во всю стену и массивными бутонами хрустальных люстр, Матвей нашел нужный номер и с облегченным вздохом закрылся изнутри. Как и полагалось отелю европейского типа, номер был оформлен в светлых тонах. Возле панорамного окна, подернутого прозрачно-белой шторой, стояло кресло с круглым столиком, столешница которого тоже была мраморной, а четверть комнаты занимала высокая кровать.
Матвей осторожно провел рукой по белой столешнице, испещренной бледными цветными жилками. Оставив чемодан возле кровати, он взял с тумбочки пепельницу и вышел на узкий открытый балкон, который мог вместить максимум двух человек. После долгожданного перекура он повесил промокшую одежду сушиться и улегся спать. Идти куда-то в такой ливень не было смысла. Впереди были десять дней недеяния.
Перелет спутал часовые пояса и сбил внутреннее ощущение времени, поэтому Матвей неожиданно для себя проснулся в семь утра. Заснуть повторно не получилось. За окном было солнечно и жарко, а воздух сочился влажной духотой. Однако Матвей достал из чемодана джинсы и светлую рубашку с длинным рукавом. За прошедшие полтора года он слишком изуродовал конечности, в которых имелись хорошие вены, и теперь кожа на них была покрыта характерными шрамами.
Надев темные очки, он отправился к пляжу, возле которого бушевало море. Искусственный водоем у входа еще сильнее сверкал бензиново-черным дном, а на подрагивающей глади отпечатывался черный силуэт пальмовой ветви. Подняв голову, Матвей увидел широкие листья, чьи зазубренные острые кромки контрастно резали бледно-голубое безоблачное небо. В темных очках, купленных несколько лет назад в Офтони, отразились высокие дуги кокосовых пальм, искаженные перспективой.
Петляя между бассейнами, где плавали китайцы в прозрачных куртках и пожилые европейцы, между фонтанами, украшенными минималистичными скульптурами воробьев и журавлей, Матвей спустился к границе пляжа. Далеко впереди бешено глодали берег пенистые волны, а перед Матвеем высилась предупреждающая табличка.
«Осторожно, сильный волн. Не плавать», - настоятельно советовала табличка на русском языке автоматического переводчика. Плавать Матвей и так не планировал. Он не умел этого делать и панически боялся ощущения глубины под ногами.
Загребая кроссовками белый песок, Матвей расслабленно дошел до линии прибоя. Мраморно-голубые волны с прожилками пены и бежевыми штрихами песка наваливались на мокрый берег, разбивались на крупные брызги, и уползали обратно в море, и затем на скользкий коричневый песок угрожающе обрушивались новые пенящиеся гребни.
Ближе к десяти утра Матвей вернулся в холл гостиницы. Под красным цветком люстры, поблескивающей каскадом прозрачных капель, его уже ждала Таня, китаянка лет тридцати, носящая каре и расширяющиеся книзу брюки. Как и большинство гидов острова, Таня жила в более холодном и менее благополучном Харбине, а на Хайнань, когда-то бывший местом ссылки каторжников, а теперь ставший пограничным городом с военными базами, приезжала ради сезонной работы. По-русски она говорила более чем хорошо – выдавал её лишь свистящий акцент.
Усадив Матвея на ближайший диван, Таня развернула буклет с предлагаемыми экскурсиями и пустилась в подробные объяснения. Почти все экскурсии начинались в девять утра. Матвей почесал в затылке. В такое время он даже на работу не вставал. А просыпаться рано, находясь в отпуске, ему не хотелось тем более. Выбрав единственную экскурсию, которая начиналась в полдень, Матвей запоздало понял, что ему придется посетить фабрику акульего жира. С некоторой неловкостью предвкушая крайне странный экспириенс, он оплатил экскурсию, потому что других вариантов не оставалось.
Экскурсия состоялась на следующий день. Завидев не очень-то массивное здание, Матвей понял, что оно не может быть фабрикой акульего жира и что его, несведущего туриста, ожидаемо обманывают. Фасад изображал волнистую ракушку из белого камня, а перед входом красовалась пестрая скульптурная композиция: три голубых дельфина, везущие по волнам карету из полосатой ракушки, в которой сидела морская дева с азиатскими чертами. Дева, как и дельфины, сдержанно улыбалась.
Передав туристов местному экскурсоводу, Таня ретировалась в автобус. Матвей плелся в хвосте группы, не слушая экскурсовода, который восхвалял целебные свойства акульего жира – явно ради дальнейшей продажи, и таращился на акульи чучела с перекошенными мордами. Чучела таращились на него в ответ, мерцая мелкими стекляшками глаз. Встречающиеся плакаты тоже были написаны на машинном русском, и Матвей старательно сдерживал нервное хихиканье.
«Заходи дорогая! Продиагностируйся на женские заболевания. Кто раньше была, теперь здорова», - призывал нежно-розовый плакат с девичьим силуэтом.
Как и ожидалось, экскурсовод начал продавать акулий жир и позвал туристов на диагностику здоровья. Не поддавшись на уговоры, Матвей купил только конфеты из сушеного акульего мяса и сбежал на задний двор, где размещались пруд с перекинутым через него мостиком и скромный базарчик. Участвовать в диагностике ему решительно не хотелось. Он и без нее понимал, что здоровье у него неважное.
Накрапывал мелкий дождь. В пруду извилисто сновали пламенно-оранжевые карпы, покрытые брызгами белых и черных пятен, а на светлых камнях, окружающих пруд, сидели ярко-розовые стрекозы с прозрачной слюдой оранжевых крыльев. Обогнув рощицу жасминовых деревьев, которые пестрели нежными белыми бутонами с градиентно-желтой сердцевиной, Матвей спрятался под навесом базара. Мелкие капли разбивались об светлую плитку, которой был вымощен задний двор, и опавшие жасминовые цветы.
Матвей курил, прислонившись к зеленому решетчатому забору, за которым густо рос стрельчатый бамбук. Верхушка забора была увита красной пластиковой гирляндой в виде традиционных китайских фонариков, а на толстой колонне, что возвышалась справа, виднелся белый лист с надписью «пиво» - на китайском, английском и русском.
Диагностика всё не заканчивалась. Дождь сменился полуденной жарой: солнце било в глаза и пекло макушку, хотя Матвей стоял в тени. Влажные от пота волосы липли к вискам, и он ощущал себя жарящейся рыбой. Высокая температура оказалась настолько нестерпимой, что даже дискомфорт, вызываемый посторонними взглядами, по сравнению с ней был менее болезненным.
«Какая вообще разница? – спрашивал себя Матвей, закатывая рукава и подкатывая джинсы. – Всё равно здесь любят белых туристов с деньгами. С какими угодно руками и даже без них».
Когда он купил на базаре черную соломенную шляпу с бело-зеленой лентой вокруг тульи, ждать конца экскурсии стало намного легче. Медленно покуривая под сенью бамбука и жуя перченые мясные конфеты, он подметил, что голова не болит уже два дня.
«Наверное, мне действительно нужно было расслабиться», - с облегчением подумал он.
Все следующее утро Матвей пролежал в шезлонге у бассейна, трусливо прячась от солнца под шляпой, кутаясь в белый халат и попивая холодное пиво. В голубой глубине бассейна играли в мяч азиаты, покачивались у берега два надувных круга в виде лебедей, а на волнах подрагивали цветы жасмина, окруженные хрупкой выпуклой кромкой.
Вдруг Матвей резко дернулся в шезлонге, надрывно простонал и дрожащей рукой поставил бутылку пива на камни. На глазах выступили слезы, рот неприятно оскалился, и Матвей схватился за виски. Ему будто вбивали гвоздь в темя - сдавливающая боль распространялась по черепу, стискивая виски, затылок и лоб.
До номера добраться удалось. Первый этаж он преодолел, ощутимо пошатываясь, а из лифта вышел, уже опираясь на стену. В номере надрывно шумел вентилятор, а на парапете балкона трещал коричневый скворец. Выключив вентилятор и захлопнув балконную дверь, Матвей отыскал в аптечке парацетамол и принял две таблетки. После чего, краем глаза заметив в зеркале свое побелевшее от боли лицо, рухнул на кровать и накрыл голову подушкой, чтобы отгородиться от всякого звука и светового блика.
Контрольный час улучшения не принес. Сильнее боль не стала, но и сдавать позиции не собиралась. С трудом одевшись, Матвей вызвал такси и поехал в ближайший квартал, намереваясь найти там аптеку и купить что-нибудь посильнее. Наметанный взгляд аптечного торчка сразу же вычленил из городского пейзажа зеленый крест. Стискивая зубы, Матвей шатко вышел из машины. Удушливо пахло жареным луком, хрипло шуршали об асфальт шины.
Когда он ввалился в аптеку, него сразу же пахнуло стерильностью и приемным покоем. За кассой стояла пожилая китаянка с непроницаемым лицом, а молодая женщина европейской внешности задумчиво разглядывала витрину с лекарствами от кашля. Под прозрачной капустно-зеленой курткой, защищающей от солнца, белели хрупкие плечи, а длинный пластиковый козырек бросал зыбкую тень на хмуро-красивое лицо, в острых чертах которого проступало нечто ядовитое.
- Headache… - умоляюще выдавил Матвей, подойдя к кассе и перебрав весь известный ему английский вокабуляр, который был весьма скудным. Старушка в белом халате вежливо улыбнулась, но сохранила непроницаемость и сказала что-то по-китайски. Матвей наглядно схватился за виски. Старушка вновь улыбнулась и повторила тот же набор звуков.
- Да твою мать… - тихо простонал Матвей, плаксиво дернув подбородком. Ему захотелось пойти в хозяйственный магазин и купить там веревку с мылом.
- А сильно голова болит? – раздалась у него за спиной чистая русская речь. Матвей медленно обернулся и уставился на женщину в капустном солнцевике, которая сочувственно на него смотрела. Ее длинные волосы были собраны в античный узел, сколотый множеством шпилек, и она напоминала Асю и Ладу одновременно.
- Очень, - полушепотом простонал Матвей.
- Ясненько, - достала она деньги из кармана юбки, - сейчас всё будет.
Потеснив бескровного и донельзя ослабшего Матвея, она заговорила со старушкой по-китайски, и та удалилась в подсобку, после чего вернулась с четырьмя картонными упаковками, которые под светом ламп отливали оранжевым. Оставив три себе, женщина отдала одну Матвею:
- Не за что.
- Спасибо огромное… - пробормотал Матвей, оглядывая тонкий квадрат упаковки. Название было подозрительно знакомым.
«Каффетин, каффетин… - крутилось у него в голове. – Каффетин… Где я про него слышал?»
- Это же кодеин! Ты его без рецепта взяла? – удивился он вслух, посмотрев на женщину. Она уже шла к выходу, но остановилась, услышав его вопрос, и посмотрела на него с неприкрытым недоумением.
- Ну да, ты же сам видел. Он здесь без рецепта, - сказала она. Её взгляд переместился на исколотые руки Матвея, и она покачала головой:
- То есть, ты тоже нарк. Классненько. Меня Вика зовут.
- А я Матвей, - промямлил он, выдавливая из блистера таблетку, - приятно поз… У-у-у!
Голову прострелило особенно резким болевым разрядом, и Матвей схватился за висок. Закинув в рот белую таблетку, он проглотил ее без воды, а оставшийся каффетин спрятал в карман.
- Да, мне тоже приятно познакомиться, - ответила на любезность Вика, оценивающе смерив его глазами, которые казались прохладными из-за севших зрачков. Сам не понимая причины своего поступка, Матвей предложил куда-нибудь сходить вместе, когда ему станет лучше, а она не отказалась, но сообщила, что может встретиться с ним только завтра. Матвей осторожно, но часто закивал, обменялся с ней контактами и поехал в отель – дожидаться облегчения. Таблетка, принятая на кишку, должна была подействовать только через полчаса.
День их встречи выдался таким же жарким, душным и влажным. Пряча руки в карманах, Матвей шел рядом с Викой, которая холодно смотрела на него крошечными точками зрачков. Под ногами глухо шуршал каменистый тротуар. За темными ветвями пальм, которые шли внахлест и образовывали тенистый покров, виднелись малахитово-алые кроны, испещренные кластерами красных цветов, густые скопления розовых вьюнков и жемчужное от невесомых облаков небо. Белые паучьи лилии, росшие у дороги, нехотя покачивали тонкими, как лапки каракурта, лепестками.
- Ты кто вообще такой? – вдруг задумчиво поинтересовалась Вика. – Ты мажор какой-то? Или просто у какой-нибудь бабы на содержании?
- На содержании? – переспросил Матвей, стараясь скрыть замешательство.
- Ты сам говорил, что нигде не работаешь, - и она уже в который раз обмерила его взглядом с ног до головы.
- Да, сейчас нигде, - уклончиво ответил Матвей.
- Так чем ты занимаешься? – продолжила Вика, и у нее на губах проступило слабое подобие улыбки. – Не считай меня грубой, просто любопытно.
- Да так, продаю говно всякое, - ответил он нарочито небрежно, но запоздало понял, что прозвучала фраза слишком двусмысленно. Особенно для Вики. Она понимающе ухмыльнулась, и в её манерах проступил бледный эрзац теплоты.
- Ага, понятно. Приторговываешь, значит. Ладненько.
- Почему ты так думаешь? – нахмурился Матвей.
- Не похож ты на человека, родившегося с деньгами. Вот на резко обогатившегося очень даже похож. Поэтому я предположила, что ты или драгдилер, или криптоинвестор. А ты так старательно уходил от вопроса о профессии…
Остаток отпуска Матвей провел с Викой. Трезвой она была крайне редко и сексом занималась охотно, но делала это настолько индифферентно, не обращая на Матвея внимания, что он не понимал, зачем он ей вообще понадобился. Голова болела часто и сильно, и хотя кодеин не избавлял от ощущения боли полностью, он притуплял ее до такой степени, что Матвею казалось, будто болит вовсе не его голова, а чья-то чужая. Надрывная боль, задавленная кодеином, существовала в иной от него плоскости.
Подходил к концу предпоследний день отпуска. Матвей курил на узком балконе, созерцая суженными зрачками бледно-коричневые тени, постепенно набирающие глубину и поглощающие цветущий тропический вид. За спиной раздался сдавленный шорох, и сбоку от него возникла Вика, одетая в белый гостиничный халат. Матвей рефлекторно щелкнул зажигалкой, и Вика окунула кончик сигареты в бледное пламя. Дым поплыл по воздуху, теряясь в подступающих дегтярно-черных сумерках.
- Куда еще здесь можно сходить? – спросил Матвей спустя немного времени. – Я улетаю послезавтра, но не знаю, чем заняться.
- Можешь съездить в бухту Дадунхай и поесть морских гадов. Их вылавливают из аквариума и прямо при тебе жарят, - сказала Вика, - выбираешь любую тварь, какую захочешь, а потом ешь.
Матвей вскинул бровь. От одного только описания процесса веяло жутью и безысходностью.
- Там много русских, продавцы тебя поймут, - добавила она, неверно истолковав его сомнение. Лицо Матвея ослепила блеклая улыбка:
- А ты хочешь пойти со мной?
- Я завтра весь день на работе. Увы, не могу.
На горизонте догорели последние закатные всполохи, и по небу поползли голубовато-серые тучи. Матвей хрипло закашлялся – это был влажный кашель курильщика. Он положил ладонь на парапет и ощутил кожей сухой металл. Ноздри улавливали тонкий аромат цветов.
- Чем ты торгуешь-то? – искоса посмотрела на него Вика.
- Мефом, спидами, ешками, - сказал Матвей, - герой…
- Жестко, - резюмировала она.
В бухту Дадунхай Матвей отправился один. Длинная набережная была тесно забита барами и закусочными, на чьих вылинявших вывесках часто встречались русские слова. Грубо грохотала музыка двадцатилетней давности, а мшистые стволы деревьев тянулись к синеве вечернего неба, на фоне которого бледнели подсвеченные фонарями листья.
Стеклянный ящик аквариума кишел склизко-серыми креветками. Креветки ползали друг по другу, стремительно перебирая тонкими лапками, взбалтывая мутную воду и мелькая хитиновыми панцирями. Одна креветка была особенно резвой – она энергично водила острой мордой и шла по головам собратьев. Матвей указал пальцем на нее и апатичную креветку поменьше. Пожилой китаец выловил обеих щипцами и бросил на широкую черную сковородку.
Спустя двадцать минут Матвей глодал хрустящий хитин, высасывая из него сочное мясо, приправленное острыми специями. На тарелку ложились опустевшие панцири, которые недавно были живыми и плавали в аквариуме, не обращая внимания на равнодушный взгляд Матвея, не суливший им ничего доброго.
В Петербург Матвей вернулся ночью. Когда самолет подлетел к промозглому городу Святого Петра, под крылом самолета засверкала мелкодисперсная россыпь золотистых огней. В рюкзаке у Матвея лежал блистер из-под парацетамола, в который он предусмотрительно переложил оставшийся каффетин.
***
Бритый под ноль Куртов, заинтригованный неожиданным приглашением, неловко топтался на пороге темного кабинета, углы которого расплывались в полумраке раннего утра. Шел пятый час. Под потолком приглушенно переливался пестрый шестигранный абажур, разбрасывающий по стенам разноцветные мелкие брызги. Чуть поодаль от наглухо зашторенного окна находился письменный стол с деревянным стулом, по левой стене располагался книжный шкаф с прозрачными дверцами, а справа от входной двери стоял красный кофейный столик с пепельницей, дополненный красным диваном и креслом. Стены кабинета были украшены застекленными образцами бабочек, которые глядели на Куртова псевдоглазами ярких крыльев. Воздух в кабинете почему-то отдавал уксусом и ландышем.
Раздалось шарканье тапок, и в дверях показался Герыч, который впервые за несколько месяцев предложил встретиться лично. В руках он держал небольшую картонную коробку, а зубами сжимал фильтр нетронутой сигареты. Вид Герыч имел посвежевший: он чуть-чуть отъелся, и в лице даже проступило нечто смазливое, прежде скрытое истощением, однако это новое свойство лишь усугубило прежнее отталкивающее впечатление, вступив в диссонанс с необоснованно-злобной мимикой и угрюмым взглядом.
- Чего ты стоишь? – удивленно посмотрел он на Куртова глубоко посаженными глазами, которые поблескивали в затененных глазницах. – Не стесняйся, чувствуй себя как дома.
Поставив коробку возле столика, Герыч занял кресло и щелкнул зажигалкой, а затем уложил локти на подлокотники. Сбитый с толку его трезвостью, Куртов расположился на диване, интуитивно заняв самый его край. Хозяин квартиры вел себя странно, зато был открыт к диалогу, которого обычно избегал, и Куртову это было только на руку. Гриша часто отчитывал его за недостаточные старания, а Куртов не понимал, как вообще можно расположить к себе такого замкнутого, как его шеф, человека. Выражался тот скупо, был себе на уме, и содержимое его головы оставалось непонятным.
- Я позвал тебя, чтобы избавить от унизительной необходимости стучать, - без обиняков сообщил Герыч, бросив на Куртова внимательный взгляд. Рука, держащая сигарету, вновь метнулась ко рту и спустя один дымный выдох качнулась назад, как стрелка метронома. Она белела крупицами шрамов, а под кожей проступали рельефные вены, вместе образующие карту мельчающих рек.
- Что? На кого стучать? – широко раскрыл глаза Куртов, старательно изображая удивление. Он нервозно сглотнул, надеясь, что в полумраке кабинета это останется незамеченным. Подтвердилась его догадка: Герыч не шел на контакт осознанно, потому что в какой-то момент понял истинный расклад.
- Какая разница? Главное, что ты больше не будешь этим заниматься. Это не самое приятное занятие.
- Но взамен я должен делать что-то другое, да? – с опаской поинтересовался Куртов, заерзав на пушистом диване. На его олимпийке застыло ярко-коричневое световое пятно, отброшенное абажуром.
- Да, - пристально посмотрел на него Герыч, - барыжить.
Куртов замялся, выдерживая вежливую паузу. Ему поставили очевидный ультиматум, и он отчетливо понимал, что отказ чреват серьезными проблемами, будь то членовредительство, тюремный срок или нечто худшее и окончательное. Барыжить Куртов не хотел, но и возражать Герычу, с которым наверняка уже всё согласовали, не хотел тоже.
- Знаешь, сколько я тебе клиентуры передам? – развалился Герыч в кресле, словно уже скинул с себя эту тяжкую ответственность. – Почти триста постоянных покупателей на меф и спиды. Большей частью, конечно, на меф. И десяток кокаинщиков - эти пишут редко, но цена всё нивелирует. А еще тех, кто время от времени мдмашки берет. Работа – не бей лежачего.
- Я-то, конечно, согласен… - осторожно пробормотал Куртов.
- Есть два условия. Во-первых, каждый месяц отстегиваешь наверх по пятьдесят косарей. Гриша даст тебе все реквизиты. Во-вторых, покупаешь только у меня. Иначе затея теряет всякий смысл, - резюмировал Герыч, небрежно пожав плечами.
«Ну и я заодно тоже», - продолжил про себя Куртов. Герыч сделал последнюю и торопливую затяжку, вдавил окурок в квадратное ложе пепельницы, и тот погас, плюнув напоследок зыбким витком дыма.
- Насчет закладчика узнай у Гриши. Сам понимаешь, я пока ничего не могу тебе продать. Толкнуть всё это в одиночку ты не сможешь физически.
- А когда я его найду? Что потом? – глухо поинтересовался Куртов. Герыч слабо улыбнулся и, открыв картонную коробку, выложил на красное стекло столика четыре плотно набитых зиплока, три из которых содержали в себе белый порошок и различались только рукописными метками: «М, 50», «А, 50» и «К, 15». Оставшийся топорщился гранями красных таблеток в виде герба Санкт-Петербурга и был маркирован размашистым числом «40».
- Продам тебе на пробу вот это, - непринужденно ответил Герыч, указав на зиплоки веером ладони. Он будто не заметил явного удивления Куртова, который при виде такого крупного размера округлил глаза и заморгал. Он и прежде видел такое количество, но видел его расфасованным по граммам, и в виде горстки готовых закладок оно не производило настолько яркого впечатления.
- Сначала так, по мелочи, - продолжил Герыч тем же тоном, - когда освоишься, сможешь брать больше. Хотя тебе в таком случае даже придется брать больше.
Мысленно прикидывая масштабы товарооборота, Куртов косился то на Герыча, то на коробку. Он не был дураком и прекрасно понимал, что просто так доходную клиентскую сеть не отдают. Было ясно как день, что у Герыча появился более прибыльный вариант, ради которого не грех было отказаться от быстрых клиентов, поручив их дилеру помельче. Куртов поморщился. Запах уксуса пробивался сквозь аромат ландыша и медленно, но неизбежно раздражал.
- Что-то не так? – участливо подался вперед Герыч.
- Пахнет странно, - задумчиво сказал Куртов. Вяло махнув даже не рукой, а одной лишь кистью, Герыч нахмурился:
- Не обращай внимания, это ангидрид. Каждый день проветриваю, и все равно пахнет.
Куртов невидимо усмехнулся в интимном сумраке: «Ангидрид, значит…». На одной с ним лестничной клетке проживала супружеская пара, которая была неразлучной уже почти двадцать лет. Торчать они начали еще в десятых, и комната, бывшая у них в собственности, со временем превратилась в варочную хату, где варили то винт, то ханку. Когда жену посадили за сбыт, муж переехал к пожилой матери, а комнату, когда-то представляющую из себя притон, начал сдавать в аренду. Иногда он ездил на свидания к жене, которая отбывала срок в колонии-поселении. В годы, которые были для супругов то ли лучшими, то ли худшими, из их комнаты несло незабываемым уксусным душком.
- Почему я? – вдруг спросил Куртов.
- Начнем с того, что ты не торчишь. К тому же, мы с тобой уже давно вместе работаем, и ты за это время ни разу меня не обманул. Думаю, тебе можно доверить такую ответственность.
- Но ведь есть нюансы, которых я не знаю… - протянул Куртов, осторожно подбирая слова.
- Я позвал тебя именно затем, чтобы всё рассказать и показать, - деловито произнес Герыч и достал из коробки электронные весы, за которыми последовали блестящие блистеры глицина и парацетамола.
«Живет же человек и не парится», - подумал Куртов, неопределенно поморщившись.
Постельное белье оливкового цвета нагревалось под жаркими лучами солнца, которое катилось над фосфорически-блестящими крышами и искристо отражалось в узком окне. Под одеялом проступали очертания человеческой фигуры, и наружу торчала худосочная рука, безвольно лежащая на простыне. Из-под подушки, защищающей голову от света и шума, выбивались жесткие светлые вихры. На внутренней стороне руки, между сгибом локтя и запястьем, отчетливо выделялся тонкий штрих заживающего разреза – следа операционного вмешательства, на месте которого неделю назад красовался абсцесс, набухший гноем и окаймленный ореолом красноты. Выбрав слишком тонкую вену, Матвей задул половину мефедрона в мышцу, и его от души тряхануло. Проходив несколько дней с температурой и абсцессом, который лез наружу, как тесто из кастрюли, и гепариновой мази не поддавался, он поехал в частную клинику, что располагалась близ Петровской набережной.
Матвея в клинике уже знали, потому что он оставил там больше трехсот тысяч рублей, когда менял хрупкие от стимуляторов зубы, и стоматолог прекрасно понимал природу его недомоганий, но тактично молчал, потому что был платным врачом. В его присутствии Матвей старался говорить культурно и вежливо, не допуская в речь специфических выражений. Впрочем, один раз сдержаться всё же не получилось. Сидя на кушетке, Матвей ждал, пока подействует наркоз, и пытался моргать левым глазом. Моргать не получалось: левая половина лица онемела, лишившись всякой подвижности. Время от времени опуская застывшее веко пальцем, Матвей ощущал странную рассеянность в голове, легкую дезориентацию в пространстве и нарастающее предчувствие, поселившееся между сердцем и желудком. Предчувствие было подозрительно знакомым и предпередозным. Впервые Матвей познакомился с ним, когда работал официантом – как раз перед тем, как упасть на пол в судорогах и с пеной у рта.
- Доктор, я, кажется, отъезжаю… - кратко передал он суть своего состояния, забыв о приличиях. – Я передознусь сейчас…
- Ничего страшного не случится, так и должно быть, - тактично успокоил его стоматолог, сохранив вежливый модус поведения, - это же зуб мудрости.
Гниющий зуб выскребали по кусочкам. Стоматолог с такой силой орудовал молотком, что Матвей опасался, как бы ему ненароком не раскрошили челюсть. Ватка пропиталась кровью насквозь, а моргать левым глазом Матвей начал только через четыре часа.
Абсцесс вскрыли с такой же корректностью и человеческим отношением, которые хоть и были обусловлены завышенным прайсом, однако хотя бы присутствовали.
Но голова болеть не перестала. Началось это еще до операции, и Матвей полагал, что головные боли как-то связаны с его аховым состоянием и просто дополняют общую картину страданий. Но абсцесс прошел, а головные боли почему-то нет. Болело каждый день, примерно по часу – череп будто сдавливало со всех сторон. Состояние было терпимое, но раздражающее. Добивающим штрихом оказался очередной пик тоски по свежести, совпавший по времени с операцией и недомоганием. Тоска заявляла о себе крайне изобретательно: фантомным запахом свежести, возникающим на несколько секунд, зудом, который так и манил проткнуть острой иглой хрупкую стенку вены, и красочными сновидениями, которые отнюдь не были кошмарами. Совсем наоборот. Истосковавшийся по свежести мозг старательно воспроизводил сокрушающую эйфорию, и просыпаться после таких снов было морально тяжело.
Голова болела и сейчас. Матвей не спал, он лежал под одеялом, не желая подниматься, избегая яркого света, бьющего по оконным стеклам, и ропота людей, стремящихся попасть то в образовательный центр, то в муниципальную контору непонятного назначения. Табличка с угрожающей аббревиатурой «ЦАЛСКСП» ничего не проясняла, но глаз Матвея вполне ожидаемо вычленял в ней знакомую ему аббревиатуру «ск сп». Рабочий телефон лежал возле руки и беззвучно моргал уведомлениями о пропущенных звонках. Пропущенных звонков насчитывалось уже шестнадцать.
«Надо что-то делать», - подумал Матвей, скорчив простыне печальную гримасу. Нехотя вынырнув из-под подушки, он привстал, и одеяло сползло с костистых плеч, подставив палящему свету острые выступы лопаток, выпуклую вереницу позвонков и проглядывающие дуги ребер. Матвей задернул штору. Молочно-голубая спальня погрузилась в теплый полумрак. Взяв с тумбочки личный телефон, он улегся набок и стал просматривать сайты турагенств. Листая прейскуранты, он выбирал место, подходящие под следующие критерии: популярность курорта у русских, безвизовый режим и, конечно же, наличие пальм. Загранпаспорт Матвей сделал еще зимой, но еще ни разу им не пользовался.
Когда день за шторами несколько поблек, а боль почти перестала сжимать голову, Матвей позвонил Грише. Нужно было согласовать отъезд с начальством.
- Я так больше не могу. Я должен отдохнуть и желательно не здесь, - сообщил он Грише, - у меня уже неделю болит голова, я крайне паршиво себя чувствую. На всю эту шушеру смотреть тошно, мне каждого второго хочется послать.
- Наконец-то наш трудоголик созрел для поездок. И куда ты собрался, если не секрет? – весьма доброжелательно спросил Гриша.
- В Китай, - сказал Матвей, - на остров Хайнань.
- Ты в курсе, что там с наркотиками там строго? Там наркоторговцев расстреливают.
- Я же отдыхать собираюсь. Пиво пить, на пальмы смотреть.
- Вряд ли ты сможешь там что-то вымутить. Я об этом.
- Так даже лучше, - пробормотал Матвей.
- Рад, что тебе надоело в квартире мариноваться. Если деньги есть, их надо на что-то тратить, - хмыкнул Гриша.
- И пока существует субъект, способный их тратить, - мрачно буркнул Матвей. Ответом ему был неудержимый гогот.
Матвей уже давно мог позволить себе какую-нибудь поездку, но у него даже не возникало такого желания: свежесть стоила гораздо дешевле, а ощущения дарила куда более сильные и глубокие, затмевая не только путешествия, но и секс. Матвея не впечатляли естественные эндорфиновые раздражители. Зимой он кололся почти каждый день, и если ему, собирающемуся на свидание, вдруг приходила мысль вмазаться, он без раздумий отменял свидание, променивая его на ширево. Однако ширева стало гораздо меньше, и теперь недостаток впечатлений нужно было как-то восполнять.
За двадцать лет жизни Матвей ни разу не летал на самолете, его перемещения ограничивались плацкартным путешествием из Мордовии в Петербург и единственной поездкой в Москву на ночном автобусе, так что на открывающиеся из окна виды Матвей реагировал с восторгом ребенка, который еще не утратил новизну восприятия. Под крылом самолета громоздились друг на друга облака, похожие на огромные ледяные торосы, которым не было ни конца, ни края.
Город Санья, находящийся на острове Хайнань, встретил Матвея тропической духотой, вязкой жарой и хлещущим ливнем. Сдав в аэропорту отпечатки пальцев, Матвей вышел под острую крышу деревянного козырька и дальше идти не решился. Под напором ливневых струй дрожали зеленые веера пальм, в изобилии росших всюду, куда падал взгляд, и мелкие бутоны огненно-алых крон, которые опирались на тонкие змеящиеся стволы. Промокшая кора казалась кофейно-черной, а крупные капли с чугунной глухотой бились об асфальт и кожистую пальмовую зелень, которая горела малахитом на фоне жемчужно-серых туч.
Проследовав за тремя женщинами средних лет, которые говорили по-русски, Матвей нашел автобус турагентства и занял место у окна. Его отель был в списке последним, и весь оставшийся час Матвей глазел на незнакомые ландшафты. Среди тропических лесов пригорода светлели двухэтажные дома разной степени ветхости – темные от сырости, покрытые трещинами, с провисающими рядами белья, которое сохло на балконах. Такими же домами полнилась и Санья, но с зарешеченными окнами и балконами. Матвею вспомнились утверждения знакомых, что в Китае практически не воруют. Судя по паранойяльному частоколу прутьев, это было не самое правдивое утверждение.
Наслаивающиеся друг на друга голографические вывески слепили глаза, отпечатываясь на сетчатке закрытых глаз жгучими яркими пятнами, а жилые дома перемежались закусочными, алкомаркетами и электрозаправками. Хаотичный трафик состоял из автомобилей местного производства и дешевых электромопедов. Центр города уже не напоминал беспорядочно функционирующий муравейник, но производил жутковатое впечатление: жилые комплексы представляли собой тридцатиэтажные высотки, стоящие вплотную друг к другу, и от количества домов, теснящихся на клочке земли, у Матвея рябило в глазах. Внешне новостройки ничем друг от друга не отличались и глядели на город темными окнами, напоминая мегаломанические человеческие ульи. На фоне китайских жилых кварталов постсоветские панельные фавелы казались вершиной уюта и многообразия.
Договорившись с гидом-китаянкой, которая для удобства представилась Таней, о завтрашней встрече, Матвей вышел из автобуса и ощутил беспредметное волнение в солнечном сплетении – очень похожее на затаенный страх, но явно имеющее другую природу. Монументальный пятизвездочный отель спускался к белому пляжу бухты Санья каскадом прозрачно-голубых бассейнов, скульптурных фонтанов и темных мраморных лестниц. Пышущий великолепием пейзаж полукругом охватывали два песочно-бежевых крыла отеля, которые нависали над Матвеем, грозясь раздавить его своими масштабами и потускневшей из-за пасмурной погоды белизной. Матвей понял, что впервые за долгое время ощущает естественную радость.
За стеной ливня терялись невысокие лесистые горы, разных оттенков пальмы с желтеющими по краям листьями и жасминовые деревья, окруженные белыми паучьими лилиями. Матвей побрел к отелю, волоча за собой небольшой чемодан на колесиках, которые с тихим шуршанием касались мраморных плит. Справа от входа журчал струями искусственный водоем, дно которого было устлано мелкими квадратами темной плитки, которая мерцала бензиновыми переливами и напоминала рыбью чешую. По поверхности воды бил дождь, покрывая ее мелкой рябью, размашистыми кругами и хрупкими пузырями.
Матвею достался номер на четвертом этаже, который формально был пятым. Хмыкнув, он нашел ситуацию несколько иронической. Миновав холл со светодиодной инсталляцией во всю стену и массивными бутонами хрустальных люстр, Матвей нашел нужный номер и с облегченным вздохом закрылся изнутри. Как и полагалось отелю европейского типа, номер был оформлен в светлых тонах. Возле панорамного окна, подернутого прозрачно-белой шторой, стояло кресло с круглым столиком, столешница которого тоже была мраморной, а четверть комнаты занимала высокая кровать.
Матвей осторожно провел рукой по белой столешнице, испещренной бледными цветными жилками. Оставив чемодан возле кровати, он взял с тумбочки пепельницу и вышел на узкий открытый балкон, который мог вместить максимум двух человек. После долгожданного перекура он повесил промокшую одежду сушиться и улегся спать. Идти куда-то в такой ливень не было смысла. Впереди были десять дней недеяния.
Перелет спутал часовые пояса и сбил внутреннее ощущение времени, поэтому Матвей неожиданно для себя проснулся в семь утра. Заснуть повторно не получилось. За окном было солнечно и жарко, а воздух сочился влажной духотой. Однако Матвей достал из чемодана джинсы и светлую рубашку с длинным рукавом. За прошедшие полтора года он слишком изуродовал конечности, в которых имелись хорошие вены, и теперь кожа на них была покрыта характерными шрамами.
Надев темные очки, он отправился к пляжу, возле которого бушевало море. Искусственный водоем у входа еще сильнее сверкал бензиново-черным дном, а на подрагивающей глади отпечатывался черный силуэт пальмовой ветви. Подняв голову, Матвей увидел широкие листья, чьи зазубренные острые кромки контрастно резали бледно-голубое безоблачное небо. В темных очках, купленных несколько лет назад в Офтони, отразились высокие дуги кокосовых пальм, искаженные перспективой.
Петляя между бассейнами, где плавали китайцы в прозрачных куртках и пожилые европейцы, между фонтанами, украшенными минималистичными скульптурами воробьев и журавлей, Матвей спустился к границе пляжа. Далеко впереди бешено глодали берег пенистые волны, а перед Матвеем высилась предупреждающая табличка.
«Осторожно, сильный волн. Не плавать», - настоятельно советовала табличка на русском языке автоматического переводчика. Плавать Матвей и так не планировал. Он не умел этого делать и панически боялся ощущения глубины под ногами.
Загребая кроссовками белый песок, Матвей расслабленно дошел до линии прибоя. Мраморно-голубые волны с прожилками пены и бежевыми штрихами песка наваливались на мокрый берег, разбивались на крупные брызги, и уползали обратно в море, и затем на скользкий коричневый песок угрожающе обрушивались новые пенящиеся гребни.
Ближе к десяти утра Матвей вернулся в холл гостиницы. Под красным цветком люстры, поблескивающей каскадом прозрачных капель, его уже ждала Таня, китаянка лет тридцати, носящая каре и расширяющиеся книзу брюки. Как и большинство гидов острова, Таня жила в более холодном и менее благополучном Харбине, а на Хайнань, когда-то бывший местом ссылки каторжников, а теперь ставший пограничным городом с военными базами, приезжала ради сезонной работы. По-русски она говорила более чем хорошо – выдавал её лишь свистящий акцент.
Усадив Матвея на ближайший диван, Таня развернула буклет с предлагаемыми экскурсиями и пустилась в подробные объяснения. Почти все экскурсии начинались в девять утра. Матвей почесал в затылке. В такое время он даже на работу не вставал. А просыпаться рано, находясь в отпуске, ему не хотелось тем более. Выбрав единственную экскурсию, которая начиналась в полдень, Матвей запоздало понял, что ему придется посетить фабрику акульего жира. С некоторой неловкостью предвкушая крайне странный экспириенс, он оплатил экскурсию, потому что других вариантов не оставалось.
Экскурсия состоялась на следующий день. Завидев не очень-то массивное здание, Матвей понял, что оно не может быть фабрикой акульего жира и что его, несведущего туриста, ожидаемо обманывают. Фасад изображал волнистую ракушку из белого камня, а перед входом красовалась пестрая скульптурная композиция: три голубых дельфина, везущие по волнам карету из полосатой ракушки, в которой сидела морская дева с азиатскими чертами. Дева, как и дельфины, сдержанно улыбалась.
Передав туристов местному экскурсоводу, Таня ретировалась в автобус. Матвей плелся в хвосте группы, не слушая экскурсовода, который восхвалял целебные свойства акульего жира – явно ради дальнейшей продажи, и таращился на акульи чучела с перекошенными мордами. Чучела таращились на него в ответ, мерцая мелкими стекляшками глаз. Встречающиеся плакаты тоже были написаны на машинном русском, и Матвей старательно сдерживал нервное хихиканье.
«Заходи дорогая! Продиагностируйся на женские заболевания. Кто раньше была, теперь здорова», - призывал нежно-розовый плакат с девичьим силуэтом.
Как и ожидалось, экскурсовод начал продавать акулий жир и позвал туристов на диагностику здоровья. Не поддавшись на уговоры, Матвей купил только конфеты из сушеного акульего мяса и сбежал на задний двор, где размещались пруд с перекинутым через него мостиком и скромный базарчик. Участвовать в диагностике ему решительно не хотелось. Он и без нее понимал, что здоровье у него неважное.
Накрапывал мелкий дождь. В пруду извилисто сновали пламенно-оранжевые карпы, покрытые брызгами белых и черных пятен, а на светлых камнях, окружающих пруд, сидели ярко-розовые стрекозы с прозрачной слюдой оранжевых крыльев. Обогнув рощицу жасминовых деревьев, которые пестрели нежными белыми бутонами с градиентно-желтой сердцевиной, Матвей спрятался под навесом базара. Мелкие капли разбивались об светлую плитку, которой был вымощен задний двор, и опавшие жасминовые цветы.
Матвей курил, прислонившись к зеленому решетчатому забору, за которым густо рос стрельчатый бамбук. Верхушка забора была увита красной пластиковой гирляндой в виде традиционных китайских фонариков, а на толстой колонне, что возвышалась справа, виднелся белый лист с надписью «пиво» - на китайском, английском и русском.
Диагностика всё не заканчивалась. Дождь сменился полуденной жарой: солнце било в глаза и пекло макушку, хотя Матвей стоял в тени. Влажные от пота волосы липли к вискам, и он ощущал себя жарящейся рыбой. Высокая температура оказалась настолько нестерпимой, что даже дискомфорт, вызываемый посторонними взглядами, по сравнению с ней был менее болезненным.
«Какая вообще разница? – спрашивал себя Матвей, закатывая рукава и подкатывая джинсы. – Всё равно здесь любят белых туристов с деньгами. С какими угодно руками и даже без них».
Когда он купил на базаре черную соломенную шляпу с бело-зеленой лентой вокруг тульи, ждать конца экскурсии стало намного легче. Медленно покуривая под сенью бамбука и жуя перченые мясные конфеты, он подметил, что голова не болит уже два дня.
«Наверное, мне действительно нужно было расслабиться», - с облегчением подумал он.
Все следующее утро Матвей пролежал в шезлонге у бассейна, трусливо прячась от солнца под шляпой, кутаясь в белый халат и попивая холодное пиво. В голубой глубине бассейна играли в мяч азиаты, покачивались у берега два надувных круга в виде лебедей, а на волнах подрагивали цветы жасмина, окруженные хрупкой выпуклой кромкой.
Вдруг Матвей резко дернулся в шезлонге, надрывно простонал и дрожащей рукой поставил бутылку пива на камни. На глазах выступили слезы, рот неприятно оскалился, и Матвей схватился за виски. Ему будто вбивали гвоздь в темя - сдавливающая боль распространялась по черепу, стискивая виски, затылок и лоб.
До номера добраться удалось. Первый этаж он преодолел, ощутимо пошатываясь, а из лифта вышел, уже опираясь на стену. В номере надрывно шумел вентилятор, а на парапете балкона трещал коричневый скворец. Выключив вентилятор и захлопнув балконную дверь, Матвей отыскал в аптечке парацетамол и принял две таблетки. После чего, краем глаза заметив в зеркале свое побелевшее от боли лицо, рухнул на кровать и накрыл голову подушкой, чтобы отгородиться от всякого звука и светового блика.
Контрольный час улучшения не принес. Сильнее боль не стала, но и сдавать позиции не собиралась. С трудом одевшись, Матвей вызвал такси и поехал в ближайший квартал, намереваясь найти там аптеку и купить что-нибудь посильнее. Наметанный взгляд аптечного торчка сразу же вычленил из городского пейзажа зеленый крест. Стискивая зубы, Матвей шатко вышел из машины. Удушливо пахло жареным луком, хрипло шуршали об асфальт шины.
Когда он ввалился в аптеку, него сразу же пахнуло стерильностью и приемным покоем. За кассой стояла пожилая китаянка с непроницаемым лицом, а молодая женщина европейской внешности задумчиво разглядывала витрину с лекарствами от кашля. Под прозрачной капустно-зеленой курткой, защищающей от солнца, белели хрупкие плечи, а длинный пластиковый козырек бросал зыбкую тень на хмуро-красивое лицо, в острых чертах которого проступало нечто ядовитое.
- Headache… - умоляюще выдавил Матвей, подойдя к кассе и перебрав весь известный ему английский вокабуляр, который был весьма скудным. Старушка в белом халате вежливо улыбнулась, но сохранила непроницаемость и сказала что-то по-китайски. Матвей наглядно схватился за виски. Старушка вновь улыбнулась и повторила тот же набор звуков.
- Да твою мать… - тихо простонал Матвей, плаксиво дернув подбородком. Ему захотелось пойти в хозяйственный магазин и купить там веревку с мылом.
- А сильно голова болит? – раздалась у него за спиной чистая русская речь. Матвей медленно обернулся и уставился на женщину в капустном солнцевике, которая сочувственно на него смотрела. Ее длинные волосы были собраны в античный узел, сколотый множеством шпилек, и она напоминала Асю и Ладу одновременно.
- Очень, - полушепотом простонал Матвей.
- Ясненько, - достала она деньги из кармана юбки, - сейчас всё будет.
Потеснив бескровного и донельзя ослабшего Матвея, она заговорила со старушкой по-китайски, и та удалилась в подсобку, после чего вернулась с четырьмя картонными упаковками, которые под светом ламп отливали оранжевым. Оставив три себе, женщина отдала одну Матвею:
- Не за что.
- Спасибо огромное… - пробормотал Матвей, оглядывая тонкий квадрат упаковки. Название было подозрительно знакомым.
«Каффетин, каффетин… - крутилось у него в голове. – Каффетин… Где я про него слышал?»
- Это же кодеин! Ты его без рецепта взяла? – удивился он вслух, посмотрев на женщину. Она уже шла к выходу, но остановилась, услышав его вопрос, и посмотрела на него с неприкрытым недоумением.
- Ну да, ты же сам видел. Он здесь без рецепта, - сказала она. Её взгляд переместился на исколотые руки Матвея, и она покачала головой:
- То есть, ты тоже нарк. Классненько. Меня Вика зовут.
- А я Матвей, - промямлил он, выдавливая из блистера таблетку, - приятно поз… У-у-у!
Голову прострелило особенно резким болевым разрядом, и Матвей схватился за висок. Закинув в рот белую таблетку, он проглотил ее без воды, а оставшийся каффетин спрятал в карман.
- Да, мне тоже приятно познакомиться, - ответила на любезность Вика, оценивающе смерив его глазами, которые казались прохладными из-за севших зрачков. Сам не понимая причины своего поступка, Матвей предложил куда-нибудь сходить вместе, когда ему станет лучше, а она не отказалась, но сообщила, что может встретиться с ним только завтра. Матвей осторожно, но часто закивал, обменялся с ней контактами и поехал в отель – дожидаться облегчения. Таблетка, принятая на кишку, должна была подействовать только через полчаса.
День их встречи выдался таким же жарким, душным и влажным. Пряча руки в карманах, Матвей шел рядом с Викой, которая холодно смотрела на него крошечными точками зрачков. Под ногами глухо шуршал каменистый тротуар. За темными ветвями пальм, которые шли внахлест и образовывали тенистый покров, виднелись малахитово-алые кроны, испещренные кластерами красных цветов, густые скопления розовых вьюнков и жемчужное от невесомых облаков небо. Белые паучьи лилии, росшие у дороги, нехотя покачивали тонкими, как лапки каракурта, лепестками.
- Ты кто вообще такой? – вдруг задумчиво поинтересовалась Вика. – Ты мажор какой-то? Или просто у какой-нибудь бабы на содержании?
- На содержании? – переспросил Матвей, стараясь скрыть замешательство.
- Ты сам говорил, что нигде не работаешь, - и она уже в который раз обмерила его взглядом с ног до головы.
- Да, сейчас нигде, - уклончиво ответил Матвей.
- Так чем ты занимаешься? – продолжила Вика, и у нее на губах проступило слабое подобие улыбки. – Не считай меня грубой, просто любопытно.
- Да так, продаю говно всякое, - ответил он нарочито небрежно, но запоздало понял, что прозвучала фраза слишком двусмысленно. Особенно для Вики. Она понимающе ухмыльнулась, и в её манерах проступил бледный эрзац теплоты.
- Ага, понятно. Приторговываешь, значит. Ладненько.
- Почему ты так думаешь? – нахмурился Матвей.
- Не похож ты на человека, родившегося с деньгами. Вот на резко обогатившегося очень даже похож. Поэтому я предположила, что ты или драгдилер, или криптоинвестор. А ты так старательно уходил от вопроса о профессии…
Остаток отпуска Матвей провел с Викой. Трезвой она была крайне редко и сексом занималась охотно, но делала это настолько индифферентно, не обращая на Матвея внимания, что он не понимал, зачем он ей вообще понадобился. Голова болела часто и сильно, и хотя кодеин не избавлял от ощущения боли полностью, он притуплял ее до такой степени, что Матвею казалось, будто болит вовсе не его голова, а чья-то чужая. Надрывная боль, задавленная кодеином, существовала в иной от него плоскости.
Подходил к концу предпоследний день отпуска. Матвей курил на узком балконе, созерцая суженными зрачками бледно-коричневые тени, постепенно набирающие глубину и поглощающие цветущий тропический вид. За спиной раздался сдавленный шорох, и сбоку от него возникла Вика, одетая в белый гостиничный халат. Матвей рефлекторно щелкнул зажигалкой, и Вика окунула кончик сигареты в бледное пламя. Дым поплыл по воздуху, теряясь в подступающих дегтярно-черных сумерках.
- Куда еще здесь можно сходить? – спросил Матвей спустя немного времени. – Я улетаю послезавтра, но не знаю, чем заняться.
- Можешь съездить в бухту Дадунхай и поесть морских гадов. Их вылавливают из аквариума и прямо при тебе жарят, - сказала Вика, - выбираешь любую тварь, какую захочешь, а потом ешь.
Матвей вскинул бровь. От одного только описания процесса веяло жутью и безысходностью.
- Там много русских, продавцы тебя поймут, - добавила она, неверно истолковав его сомнение. Лицо Матвея ослепила блеклая улыбка:
- А ты хочешь пойти со мной?
- Я завтра весь день на работе. Увы, не могу.
На горизонте догорели последние закатные всполохи, и по небу поползли голубовато-серые тучи. Матвей хрипло закашлялся – это был влажный кашель курильщика. Он положил ладонь на парапет и ощутил кожей сухой металл. Ноздри улавливали тонкий аромат цветов.
- Чем ты торгуешь-то? – искоса посмотрела на него Вика.
- Мефом, спидами, ешками, - сказал Матвей, - герой…
- Жестко, - резюмировала она.
В бухту Дадунхай Матвей отправился один. Длинная набережная была тесно забита барами и закусочными, на чьих вылинявших вывесках часто встречались русские слова. Грубо грохотала музыка двадцатилетней давности, а мшистые стволы деревьев тянулись к синеве вечернего неба, на фоне которого бледнели подсвеченные фонарями листья.
Стеклянный ящик аквариума кишел склизко-серыми креветками. Креветки ползали друг по другу, стремительно перебирая тонкими лапками, взбалтывая мутную воду и мелькая хитиновыми панцирями. Одна креветка была особенно резвой – она энергично водила острой мордой и шла по головам собратьев. Матвей указал пальцем на нее и апатичную креветку поменьше. Пожилой китаец выловил обеих щипцами и бросил на широкую черную сковородку.
Спустя двадцать минут Матвей глодал хрустящий хитин, высасывая из него сочное мясо, приправленное острыми специями. На тарелку ложились опустевшие панцири, которые недавно были живыми и плавали в аквариуме, не обращая внимания на равнодушный взгляд Матвея, не суливший им ничего доброго.
В Петербург Матвей вернулся ночью. Когда самолет подлетел к промозглому городу Святого Петра, под крылом самолета засверкала мелкодисперсная россыпь золотистых огней. В рюкзаке у Матвея лежал блистер из-под парацетамола, в который он предусмотрительно переложил оставшийся каффетин.
***
Бритый под ноль Куртов, заинтригованный неожиданным приглашением, неловко топтался на пороге темного кабинета, углы которого расплывались в полумраке раннего утра. Шел пятый час. Под потолком приглушенно переливался пестрый шестигранный абажур, разбрасывающий по стенам разноцветные мелкие брызги. Чуть поодаль от наглухо зашторенного окна находился письменный стол с деревянным стулом, по левой стене располагался книжный шкаф с прозрачными дверцами, а справа от входной двери стоял красный кофейный столик с пепельницей, дополненный красным диваном и креслом. Стены кабинета были украшены застекленными образцами бабочек, которые глядели на Куртова псевдоглазами ярких крыльев. Воздух в кабинете почему-то отдавал уксусом и ландышем.
Раздалось шарканье тапок, и в дверях показался Герыч, который впервые за несколько месяцев предложил встретиться лично. В руках он держал небольшую картонную коробку, а зубами сжимал фильтр нетронутой сигареты. Вид Герыч имел посвежевший: он чуть-чуть отъелся, и в лице даже проступило нечто смазливое, прежде скрытое истощением, однако это новое свойство лишь усугубило прежнее отталкивающее впечатление, вступив в диссонанс с необоснованно-злобной мимикой и угрюмым взглядом.
- Чего ты стоишь? – удивленно посмотрел он на Куртова глубоко посаженными глазами, которые поблескивали в затененных глазницах. – Не стесняйся, чувствуй себя как дома.
Поставив коробку возле столика, Герыч занял кресло и щелкнул зажигалкой, а затем уложил локти на подлокотники. Сбитый с толку его трезвостью, Куртов расположился на диване, интуитивно заняв самый его край. Хозяин квартиры вел себя странно, зато был открыт к диалогу, которого обычно избегал, и Куртову это было только на руку. Гриша часто отчитывал его за недостаточные старания, а Куртов не понимал, как вообще можно расположить к себе такого замкнутого, как его шеф, человека. Выражался тот скупо, был себе на уме, и содержимое его головы оставалось непонятным.
- Я позвал тебя, чтобы избавить от унизительной необходимости стучать, - без обиняков сообщил Герыч, бросив на Куртова внимательный взгляд. Рука, держащая сигарету, вновь метнулась ко рту и спустя один дымный выдох качнулась назад, как стрелка метронома. Она белела крупицами шрамов, а под кожей проступали рельефные вены, вместе образующие карту мельчающих рек.
- Что? На кого стучать? – широко раскрыл глаза Куртов, старательно изображая удивление. Он нервозно сглотнул, надеясь, что в полумраке кабинета это останется незамеченным. Подтвердилась его догадка: Герыч не шел на контакт осознанно, потому что в какой-то момент понял истинный расклад.
- Какая разница? Главное, что ты больше не будешь этим заниматься. Это не самое приятное занятие.
- Но взамен я должен делать что-то другое, да? – с опаской поинтересовался Куртов, заерзав на пушистом диване. На его олимпийке застыло ярко-коричневое световое пятно, отброшенное абажуром.
- Да, - пристально посмотрел на него Герыч, - барыжить.
Куртов замялся, выдерживая вежливую паузу. Ему поставили очевидный ультиматум, и он отчетливо понимал, что отказ чреват серьезными проблемами, будь то членовредительство, тюремный срок или нечто худшее и окончательное. Барыжить Куртов не хотел, но и возражать Герычу, с которым наверняка уже всё согласовали, не хотел тоже.
- Знаешь, сколько я тебе клиентуры передам? – развалился Герыч в кресле, словно уже скинул с себя эту тяжкую ответственность. – Почти триста постоянных покупателей на меф и спиды. Большей частью, конечно, на меф. И десяток кокаинщиков - эти пишут редко, но цена всё нивелирует. А еще тех, кто время от времени мдмашки берет. Работа – не бей лежачего.
- Я-то, конечно, согласен… - осторожно пробормотал Куртов.
- Есть два условия. Во-первых, каждый месяц отстегиваешь наверх по пятьдесят косарей. Гриша даст тебе все реквизиты. Во-вторых, покупаешь только у меня. Иначе затея теряет всякий смысл, - резюмировал Герыч, небрежно пожав плечами.
«Ну и я заодно тоже», - продолжил про себя Куртов. Герыч сделал последнюю и торопливую затяжку, вдавил окурок в квадратное ложе пепельницы, и тот погас, плюнув напоследок зыбким витком дыма.
- Насчет закладчика узнай у Гриши. Сам понимаешь, я пока ничего не могу тебе продать. Толкнуть всё это в одиночку ты не сможешь физически.
- А когда я его найду? Что потом? – глухо поинтересовался Куртов. Герыч слабо улыбнулся и, открыв картонную коробку, выложил на красное стекло столика четыре плотно набитых зиплока, три из которых содержали в себе белый порошок и различались только рукописными метками: «М, 50», «А, 50» и «К, 15». Оставшийся топорщился гранями красных таблеток в виде герба Санкт-Петербурга и был маркирован размашистым числом «40».
- Продам тебе на пробу вот это, - непринужденно ответил Герыч, указав на зиплоки веером ладони. Он будто не заметил явного удивления Куртова, который при виде такого крупного размера округлил глаза и заморгал. Он и прежде видел такое количество, но видел его расфасованным по граммам, и в виде горстки готовых закладок оно не производило настолько яркого впечатления.
- Сначала так, по мелочи, - продолжил Герыч тем же тоном, - когда освоишься, сможешь брать больше. Хотя тебе в таком случае даже придется брать больше.
Мысленно прикидывая масштабы товарооборота, Куртов косился то на Герыча, то на коробку. Он не был дураком и прекрасно понимал, что просто так доходную клиентскую сеть не отдают. Было ясно как день, что у Герыча появился более прибыльный вариант, ради которого не грех было отказаться от быстрых клиентов, поручив их дилеру помельче. Куртов поморщился. Запах уксуса пробивался сквозь аромат ландыша и медленно, но неизбежно раздражал.
- Что-то не так? – участливо подался вперед Герыч.
- Пахнет странно, - задумчиво сказал Куртов. Вяло махнув даже не рукой, а одной лишь кистью, Герыч нахмурился:
- Не обращай внимания, это ангидрид. Каждый день проветриваю, и все равно пахнет.
Куртов невидимо усмехнулся в интимном сумраке: «Ангидрид, значит…». На одной с ним лестничной клетке проживала супружеская пара, которая была неразлучной уже почти двадцать лет. Торчать они начали еще в десятых, и комната, бывшая у них в собственности, со временем превратилась в варочную хату, где варили то винт, то ханку. Когда жену посадили за сбыт, муж переехал к пожилой матери, а комнату, когда-то представляющую из себя притон, начал сдавать в аренду. Иногда он ездил на свидания к жене, которая отбывала срок в колонии-поселении. В годы, которые были для супругов то ли лучшими, то ли худшими, из их комнаты несло незабываемым уксусным душком.
- Почему я? – вдруг спросил Куртов.
- Начнем с того, что ты не торчишь. К тому же, мы с тобой уже давно вместе работаем, и ты за это время ни разу меня не обманул. Думаю, тебе можно доверить такую ответственность.
- Но ведь есть нюансы, которых я не знаю… - протянул Куртов, осторожно подбирая слова.
- Я позвал тебя именно затем, чтобы всё рассказать и показать, - деловито произнес Герыч и достал из коробки электронные весы, за которыми последовали блестящие блистеры глицина и парацетамола.
«Живет же человек и не парится», - подумал Куртов, неопределенно поморщившись.
☸
Когда Гриша сообщил, что Матвей теперь должен заниматься исключительно героином, а быстрых клиентов надо передать Куртову, Матвей не решился возражать. Для личного контакта он оставил сузившийся круг друзей. Соня в список приближенных клиентов не попала: при первом же звонке он перенаправил ее к Куртову, а тому наказал ни за что, ни при каких обстоятельствах не продавать ей в долг.
- Кому угодно, только не этой суке, - экспрессивно объяснил Матвей, - она тебе все мозги вынесет. Столько крови попортит, ты даже не представляешь.
Воскресный полдень затапливал кухню жарким светом, падал на серые обои, отпечатываясь на них солнечно-желтыми квадратами рам, преломлялся в фиолетовом стекле ламп, которые висели под потолком ровным рядом конусов. Зевая в ладонь и разглаживая мятую футболку, в которой он вчера заснул, в кухню вошел Матвей. Миновав окно, драпированное черными шторами, он оказался в темной части кухни, где стоял обеденный стол. Матвей покосился на часы, висящие на стене: была половина первого. Лицо его находилось в тени, но миозные зрачки не приспосабливались к обстановке, оставаясь чернильными точками на янтарно-карем фоне. Где-то в отдалении пульсировала головная боль, которую Матвей испытывал отстраненно.
«Надо сходить в клинику, проверить мозги, - решил он, сонно потерев лицо, - пусть скажут, что со мной происходит».
Достав из холодильника початую пиццу с грибами, куски которой в беспорядке лежали на тарелке, он выложил два куска на блюдце и сунул его греться в микроволновку. Потом плеснул из чайника кипяченой воды в стакан и выпил его залпом, уронив несколько капель на штаны.
В унисон с микроволновкой подал голос дверной звонок. Поежившись, Матвей поставил стакан в раковину и побрел к двери. В небольшом мониторе камеры топтался светловолосый юноша, похожий на финна – сухощавый, тощий и весь какой-то угловатый. Матвей не открывал дверь, но юноша не унимался и исправно давил на кнопку звонка, оглушая квартиру канареечной трелью. Лицо у него было совершенно незнакомое – Матвей не видел его ни среди знакомых, ни среди покупателей, хотя вид у гостя был крайне опиатный.
- Вы к кому? – глухо спросил Матвей через дверь, не выдержав очередного долгого звонка. Оживившись, юноша жестом сентиментального попрошайки прижал руку к груди и наконец заговорил:
- Матвей тут живет? Я по делу.
«Да чтоб ты сдох», - подумал Матвей с легкой досадой. Если быстрых торчков с горем пополам можно было стерпеть – они ставились и сразу убегали по резко возникающим важным делам, то очередь из опиушников, вповалку лежащих на лестнице, ему лицезреть крайне не хотелось.
- Здесь таких нет, - ответил Матвей через дверь, как и подобает законопослушному гражданину, непосвященному в мутные дела.
- Извините, я ищу Матвея, - зачем-то добавил юноша, вежливо проговаривая заранее приготовленную речь, - мне сказали, что он живет в этом доме, но это всё, что я знаю…
- Спросите в другой квартире, - пробормотал Матвей, придерживаясь роли ничего не понимающего жильца. Юноша резко стряхнул с себя деланую вежливость и торопливо отправился восвояси. На всякий случай выключив домофон, Матвей вернулся в кухню, достал из микроволновки пиццу и принялся вяло ее жевать.
«То есть, раньше он мой голос не слышал, - мелькнула у него запоздалая мысль, - но откуда-то знает, в каком доме я живу. Любопытно».
Когда Матвей уже покончил с завтраком, его заставил вздрогнуть резкий стук по железу, который не прерывался и шел сплошным потоком. На этот раз в прицеле камеры оказался Гриша. Облегченно выдохнув, Матвей открыл ему.
- К тебе не попасть. Я звонил, звонил, стучал, стучал… Еще и трубку не берешь, - миролюбиво отчитал его Гриша. Сложив руки за спиной, он прошел в коридор, оставляя на паркете пыльные следы ботинок.
- Прости, я отключил домофон. А телефон в спальне лежал, и я не услышал, что ты звонил.
- Пиздец ты, конечно, хоромы снял, - улыбнулся Гриша, оглядывая голубые арки коридора и лакированных фламинго с жирафами. Матвей подметил, что Гриша стал несколько суше, чем раньше, хоть и сохранил габариты устрашающего верзилы.
Он провел Гришу в кухню и предложил чай, но тот отказался. Вольготно развалившись на одном из стульев, Гриша прищурился и кинул на Матвея пристальный, оценивающий взгляд:
- Разговор есть, Грязев. Об одном мизерном поручении, на которое у тебя уйдет не больше минуты. Оно даже не связано с наркотой. Если только косвенно.
Матвей, занявший соседний стул, насторожился. Поручения, которые давал Гриша, никогда не заканчивались хорошо для жертв этих поручений, а если они не касались наркотиков, то чаще всего были связаны с необходимостью стучать, которая Матвея не прельщала.
- А что за поручение? – спросил он, и его голос дрогнул.
Хмыкнув, Гриша запустил широкую ладонь в карман и положил перед Матвеем зиплок. Полиэтилен слипся от запекшейся крови, которой было замарано нутро зиплока, а среди коричневых мазков виднелась окровавленная прядь светлых волос, напоминающая слипшийся комок грязи. Зрелище произвело на Матвея такое отвращение, что у него даже вздернулась верхняя губа.
- Да, премерзкая вещица. На то и расчет. Понимаешь ли, этот предмет должен оказаться в одной квартире, и это должно произойти без ведома хозяина. Чтобы его застали врасплох и приняли с крайне важной для одного глухаря уликой. А то глухарь есть, а серийника до сих пор нет.
- Но я же не домушник, - опустил взгляд Матвей, - я не умею вскрывать замки и вообще…
Критически оглядев его, Гриша размеренно, с отзвуком садистской радости произнес:
- А тебе не придется вскрывать замок. Тебя впустят, как троянского коня. Он всегда тебя впускает. Ничего сложного, ты ведь все равно Щипцову на дом товар приносишь. Считай, просто халтурка.
- Щипцову?.. – пролепетал Матвей. Он чуть ли не физически ощутил, как ускорилось под ребрами сердце, как обмякло тело, лишившись сил и моральной опоры, как проник под кожу страх, пробежав по ней зябкими мурашками.
- С этим поручением можешь не торопиться – нужно обстряпать все деликатно. Когда он в следующий раз тебя позовет, веди себя как обычно, но спрячь вот это, - Гриша указал пальцем на зиплок с окровавленными волосами, - у него в квартире. Там, куда он редко заглядывает. Ты часто у него бываешь, должен знать такие мелочи. Конечно же, Щипцов не должен ничего подозревать.
Матвей чувствовал в животе свинцовую тяжесть, словно у него скрутились кишки, словно он рухнул в воздушную яму, потеряв некогда надежное ощущение почвы под ногами. Однако Гриша словно не замечал его оторопи, он лишь продолжал с насмешливо вскинутой бровью:
- Я буду ждать неподалеку, на Гангутской. Когда выполнишь, сядешь ко мне в машину и скажешь, куда спрятал. Больше от тебя ничего не требуется.
Цепенея от нарастающего ужаса, Матвей лихорадочно, но запоздало понимал удивительную простоту и не менее удивительную эффективность схемы, в которую его втянули. Одно дело оскорблять активистов «Цикуты», официально называя их организацию «нежелательной на территории РФ», потому что в каждой антиутопии должен быть свой новояз, емкий и доходчивый, и совсем другое – явить миру правду про активиста «Цикуты», который днем всячески поддерживает политзэков, а по ночам убивает людей. Ему вспомнился день, когда он, будучи вмазанным, гулял перед Балтийским вокзалом и стал свидетелем спора, непонятого им в силу отсутствия горького опыта, ему вспомнился дилер в спортивном костюме, который кричал, что на это он не подписывался.
- Ты хорошо себя чувствуешь? – сочувственно спросил Гриша.
- Я не могу этого сделать… - пробормотал Матвей, ощущая, что вот-вот сорвется и перейдет грань, которую переходить ни в коем случае не следовало.
- Не можешь? – переспросил Гриша, запрокинув подбородок. – Почему же, Грязев?
Что-то треснуло внутри. Матвей принялся сбивчиво выпаливать слово за словом, вкладывая в них всё отчаяние, накопившееся за месяцы унизительного служения. Он говорил, судорожно дергая губами, говорил истерически, а в глазах подрагивали мелкие слезы.
- Мне несложно торговать, в конце концов, это ведь честная сделка: человек получает то, что ему обещали, и все довольны. В политике же совсем наоборот… Люди не получают обещанного, так еще и вынуждены платить непонятно за что. И выходит, что я намного порядочнее депутата, потому что я хотя бы выполняю свои обещания… Я не оппозиционер, я вне политики, но торговать наркотиками хотя бы честно, а политика это какая-то запредельная грязь…
Гриша исподлобья посмотрел на Матвея и с силой ударил его кулаком по лицу. Широко распахнув глаза, Матвей вместе со стулом рухнул на теплый кафель. Попытку подняться оборвал грубый удар в живот, и Матвей упал обратно.
- Чтоб я больше никогда не слышал от тебя подобной хуйни, мудила! – прошипел Гриша сквозь зубы. Матвей рванулся к столу – под столешницей был спрятан икеевский нож, о котором Гриша не знал, но тот с силой толкнул его назад, приняв это за попытку побега.
Он с видимым наслаждением живодера пинал Матвея, который всячески пытался заслониться от ударов коленями и руками. Страдальческие стоны Матвея неизбежно превратились в звонкий плач. Гриша усмехнулся и временно прекратил избиение. Закрыв лицо руками, Матвей приглушенно рыдал в дрожащие ладони.
- Когда это ты стал таким разборчивым? За границу ездить тебе нравится, а помогать, значит, не нравится? – процедил Гриша сквозь зубы. – Это дело одной минуты, даже проще, чем героином торговать, бесполезный кусок говна. Или у тебя вдруг совесть проснулась? Как-то выборочно она проснулась, тебе не кажется? На меня смотри!
- Не надо, пожалуйста! – плаксиво выкрикнул Матвей. – Не надо!
- Вне политики, значит? Правда? – едко спросил Гриша и снова пнул его, попав на этот раз по пальцам. Матвей тягуче взвыл и отнял руки от лица. Из разбитого носа ползла по щеке алая струйка крови.
- То есть, всё это время ты молчал, потому что ты не коммунист? Не левак и не еврей? И до сих пор считаешь, что политика никак на тебя не влияет? А я тебе сейчас покажу, как она на тебя влияет.
- Пожалуйста, Гриша, я не хотел…
Наклонившись к Матвею, тот глумливо постучал пальцем по его влажному разгоряченному лбу:
- А сейчас выслушай меня внимательно. Я могу хорошенько тебя упаковать, закинуть в багажник и вывезти на природу. И хер ты со мной что-то сделаешь. И свидетелей не окажется, хотя я буду заниматься этим средь бела дня. Выяснится, что никто ничего не видел. И ты тут не проживал. И вообще тебя никогда не существовало. А камеры на уличных дронах, горе-то какое, в этот момент не будут работать.
Матвей надсадно дышал, кривя приоткрытый рот, и механически вытирал лицо висящей кистью, но кровотечение не останавливалось. Всхлипывая, глядя на Гришу с неприкрытым страхом, он лишь размазывал кровь по бледным, как бумага, впалым щекам и аккуратному подбородку. Пальцы другой руки рефлекторно скребли по освещенному солнцем кафелю.
- Перед тем, как убить тебя, я отпилю тебе кисти, а уже потом твою недалекую башку, - веско продолжал Гриша, - кисти отправлю твоей мамаше в Офтонь, чтобы хоть что-то осталось на память о сыночке, а голову положу в пакет из «Ашана» и выброшу на площади Трезини. И мне за это ничего не будет.
- Я понял свою ошибку, я всё исправлю… - беззащитно прогнусавил Матвей.
- А сразу ты подумать не мог, сволочь? Неужели просто нельзя делать то, что я говорю? Как тебе живется без понимания причинно-следственных связей, Грязев? Напоминаю, что глава ФСКН еще и доверенное лицо президента. Пошевели мозгами, если они у тебя есть. Сопоставь факты. Ну как, ты всё еще вне политики?
Он дал Матвею подзатыльник и наступил тракторной подошвой ботинка прямо на его дрожащие пальцы, придавив их к полу. Брови Матвея страдальчески изогнулись, и он дернулся в сторону, но Гриша оказался сильнее.
- Нет! Мне больно! Хватит! – умоляюще взвыл в нос Матвей и сорвался на всхлип. В голосе снова послышались слезы. Придавленные пальцы наливались болью, и теперь Матвей ощущал только её, словно его прежняя рука уже сменилась на бесформенную распухшую культю. Гриша криво улыбнулся:
- Так пилой еще больнее будет. Зачем ты нам нужен, если ты не слушаешься? Какая от тебя польза?
- Мне страшно, пожалуйста… - простонал Матвей.
- Страшно тебе, сука?!
Выйдя из себя, Гриша убрал ботинок, но тут же обеими руками сдавил Матвею горло и резким рывком заставил его встать. Шатко держась на дрожащих ногах, Матвей вцепился в Гришины пальцы, пытаясь оторвать их от своей шеи или хотя бы ослабить хватку. Скалясь окровавленными зубами, он хрипло хватал ртом мизерные доли воздуха, и в хрипе проскальзывала неразборчивая, раздробленная на слоги речь.
- Тебе только сейчас стало страшно, гаденыш?! – выпалил Гриша, сдавив его горло еще сильнее. – Не дергайся! Что ты там мямлишь?
Шею Матвея сжало кольцом боли. В ушах нарастал шум кровотока, периферия зрения неумолимо размывалась, теряясь в чернеющей пелене, череп набухал изнутри. Пытаясь кричать, Матвей слышал только принадлежащий ему тягучий хрип. Дергая ослабшим туловищем, он скреб ногтями по прохладным рукам Гриши.
- Думаешь, мразь, я ничего не вижу? Думаешь, я ничего не понимаю, выблядок эрзянский? – вдруг посмотрел на него Гриша особенно пристально. Он смягчил хватку, и к Матвею вернулась ясность восприятия.
- Ты пойми еще вот что: без приказа Асфара Юнусовича я бы тебя даже пальцем не тронул. И мне обычно не нравится применять силу, но будь моя воля, я бы тебя разбросал по лесополосе. Я твою гнилую душонку насквозь вижу! - процедил Гриша.
- О чем ты говоришь?.. – сдавленно прохрипел Матвей, совершенно не понимая смысла его слов. – Пожалуйста… Я сделаю всё, что ты скажешь…
Гришу словно подменили. Резко успокоившись, он наконец отпустил Матвея. Не удержавшись на трясущихся ногах, тот упал и ударился затылком об пол, но даже не заметил этого. Запрокинув к потолку мраморно-бледное лицо, он таращился заплаканными глазами в потолок и лихорадочно втягивал воздух. Всмотревшись вдруг в глаза Матвея, Гриша глумливо поинтересовался:
- А почему это у нас зрачки узкие, а?
- У меня голова болит, мне очень…
- И мы решили лечиться рабочим ширевом? – едко спросил Гриша, даже не выслушав его оправдание.
- Это каффетин! – надрывно всхлипнул Матвей, дернувшись всем телом назад.
- Смотри у меня, - пригрозил Гриша, снова отвесив Матвею подзатыльник, - если выяснится, что ты еще и героином колешься…
Не договорив, он сел на стул, широко расставив ноги, и устало закурил. По прозрачно-солнечному воздуху кухни пополз седой дым ментоловых сигарет. Приглушенно ощущая грубую боль, растекающуюся по избитому телу, Матвей попытался подняться. Ноги не держали. Он рухнул боком на холодную дверцу холодильника и сполз по ней на пол, полусидя съежившись. Моральная боль, в отличие от физической, была сильнее и давила изнутри. Зажав рот ладонью, чтобы не разозлить Гришу еще сильнее, Матвей вновь зарыдал.
Ухватив его за ворот футболки, Гриша подтащил его к себе и вдавил тлеющую сигарету в плечо. Пылающий табак прожег ткань, ожогом вскипел белок, и Матвей, завопив во весь голос, рванулся прочь. Без лишних слов, с крайне сосредоточенным видом Гриша наотмашь ударил его по лицу, разбив на этот раз трясущиеся губы. Бросив затушенный окурок под стол, он равнодушно произнес:
- Наверное, тебе лучше умерить аппетиты и поменьше ширяться. Нервный стал и несобранный, истерики закатываешь. Соберись, подумай и ответь внятно. Как солидный, взрослый человек.
Матвей видел перед собой размазанные капли крови, накапавшие с его носа на блестящий в полудне кафель. Мелкие точки лучились сужающимися хвостами мазков и напоминали арабскую вязь. Матвея впервые ударило болезненным осознанием: бесспорно, Гриша его защищал, но при первом же приказе мог без колебаний его убить. Матвей чувствовал себя оплеванным. Ему хотелось, чтобы Гриша как можно скорее ушел.
- Пожалуйста, Гриша, прости меня, - выдавил Матвей трясущимся, заискивающим тоном, - я больше не буду отказываться, я полностью согласен сотрудничать…
- Не забывайся, ладно? – вдруг заговорил тот с неожиданным сочувствием. – Мне очень неприятно так с тобой беседовать, но это вынужденная воспитательная мера. Слишком уж ты своевольный. Надеюсь, ты хорошо меня понял. И дам тебе хороший совет на будущее. Ты особо не думай, когда тебя о чем-то просят. Не надо всей этой херни. Зачем, почему – тебя это ебать не должно. Меньше знаешь, крепче спишь. Уяснил, Грязев?
- Уяснил, - судорожно всхлипнул Матвей. Гриша удовлетворенно кивнул.
- Это, конечно, очень смело – высказывать подобное мнение, точно зная, что ты отгребешь. Вот за что я тебя уважаю, так это за смелость. Но больше не демонстрируй ее, пожалуйста. Я уже понял, что ты очень храбрый и ничего не боишься.
Матвей постанывал, тяжело дышал и рассматривал истоптанные пальцы. На свежих ссадинах набухали густеющие капельки крови, кожа вокруг стала красной и опухшей. Пальцы сгибались, но зудели при этом монотонной болью.
- Не волнуйся, я тебе ничего не сломал, - ободряюще хмыкнул Гриша, - было бы глупо выводить тебя из строя накануне предстоящего дела.
Вытерев окровавленные руки об вафельное полотенце, висящее над столом, Гриша скрылся в коридоре. Мерный стук подошв стал практически неслышимым, и скрипнула петлями входная дверь.
- Дверь закрой, порядочный торговец, а то мухи налетят! – раздался его насмешливый голос. Стиснув зубы, Матвей доковылял до двери. Гриши уже не было. Матвей заперся на все обороты, уперся ладонью в стену и побрел к ванной. По инерции продолжая вздрагивать, он умылся и обработал открытые раны йодом. Ожог пришлось заклеить пластырем, чтобы не содрать волдырь одеждой.
Захватив в кабинете пинцет и средних размеров зиплок, он вернулся в кухню, где на обеденном столе лежали чьи-то окровавленные волосы. Гриша, конечно, оставил на улике свои отпечатки, потому что мог себе это позволить, однако Матвей этого делать не собирался. Подцепив пакетик с волосами пинцетом, Матвей осторожно погрузил его в свой зиплок.
Окровавленный локон он спрятал в ящике письменного стола. Из другого ящика извлек заранее приготовленный амфетамин, стеклянный фурик с водой для инъекций и нетронутый шприц. Размешав амфетамин иглой, Матвей кинул ватку в прозрачно-мутный раствор, в котором кружила белая взвесь. Взвесь осела на ватке, а готовый раствор, проскользнув сквозь узкое русло канюли, заплескался в шприце. Выбрав на правой ноге вену, рядом с которой не наливались темнотой свежие синяки, Матвей трепетно взял контроль и разбавил свою кровь амфетамином. Приход оказался мимолетным и слабым, выбив из него лишь долгий вздох облегчения. Сжались челюсти, расширились зрачки, очернив глаза, и сразу захотелось шевелиться.
Матвей подошел к окну и открыл форточку. Пахнуло мокрым ветром и озоном. Небо кишело переплетениями туч, которые наслаивались друг на друга, подобно комьям застарелой пыли или набухшим от влаги вторякам – клочкам ваты, в которых еще можно было найти раствор. Подступали многодневные дожди, обещанные прогнозом еще в начале мая.
«Я кидаю друга детства, чтобы смотреть на пальмы, колоться хорошей наркотой и наслаждаться свежими креветками… - отупело думал про себя Матвей. – Но ведь голова-то…»
С кинематографичной яркостью он вдруг представил свою отрезанную голову, лежащую у темного постамента, с которого ухмыляющийся архитектор Трезини смотрел на свинцово-синие волны Большой Невы, пока по его медвежьей шубе и буйным локонам ручьями струился ливень… Матвею захотелось, чтобы щелкнула режиссерская хлопушка, чтобы в кабинет вошел печальный Балабанов, умудренный Афганом и дальневосточной провинцией, и сказал: «Стоп, снято!», прекратив тем самым его страдания.
«Какой он мне, в общем-то, друг? Если жрали вместе мускат и ипомею, то сразу друзья? – мелькнула у Матвея нехорошая мысль, но в пику ей тут же возникла другая. – А ведь Лариса меня тогда не сдала…»
Он до боли закусил разбитую губу: «Или сдала?.. Кто может утверждать, что Лариса меня не выдавала? В конце концов, арестовали меня после того, как я с ней встретился…»
Промаявшись до вечера, Матвей забрался в кровать, накрылся одеялом и уткнулся лицом в подушку. Воспоминания о недавнем унижении навязчиво лезли в голову, и Матвей не мог их отогнать, потому что все мысли, проскакав по ассоциативному ряду, приводили лишь к Грише. В груди колко жило странное чувство - смесь глухого желания заплакать и абсолютного бессилия, из-за которого даже плакать не получалось. Когда стемнело, начал звонить рабочий телефон, и Матвей, швырнув его в стену, продолжил апатичное бдение. Телефон упал на пол, сбросив по пути заднюю крышку и батарею, и в треснувшем экране дробно отразилась хрустальная люстра.
«Но ведь волосы кому-то принадлежат, и кровь тоже не из пустоты взялась…» - дошло до Матвея, когда его охватила тягостная дрема. Накатившие сновидения помешали ему развить эту мысль, задавив ее в зародыше.
Проснулся он совершенно разбитым. Под припухшим носом кривились узкие губы с багровыми корками, пальцы немного саднили, а на лбу и левой скуле расплылись два болотисто-сизых синяка. Такие же синяки разрозненной россыпью покрывали тело и основание шеи. Шевелиться было тяжело и больно. Матвея не раз избивали, но только правоохранительные органы делали это настолько унизительно.
Когда он чистил зубы, в коридоре раздались канареечные трели. Сплюнув пенящуюся пасту в жерло раковины, он вытер мокрое лицо полотенцем и подошел к двери. По ту сторону терпеливо выжидал мужчина, которому можно было дать больше сорока: щуплый, одетый не очень презентабельно, с глубокими бороздами морщин на отекшем лице. Стереотипная черная толстовка придавала его облику еще большую подозрительность.
«Долгожитель, наверное», - подумал Матвей, а вслух спросил:
- Вы к кому?
- К Матвею Грязеву, - ответил мужчина и довольно улыбнулся. Голос его оказался сипловатым и прокуренным.
- Тут таких нет, - угрюмо ответил Матвей.
- А если меня зовут Герман Кириченко? – ощерился мужчина в толстовке, заглянув в черный глаз камеры. – Тогда Матвей здесь живет?
Матвей отпрянул от двери. Всякий раз, когда у его матери болела голова, она глушила свет, ложилась в кровать и клала на лоб мокрую тряпку, смоченную в уксусном растворе. Лежа в темноте узкой комнаты, она стонала от боли и жаловалась на жизнь, обращаясь то к Матвею, то к богу, то к самой себе:
- Лучше бы ты унаследовал мои гены, а не этого ублюдка. У меня предки из опричнины, трудились на службе у государя. А этот? За наркотики сидит. И его отец всю жизнь за разбои сидел. Ты точно такая же флегматичная рыба, как твой папашка. Хоть бы в казаки пошел, я уже не говорю про органы… Не дай бог, тоже начнешь торговать, как этот. Знаешь, что с такими в тюрьме делают? Гнобят, как собак.
Глядя на биологического отца, искаженного монитором, Матвей усмехнулся. Безусловно, если ему вдруг захочется навестить мать и обрадовать её тем, что он все-таки стал работать на органы, она полюбит его искренним материнским чувством. Но неприятно удивится, когда узнает, как именно её сын работает на органы, воплощая одновременно и ее родительское желание, и ее родительский страх.
- Паспорт покажи, - веско произнес Матвей, - в камеру, чтобы я видел.
Ничуть не удивившись, Герман Кириченко достал из кармана паспорт, раскрыл его и поднес вплотную к камере. Фотография, конечно, нынешнему виду не соответствовала, но данные были настоящими, как и сам документ. Матвей ушел в спальню, достал из комода «глок» и сунул его за пояс, спрятав под футболкой.
Стоило Матвею открыть дверь, как Герман вкрадчиво вступил в коридор и лукаво покосился на него:
- Так и думал, что соврешь. Я сам барыжу, знаю все эти хитрости.
Матвей оглядывал отца, одежда которого была влажной от хлещущего снаружи дождя, и не понимал, какие ему испытывать чувства. Внешне они действительно были сильно похожи – светлыми волосами, угрюмым взглядом карих глаз и резкими чертами лица, присущими эрзянам. Елена Алексеевна всегда говорила, что внешностью Матвей пошел в отца, а ростом в деда по отцовской линии. Если не учитывать роста, то Герман был взрослым и опустившимся Матвеем, который спился и посадил себе здоровье на зоне, где провел всю сознательную жизнь. Ногти у него были толстыми, пожелтевшими от курения, и под ними темной каймой проступала невычищенная грязь.
- Что это с тобой? – буднично спросил Герман, заметив синяки, будто это была их не первая и даже не сотая встреча.
- Ничего, - грубо сказал Матвей.
Не дождавшись приглашения, отец разулся и поставил стоптанные, насквозь промокшие ботинки на обувную полку. Решив не заводить его в кабинет, пропахший уксусом, Матвей направил его в зал. Герман прошел вглубь просторной комнаты, стены которой были выкрашены соломенно-желтым, и с минуту озирался, оглядывая каждый уголок с детским любопытством. В центре стоял громоздкий желтый диван с узким торшером, делящий зал на две зоны. Перед диваном располагался широкий плоский телевизор с игровой приставкой и очками виртуальной реальности. Возле окна стояла этажерка с книгами, лава-лампой и статуэткой Смеющегося Будды, а за дымчато-фиолетовой старомодной ширмой скрывалась оттоманка с пледом. Матвею нравилось лежать там вмазанным и смотреть, как медленно ползут над Петербургом рельефные облака, словно высеченные из белоснежного гранита. Но сейчас темно-сизое небо барабанило по железным крышам косыми каплями дождя, норовя затопить улицы и набережные.
Герман повернулся к Матвею, который стоял в дверях, сложив руки на груди, и улыбнулся еще шире:
- Яблочко, как я погляжу, очень удачно упало, а? Мне о такой хате только мечтать. Я всю жизнь совсем по другим хатам…
- Как ты нашел меня и зачем? – мрачно перебил его Матвей. Нарочитое дружелюбие Германа, грозящее перейти в слащавость, вызывало одно лишь раздражение, и Матвею хотелось поскорее покончить с этой встречей, не отвлекаясь на частности. Он был убежден, что пришел Герман не просто так.
- Случайно нашел. Я же недавно из Крестов, а товарищ полгода назад вышел. Он на гердосе сидит, и пока я у него кантовался, часто слышал про Герыча, - на одном дыхании выпалил Герман. Подойдя к Матвею, он завершил свою вдохновенную речь тем, что встряхнул его за плечи, имитируя панибратские повадки множества отцов.
- Прекрасно, - буркнул Матвея, глядя поверх его головы.
- Я каждый раз смеялся, что у барыги отчество как раз по профилю, - торопливо продолжил Герман, - а потом узнал, что его, то есть, тебя зовут Матвей. И я решил проверить, вдруг это ты. А это действительно оказался ты. Чего только не бывает, правда?
- Это не объясняет того, что ты пришел ко мне домой, - неприветливо произнес Матвей, стряхнув с себя его руки. Он прошел к дивану и сел, скрестив руки на груди и закинув ногу на ногу. Расхаживая из стороны в сторону и активно жестикулируя, Герман красноречиво изложил историю своих поисков. Мизантропический вид Матвея его ни капли не смутил.
Получив от товарища номер Герыча, отец нагуглил слитую базу мобильного оператора, где фигурировало его настоящее и полное имя - Матвею, расслабившемуся под сенью полицейского покровительства, не было нужды покупать симкарту, оформленную на гастарбайтера. По полному имени отец вышел на паблик «Питер сегодня», в ленте которого был размещен обличительный пост - истерически сообщалось, что Матвей наркоторговец и живет на Большой Конюшенной, возле «ЦАЛСКСП». К посту прилагались селфи из инстаграма Матвея, на которых он выглядел крайне подавленным, и ссылка на оный.
Услышав об этом, Матвей нахмурился и немного отвлекся. Перспектива очередного поспешного переезда, замаячившая на горизонте, его не радовала.
«Кто мог это сделать? – напряженно думал он. – Тот, кто знает мое полное имя. Таких немного. Лада, Соня, Ася… И со всеми я недавно поссорился. Еще этот наркоша сегодня приходил… Выходит, стучал во все три квартиры, потому что не знал точный адрес».
- …в общем, ничего сложного, Матюша. Думаешь, до твоего рождения гугла не было? Ты совсем уж старым меня не считай, - с легким торжеством резюмировал Герман и сел рядом с ним.
- И сколько времени ты на это потратил? – спросил Матвей с кривой улыбкой, в которой совсем не было радости.
- Около часа. Ты, конечно, осторожный, но мы живем в информационную эпоху, и можно кого угодно так найти, если постараться. Даже Домнина. А я, как видишь, сделал это в несколько кликов.
- Зачем ты пришел? – с тоской осведомился Матвей. – К чему эта родственная любезность?
Германа вопрос осчастливил, словно он боялся перейти к сути и очень обрадовался тому, что это сделали за него. Подключив все свое красноречие, которым он обычно обрабатывал любовниц по переписке, Герман бросил на Матвея сочувственный взгляд, приправленный граном укора:
- Понимаешь ли, Матюш, хоть мы и не виделись никогда, мы все-таки родственники. Есть, конечно, одно разногласие. Я-то с мусорами принципиально не сотрудничаю, девятнадцать лет из-за них отсидел… А вот ты ссучился и ни в чем себе не отказываешь, но ведь я твой отец, а ты мой сын…
Матвей неприкрыто усмехнулся. Полимерная рукоять пистолета прохладно касалась поясницы. По оконному стеклу оглушительно хлестал дождь, и золотистый шар торшера зыбко отражался в сером бурлящем полотне.
- Куда меня возьмут с двумя сроками? А жить где-то надо… - говорил Герман, по-отечески сжимая плечо Матвея и заглядывая ему в лицо. – Разве накладно тебе будет раз в месяц отцу деньги высылать? Тысяч тридцать. Получаешь-то ты гораздо больше. Я даже не прошу, чтобы ты изображал теплое отношение. А то мне опять придется по бабам кататься.
- А почему бы и не по бабам? – выразительно произнес Матвей, усмехнувшись еще шире. – Ты в этом деле мастак. Если бы еще предохраняться умел, был бы мужчина мечты.
- Значит, не хочешь по-хорошему?! – выпалил Герман сквозь зубы. Приторная улыбка сбежала с его лица, и он потянул руку, намереваясь схватить Матвея за волосы. Пружинисто вскочив на ноги, Матвей отшатнулся от дивана и выхватил из-за пояса пистолет. Завидев направленное на него дуло, Герман рефлекторно рванулся назад, как испуганная черная птица. Он полулежал на диване, откинувшись на широкий валик подлокотника.
- Не думай, что я сейчас грабану тебя. Сильно много чести, - резко произнес он с интонациями гопника, - не хватало еще из-за такой падлы сидеть. Я в суд пойду. Подам на алименты, потому что я инвалид по состоянию здоровья и твой кровный отец.
Матвей смерил его глазами:
- Ты уехал еще до моего рождения, а потом вообще сел и пропал. Ты на меня ни рубля не потратил. Мне двадцать лет, и я впервые тебя вижу. Не говоря уж о том, что кровный отец может получать алименты лишь в том случае, если он записан в свидетельстве о рождении.
Герман недоуменно уставился на него.
- Она не вписала тебя, там прочерк, - объяснил Матвей и ехидно добавил, - своим молчанием ты очень ее расстроил.
Протяжно вздохнув, Герман почесал в затылке и осторожно поднялся с дивана, стараясь не делать резких движений и косясь на небольшой пистолет, который Матвей сжимал в правой руке. Он был убежден, что не стоит ожидать от сына меткости в стрельбе, однако расстояние было слишком мизерным, чтобы рисковать.
- И как ты решился просить деньги у меня? – вдруг спросил Матвей, в ухмылке приподняв уголок рта. – Ты ведь у нас ауешник с принципами, которому западло с мусорами сотрудничать. А деньги просишь у мусорского барыги. Разве ты сможешь брать в руки такие грязные деньги?
Герман сделал опасливый шаг в сторону двери, однако Матвей сократил дистанцию до прежней, которой было достаточно, чтобы не промахнуться. Распалившись, он неотрывно смотрел на Германа и в бессильной злобе стискивал зубы. По оконным стеклам бурными потоками струился дождь, который медленно крался к квартирам сквозь деревянные перекрытия, чтобы потом выступить на потолке желтовато-пшеничными пятнами, а сквозь щели в деревянных рамах просачивался легкий сквозняк.
- Как ты вообще живешь с такими противоречиями в башке? – звонко спросил Матвей с перекошенным лицом. – Ты же сам торговал! Какие еще понятия? Почему ты примазываешься к тем, кто тебя говном считает?
Герман не говорил ни слова. Он лишь тихо дышал, сжимая трясущиеся губы, и смотрел на биологического сына, как на постельного клопа, которого раздуло от крови.
- Уходи. Двадцать лет тебя не видел и дальше не хочу, - тихо произнес Матвей.
- Обязательно было за ствол хвататься, параноик? – спросил Герман с долей обиды.
- Обувайся и уходи.
Он задумчиво кивнул:
- Понимаю, понимаю, ничего не поделаешь… Профдеформация.
Ссутулившись и став еще ниже ростом, он тяжело вздохнул и устало побрел в коридор. Матвей следовал за ним, как вертухай, и не опускал пистолет, держа Германа на прыгающем прицеле. Обувшись, тот стряхнул с подсохших ботинок крупицы уличной пыли, выпрямился и широко улыбнулся.
- Ты еще не стал алкоголиком? – спросил он тоном, в котором слащавость граничила с гадливостью. – Часто бывает так, что человек не выдерживает мук совести и спивается. Впрочем, ты не опухший, даже худой. Или спортом занимаешься, или нюхаешь. Судя по тому, какой ты дерганый…
- Чего зубы сушишь? – перебил его недовольный Матвей. – Я тебя, например, вообще не искал. Не знаю, чего это тебе в голову взбрело, что я соглашусь тебе помогать.
- Ты, сынок, сука и блядь. И я сейчас не просто так тебя матом крою, понял?
Матвей промолчал, но ощерился скупым оскалом, как хищное животное.
- Сделай лицо попроще, шестерка Жарова, - свысока посмотрел на него Герман, насколько это было возможно при разнице в росте. Матвей, держащий его на мушке, сделал резкий шаг в его сторону. Испугавшись, Герман проворно выскочил в парадную, пропахшую застоявшимся смрадом лежалых окурков, пробежал по лестничной клетке и вписался плечом в граненый выступ пилястры, но удержался на ногах.
- В собственного отца стрелять вздумал! – выкрикнул Герман, прытко спускаясь по лестнице. – Ментовская мразь!
- Дела свои почитай, мудак! – бросил Матвей ему вслед и шумно захлопнул железную дверь, лязгнув тяжелым замком. Выдохнув, он прислонился к стене коридора и измученно прикрыл глаза.
«Отец, отец, отец…» - проигрывалась в голове зацикленная мысль. Перед внутренним взором не угасало морщинистое лицо Германа Кириченко, у которого тоже были непослушные светлые волосы, карие глаза, резкие мелкие черты… Матвею не верилось, что он родился от этого лицемерного, подлого, гадкого человека. Однако все его поступки утверждали обратное – он был достойным сыном своего отца, просто находился по другую сторону решетки.
От череды неприятностей шла кругом голова, готовая в любой момент слететь со своей оси. Матвей мельком вспомнил про пост в паблике, о котором говорил Герман, но у него не нашлось сил это обдумать. Закрывшись в спальне, он положил «глок» на комод, а сам ничком повалился на заправленную кровать. Шелковое покрывало холодило кожу. Снаружи грохотал ливень, и Матвей даже с закрытым окном чуял подступающий запах влаги – удушливый, резкий и гниловатый.
- Кому угодно, только не этой суке, - экспрессивно объяснил Матвей, - она тебе все мозги вынесет. Столько крови попортит, ты даже не представляешь.
Воскресный полдень затапливал кухню жарким светом, падал на серые обои, отпечатываясь на них солнечно-желтыми квадратами рам, преломлялся в фиолетовом стекле ламп, которые висели под потолком ровным рядом конусов. Зевая в ладонь и разглаживая мятую футболку, в которой он вчера заснул, в кухню вошел Матвей. Миновав окно, драпированное черными шторами, он оказался в темной части кухни, где стоял обеденный стол. Матвей покосился на часы, висящие на стене: была половина первого. Лицо его находилось в тени, но миозные зрачки не приспосабливались к обстановке, оставаясь чернильными точками на янтарно-карем фоне. Где-то в отдалении пульсировала головная боль, которую Матвей испытывал отстраненно.
«Надо сходить в клинику, проверить мозги, - решил он, сонно потерев лицо, - пусть скажут, что со мной происходит».
Достав из холодильника початую пиццу с грибами, куски которой в беспорядке лежали на тарелке, он выложил два куска на блюдце и сунул его греться в микроволновку. Потом плеснул из чайника кипяченой воды в стакан и выпил его залпом, уронив несколько капель на штаны.
В унисон с микроволновкой подал голос дверной звонок. Поежившись, Матвей поставил стакан в раковину и побрел к двери. В небольшом мониторе камеры топтался светловолосый юноша, похожий на финна – сухощавый, тощий и весь какой-то угловатый. Матвей не открывал дверь, но юноша не унимался и исправно давил на кнопку звонка, оглушая квартиру канареечной трелью. Лицо у него было совершенно незнакомое – Матвей не видел его ни среди знакомых, ни среди покупателей, хотя вид у гостя был крайне опиатный.
- Вы к кому? – глухо спросил Матвей через дверь, не выдержав очередного долгого звонка. Оживившись, юноша жестом сентиментального попрошайки прижал руку к груди и наконец заговорил:
- Матвей тут живет? Я по делу.
«Да чтоб ты сдох», - подумал Матвей с легкой досадой. Если быстрых торчков с горем пополам можно было стерпеть – они ставились и сразу убегали по резко возникающим важным делам, то очередь из опиушников, вповалку лежащих на лестнице, ему лицезреть крайне не хотелось.
- Здесь таких нет, - ответил Матвей через дверь, как и подобает законопослушному гражданину, непосвященному в мутные дела.
- Извините, я ищу Матвея, - зачем-то добавил юноша, вежливо проговаривая заранее приготовленную речь, - мне сказали, что он живет в этом доме, но это всё, что я знаю…
- Спросите в другой квартире, - пробормотал Матвей, придерживаясь роли ничего не понимающего жильца. Юноша резко стряхнул с себя деланую вежливость и торопливо отправился восвояси. На всякий случай выключив домофон, Матвей вернулся в кухню, достал из микроволновки пиццу и принялся вяло ее жевать.
«То есть, раньше он мой голос не слышал, - мелькнула у него запоздалая мысль, - но откуда-то знает, в каком доме я живу. Любопытно».
Когда Матвей уже покончил с завтраком, его заставил вздрогнуть резкий стук по железу, который не прерывался и шел сплошным потоком. На этот раз в прицеле камеры оказался Гриша. Облегченно выдохнув, Матвей открыл ему.
- К тебе не попасть. Я звонил, звонил, стучал, стучал… Еще и трубку не берешь, - миролюбиво отчитал его Гриша. Сложив руки за спиной, он прошел в коридор, оставляя на паркете пыльные следы ботинок.
- Прости, я отключил домофон. А телефон в спальне лежал, и я не услышал, что ты звонил.
- Пиздец ты, конечно, хоромы снял, - улыбнулся Гриша, оглядывая голубые арки коридора и лакированных фламинго с жирафами. Матвей подметил, что Гриша стал несколько суше, чем раньше, хоть и сохранил габариты устрашающего верзилы.
Он провел Гришу в кухню и предложил чай, но тот отказался. Вольготно развалившись на одном из стульев, Гриша прищурился и кинул на Матвея пристальный, оценивающий взгляд:
- Разговор есть, Грязев. Об одном мизерном поручении, на которое у тебя уйдет не больше минуты. Оно даже не связано с наркотой. Если только косвенно.
Матвей, занявший соседний стул, насторожился. Поручения, которые давал Гриша, никогда не заканчивались хорошо для жертв этих поручений, а если они не касались наркотиков, то чаще всего были связаны с необходимостью стучать, которая Матвея не прельщала.
- А что за поручение? – спросил он, и его голос дрогнул.
Хмыкнув, Гриша запустил широкую ладонь в карман и положил перед Матвеем зиплок. Полиэтилен слипся от запекшейся крови, которой было замарано нутро зиплока, а среди коричневых мазков виднелась окровавленная прядь светлых волос, напоминающая слипшийся комок грязи. Зрелище произвело на Матвея такое отвращение, что у него даже вздернулась верхняя губа.
- Да, премерзкая вещица. На то и расчет. Понимаешь ли, этот предмет должен оказаться в одной квартире, и это должно произойти без ведома хозяина. Чтобы его застали врасплох и приняли с крайне важной для одного глухаря уликой. А то глухарь есть, а серийника до сих пор нет.
- Но я же не домушник, - опустил взгляд Матвей, - я не умею вскрывать замки и вообще…
Критически оглядев его, Гриша размеренно, с отзвуком садистской радости произнес:
- А тебе не придется вскрывать замок. Тебя впустят, как троянского коня. Он всегда тебя впускает. Ничего сложного, ты ведь все равно Щипцову на дом товар приносишь. Считай, просто халтурка.
- Щипцову?.. – пролепетал Матвей. Он чуть ли не физически ощутил, как ускорилось под ребрами сердце, как обмякло тело, лишившись сил и моральной опоры, как проник под кожу страх, пробежав по ней зябкими мурашками.
- С этим поручением можешь не торопиться – нужно обстряпать все деликатно. Когда он в следующий раз тебя позовет, веди себя как обычно, но спрячь вот это, - Гриша указал пальцем на зиплок с окровавленными волосами, - у него в квартире. Там, куда он редко заглядывает. Ты часто у него бываешь, должен знать такие мелочи. Конечно же, Щипцов не должен ничего подозревать.
Матвей чувствовал в животе свинцовую тяжесть, словно у него скрутились кишки, словно он рухнул в воздушную яму, потеряв некогда надежное ощущение почвы под ногами. Однако Гриша словно не замечал его оторопи, он лишь продолжал с насмешливо вскинутой бровью:
- Я буду ждать неподалеку, на Гангутской. Когда выполнишь, сядешь ко мне в машину и скажешь, куда спрятал. Больше от тебя ничего не требуется.
Цепенея от нарастающего ужаса, Матвей лихорадочно, но запоздало понимал удивительную простоту и не менее удивительную эффективность схемы, в которую его втянули. Одно дело оскорблять активистов «Цикуты», официально называя их организацию «нежелательной на территории РФ», потому что в каждой антиутопии должен быть свой новояз, емкий и доходчивый, и совсем другое – явить миру правду про активиста «Цикуты», который днем всячески поддерживает политзэков, а по ночам убивает людей. Ему вспомнился день, когда он, будучи вмазанным, гулял перед Балтийским вокзалом и стал свидетелем спора, непонятого им в силу отсутствия горького опыта, ему вспомнился дилер в спортивном костюме, который кричал, что на это он не подписывался.
- Ты хорошо себя чувствуешь? – сочувственно спросил Гриша.
- Я не могу этого сделать… - пробормотал Матвей, ощущая, что вот-вот сорвется и перейдет грань, которую переходить ни в коем случае не следовало.
- Не можешь? – переспросил Гриша, запрокинув подбородок. – Почему же, Грязев?
Что-то треснуло внутри. Матвей принялся сбивчиво выпаливать слово за словом, вкладывая в них всё отчаяние, накопившееся за месяцы унизительного служения. Он говорил, судорожно дергая губами, говорил истерически, а в глазах подрагивали мелкие слезы.
- Мне несложно торговать, в конце концов, это ведь честная сделка: человек получает то, что ему обещали, и все довольны. В политике же совсем наоборот… Люди не получают обещанного, так еще и вынуждены платить непонятно за что. И выходит, что я намного порядочнее депутата, потому что я хотя бы выполняю свои обещания… Я не оппозиционер, я вне политики, но торговать наркотиками хотя бы честно, а политика это какая-то запредельная грязь…
Гриша исподлобья посмотрел на Матвея и с силой ударил его кулаком по лицу. Широко распахнув глаза, Матвей вместе со стулом рухнул на теплый кафель. Попытку подняться оборвал грубый удар в живот, и Матвей упал обратно.
- Чтоб я больше никогда не слышал от тебя подобной хуйни, мудила! – прошипел Гриша сквозь зубы. Матвей рванулся к столу – под столешницей был спрятан икеевский нож, о котором Гриша не знал, но тот с силой толкнул его назад, приняв это за попытку побега.
Он с видимым наслаждением живодера пинал Матвея, который всячески пытался заслониться от ударов коленями и руками. Страдальческие стоны Матвея неизбежно превратились в звонкий плач. Гриша усмехнулся и временно прекратил избиение. Закрыв лицо руками, Матвей приглушенно рыдал в дрожащие ладони.
- Когда это ты стал таким разборчивым? За границу ездить тебе нравится, а помогать, значит, не нравится? – процедил Гриша сквозь зубы. – Это дело одной минуты, даже проще, чем героином торговать, бесполезный кусок говна. Или у тебя вдруг совесть проснулась? Как-то выборочно она проснулась, тебе не кажется? На меня смотри!
- Не надо, пожалуйста! – плаксиво выкрикнул Матвей. – Не надо!
- Вне политики, значит? Правда? – едко спросил Гриша и снова пнул его, попав на этот раз по пальцам. Матвей тягуче взвыл и отнял руки от лица. Из разбитого носа ползла по щеке алая струйка крови.
- То есть, всё это время ты молчал, потому что ты не коммунист? Не левак и не еврей? И до сих пор считаешь, что политика никак на тебя не влияет? А я тебе сейчас покажу, как она на тебя влияет.
- Пожалуйста, Гриша, я не хотел…
Наклонившись к Матвею, тот глумливо постучал пальцем по его влажному разгоряченному лбу:
- А сейчас выслушай меня внимательно. Я могу хорошенько тебя упаковать, закинуть в багажник и вывезти на природу. И хер ты со мной что-то сделаешь. И свидетелей не окажется, хотя я буду заниматься этим средь бела дня. Выяснится, что никто ничего не видел. И ты тут не проживал. И вообще тебя никогда не существовало. А камеры на уличных дронах, горе-то какое, в этот момент не будут работать.
Матвей надсадно дышал, кривя приоткрытый рот, и механически вытирал лицо висящей кистью, но кровотечение не останавливалось. Всхлипывая, глядя на Гришу с неприкрытым страхом, он лишь размазывал кровь по бледным, как бумага, впалым щекам и аккуратному подбородку. Пальцы другой руки рефлекторно скребли по освещенному солнцем кафелю.
- Перед тем, как убить тебя, я отпилю тебе кисти, а уже потом твою недалекую башку, - веско продолжал Гриша, - кисти отправлю твоей мамаше в Офтонь, чтобы хоть что-то осталось на память о сыночке, а голову положу в пакет из «Ашана» и выброшу на площади Трезини. И мне за это ничего не будет.
- Я понял свою ошибку, я всё исправлю… - беззащитно прогнусавил Матвей.
- А сразу ты подумать не мог, сволочь? Неужели просто нельзя делать то, что я говорю? Как тебе живется без понимания причинно-следственных связей, Грязев? Напоминаю, что глава ФСКН еще и доверенное лицо президента. Пошевели мозгами, если они у тебя есть. Сопоставь факты. Ну как, ты всё еще вне политики?
Он дал Матвею подзатыльник и наступил тракторной подошвой ботинка прямо на его дрожащие пальцы, придавив их к полу. Брови Матвея страдальчески изогнулись, и он дернулся в сторону, но Гриша оказался сильнее.
- Нет! Мне больно! Хватит! – умоляюще взвыл в нос Матвей и сорвался на всхлип. В голосе снова послышались слезы. Придавленные пальцы наливались болью, и теперь Матвей ощущал только её, словно его прежняя рука уже сменилась на бесформенную распухшую культю. Гриша криво улыбнулся:
- Так пилой еще больнее будет. Зачем ты нам нужен, если ты не слушаешься? Какая от тебя польза?
- Мне страшно, пожалуйста… - простонал Матвей.
- Страшно тебе, сука?!
Выйдя из себя, Гриша убрал ботинок, но тут же обеими руками сдавил Матвею горло и резким рывком заставил его встать. Шатко держась на дрожащих ногах, Матвей вцепился в Гришины пальцы, пытаясь оторвать их от своей шеи или хотя бы ослабить хватку. Скалясь окровавленными зубами, он хрипло хватал ртом мизерные доли воздуха, и в хрипе проскальзывала неразборчивая, раздробленная на слоги речь.
- Тебе только сейчас стало страшно, гаденыш?! – выпалил Гриша, сдавив его горло еще сильнее. – Не дергайся! Что ты там мямлишь?
Шею Матвея сжало кольцом боли. В ушах нарастал шум кровотока, периферия зрения неумолимо размывалась, теряясь в чернеющей пелене, череп набухал изнутри. Пытаясь кричать, Матвей слышал только принадлежащий ему тягучий хрип. Дергая ослабшим туловищем, он скреб ногтями по прохладным рукам Гриши.
- Думаешь, мразь, я ничего не вижу? Думаешь, я ничего не понимаю, выблядок эрзянский? – вдруг посмотрел на него Гриша особенно пристально. Он смягчил хватку, и к Матвею вернулась ясность восприятия.
- Ты пойми еще вот что: без приказа Асфара Юнусовича я бы тебя даже пальцем не тронул. И мне обычно не нравится применять силу, но будь моя воля, я бы тебя разбросал по лесополосе. Я твою гнилую душонку насквозь вижу! - процедил Гриша.
- О чем ты говоришь?.. – сдавленно прохрипел Матвей, совершенно не понимая смысла его слов. – Пожалуйста… Я сделаю всё, что ты скажешь…
Гришу словно подменили. Резко успокоившись, он наконец отпустил Матвея. Не удержавшись на трясущихся ногах, тот упал и ударился затылком об пол, но даже не заметил этого. Запрокинув к потолку мраморно-бледное лицо, он таращился заплаканными глазами в потолок и лихорадочно втягивал воздух. Всмотревшись вдруг в глаза Матвея, Гриша глумливо поинтересовался:
- А почему это у нас зрачки узкие, а?
- У меня голова болит, мне очень…
- И мы решили лечиться рабочим ширевом? – едко спросил Гриша, даже не выслушав его оправдание.
- Это каффетин! – надрывно всхлипнул Матвей, дернувшись всем телом назад.
- Смотри у меня, - пригрозил Гриша, снова отвесив Матвею подзатыльник, - если выяснится, что ты еще и героином колешься…
Не договорив, он сел на стул, широко расставив ноги, и устало закурил. По прозрачно-солнечному воздуху кухни пополз седой дым ментоловых сигарет. Приглушенно ощущая грубую боль, растекающуюся по избитому телу, Матвей попытался подняться. Ноги не держали. Он рухнул боком на холодную дверцу холодильника и сполз по ней на пол, полусидя съежившись. Моральная боль, в отличие от физической, была сильнее и давила изнутри. Зажав рот ладонью, чтобы не разозлить Гришу еще сильнее, Матвей вновь зарыдал.
Ухватив его за ворот футболки, Гриша подтащил его к себе и вдавил тлеющую сигарету в плечо. Пылающий табак прожег ткань, ожогом вскипел белок, и Матвей, завопив во весь голос, рванулся прочь. Без лишних слов, с крайне сосредоточенным видом Гриша наотмашь ударил его по лицу, разбив на этот раз трясущиеся губы. Бросив затушенный окурок под стол, он равнодушно произнес:
- Наверное, тебе лучше умерить аппетиты и поменьше ширяться. Нервный стал и несобранный, истерики закатываешь. Соберись, подумай и ответь внятно. Как солидный, взрослый человек.
Матвей видел перед собой размазанные капли крови, накапавшие с его носа на блестящий в полудне кафель. Мелкие точки лучились сужающимися хвостами мазков и напоминали арабскую вязь. Матвея впервые ударило болезненным осознанием: бесспорно, Гриша его защищал, но при первом же приказе мог без колебаний его убить. Матвей чувствовал себя оплеванным. Ему хотелось, чтобы Гриша как можно скорее ушел.
- Пожалуйста, Гриша, прости меня, - выдавил Матвей трясущимся, заискивающим тоном, - я больше не буду отказываться, я полностью согласен сотрудничать…
- Не забывайся, ладно? – вдруг заговорил тот с неожиданным сочувствием. – Мне очень неприятно так с тобой беседовать, но это вынужденная воспитательная мера. Слишком уж ты своевольный. Надеюсь, ты хорошо меня понял. И дам тебе хороший совет на будущее. Ты особо не думай, когда тебя о чем-то просят. Не надо всей этой херни. Зачем, почему – тебя это ебать не должно. Меньше знаешь, крепче спишь. Уяснил, Грязев?
- Уяснил, - судорожно всхлипнул Матвей. Гриша удовлетворенно кивнул.
- Это, конечно, очень смело – высказывать подобное мнение, точно зная, что ты отгребешь. Вот за что я тебя уважаю, так это за смелость. Но больше не демонстрируй ее, пожалуйста. Я уже понял, что ты очень храбрый и ничего не боишься.
Матвей постанывал, тяжело дышал и рассматривал истоптанные пальцы. На свежих ссадинах набухали густеющие капельки крови, кожа вокруг стала красной и опухшей. Пальцы сгибались, но зудели при этом монотонной болью.
- Не волнуйся, я тебе ничего не сломал, - ободряюще хмыкнул Гриша, - было бы глупо выводить тебя из строя накануне предстоящего дела.
Вытерев окровавленные руки об вафельное полотенце, висящее над столом, Гриша скрылся в коридоре. Мерный стук подошв стал практически неслышимым, и скрипнула петлями входная дверь.
- Дверь закрой, порядочный торговец, а то мухи налетят! – раздался его насмешливый голос. Стиснув зубы, Матвей доковылял до двери. Гриши уже не было. Матвей заперся на все обороты, уперся ладонью в стену и побрел к ванной. По инерции продолжая вздрагивать, он умылся и обработал открытые раны йодом. Ожог пришлось заклеить пластырем, чтобы не содрать волдырь одеждой.
Захватив в кабинете пинцет и средних размеров зиплок, он вернулся в кухню, где на обеденном столе лежали чьи-то окровавленные волосы. Гриша, конечно, оставил на улике свои отпечатки, потому что мог себе это позволить, однако Матвей этого делать не собирался. Подцепив пакетик с волосами пинцетом, Матвей осторожно погрузил его в свой зиплок.
Окровавленный локон он спрятал в ящике письменного стола. Из другого ящика извлек заранее приготовленный амфетамин, стеклянный фурик с водой для инъекций и нетронутый шприц. Размешав амфетамин иглой, Матвей кинул ватку в прозрачно-мутный раствор, в котором кружила белая взвесь. Взвесь осела на ватке, а готовый раствор, проскользнув сквозь узкое русло канюли, заплескался в шприце. Выбрав на правой ноге вену, рядом с которой не наливались темнотой свежие синяки, Матвей трепетно взял контроль и разбавил свою кровь амфетамином. Приход оказался мимолетным и слабым, выбив из него лишь долгий вздох облегчения. Сжались челюсти, расширились зрачки, очернив глаза, и сразу захотелось шевелиться.
Матвей подошел к окну и открыл форточку. Пахнуло мокрым ветром и озоном. Небо кишело переплетениями туч, которые наслаивались друг на друга, подобно комьям застарелой пыли или набухшим от влаги вторякам – клочкам ваты, в которых еще можно было найти раствор. Подступали многодневные дожди, обещанные прогнозом еще в начале мая.
«Я кидаю друга детства, чтобы смотреть на пальмы, колоться хорошей наркотой и наслаждаться свежими креветками… - отупело думал про себя Матвей. – Но ведь голова-то…»
С кинематографичной яркостью он вдруг представил свою отрезанную голову, лежащую у темного постамента, с которого ухмыляющийся архитектор Трезини смотрел на свинцово-синие волны Большой Невы, пока по его медвежьей шубе и буйным локонам ручьями струился ливень… Матвею захотелось, чтобы щелкнула режиссерская хлопушка, чтобы в кабинет вошел печальный Балабанов, умудренный Афганом и дальневосточной провинцией, и сказал: «Стоп, снято!», прекратив тем самым его страдания.
«Какой он мне, в общем-то, друг? Если жрали вместе мускат и ипомею, то сразу друзья? – мелькнула у Матвея нехорошая мысль, но в пику ей тут же возникла другая. – А ведь Лариса меня тогда не сдала…»
Он до боли закусил разбитую губу: «Или сдала?.. Кто может утверждать, что Лариса меня не выдавала? В конце концов, арестовали меня после того, как я с ней встретился…»
Промаявшись до вечера, Матвей забрался в кровать, накрылся одеялом и уткнулся лицом в подушку. Воспоминания о недавнем унижении навязчиво лезли в голову, и Матвей не мог их отогнать, потому что все мысли, проскакав по ассоциативному ряду, приводили лишь к Грише. В груди колко жило странное чувство - смесь глухого желания заплакать и абсолютного бессилия, из-за которого даже плакать не получалось. Когда стемнело, начал звонить рабочий телефон, и Матвей, швырнув его в стену, продолжил апатичное бдение. Телефон упал на пол, сбросив по пути заднюю крышку и батарею, и в треснувшем экране дробно отразилась хрустальная люстра.
«Но ведь волосы кому-то принадлежат, и кровь тоже не из пустоты взялась…» - дошло до Матвея, когда его охватила тягостная дрема. Накатившие сновидения помешали ему развить эту мысль, задавив ее в зародыше.
Проснулся он совершенно разбитым. Под припухшим носом кривились узкие губы с багровыми корками, пальцы немного саднили, а на лбу и левой скуле расплылись два болотисто-сизых синяка. Такие же синяки разрозненной россыпью покрывали тело и основание шеи. Шевелиться было тяжело и больно. Матвея не раз избивали, но только правоохранительные органы делали это настолько унизительно.
Когда он чистил зубы, в коридоре раздались канареечные трели. Сплюнув пенящуюся пасту в жерло раковины, он вытер мокрое лицо полотенцем и подошел к двери. По ту сторону терпеливо выжидал мужчина, которому можно было дать больше сорока: щуплый, одетый не очень презентабельно, с глубокими бороздами морщин на отекшем лице. Стереотипная черная толстовка придавала его облику еще большую подозрительность.
«Долгожитель, наверное», - подумал Матвей, а вслух спросил:
- Вы к кому?
- К Матвею Грязеву, - ответил мужчина и довольно улыбнулся. Голос его оказался сипловатым и прокуренным.
- Тут таких нет, - угрюмо ответил Матвей.
- А если меня зовут Герман Кириченко? – ощерился мужчина в толстовке, заглянув в черный глаз камеры. – Тогда Матвей здесь живет?
Матвей отпрянул от двери. Всякий раз, когда у его матери болела голова, она глушила свет, ложилась в кровать и клала на лоб мокрую тряпку, смоченную в уксусном растворе. Лежа в темноте узкой комнаты, она стонала от боли и жаловалась на жизнь, обращаясь то к Матвею, то к богу, то к самой себе:
- Лучше бы ты унаследовал мои гены, а не этого ублюдка. У меня предки из опричнины, трудились на службе у государя. А этот? За наркотики сидит. И его отец всю жизнь за разбои сидел. Ты точно такая же флегматичная рыба, как твой папашка. Хоть бы в казаки пошел, я уже не говорю про органы… Не дай бог, тоже начнешь торговать, как этот. Знаешь, что с такими в тюрьме делают? Гнобят, как собак.
Глядя на биологического отца, искаженного монитором, Матвей усмехнулся. Безусловно, если ему вдруг захочется навестить мать и обрадовать её тем, что он все-таки стал работать на органы, она полюбит его искренним материнским чувством. Но неприятно удивится, когда узнает, как именно её сын работает на органы, воплощая одновременно и ее родительское желание, и ее родительский страх.
- Паспорт покажи, - веско произнес Матвей, - в камеру, чтобы я видел.
Ничуть не удивившись, Герман Кириченко достал из кармана паспорт, раскрыл его и поднес вплотную к камере. Фотография, конечно, нынешнему виду не соответствовала, но данные были настоящими, как и сам документ. Матвей ушел в спальню, достал из комода «глок» и сунул его за пояс, спрятав под футболкой.
Стоило Матвею открыть дверь, как Герман вкрадчиво вступил в коридор и лукаво покосился на него:
- Так и думал, что соврешь. Я сам барыжу, знаю все эти хитрости.
Матвей оглядывал отца, одежда которого была влажной от хлещущего снаружи дождя, и не понимал, какие ему испытывать чувства. Внешне они действительно были сильно похожи – светлыми волосами, угрюмым взглядом карих глаз и резкими чертами лица, присущими эрзянам. Елена Алексеевна всегда говорила, что внешностью Матвей пошел в отца, а ростом в деда по отцовской линии. Если не учитывать роста, то Герман был взрослым и опустившимся Матвеем, который спился и посадил себе здоровье на зоне, где провел всю сознательную жизнь. Ногти у него были толстыми, пожелтевшими от курения, и под ними темной каймой проступала невычищенная грязь.
- Что это с тобой? – буднично спросил Герман, заметив синяки, будто это была их не первая и даже не сотая встреча.
- Ничего, - грубо сказал Матвей.
Не дождавшись приглашения, отец разулся и поставил стоптанные, насквозь промокшие ботинки на обувную полку. Решив не заводить его в кабинет, пропахший уксусом, Матвей направил его в зал. Герман прошел вглубь просторной комнаты, стены которой были выкрашены соломенно-желтым, и с минуту озирался, оглядывая каждый уголок с детским любопытством. В центре стоял громоздкий желтый диван с узким торшером, делящий зал на две зоны. Перед диваном располагался широкий плоский телевизор с игровой приставкой и очками виртуальной реальности. Возле окна стояла этажерка с книгами, лава-лампой и статуэткой Смеющегося Будды, а за дымчато-фиолетовой старомодной ширмой скрывалась оттоманка с пледом. Матвею нравилось лежать там вмазанным и смотреть, как медленно ползут над Петербургом рельефные облака, словно высеченные из белоснежного гранита. Но сейчас темно-сизое небо барабанило по железным крышам косыми каплями дождя, норовя затопить улицы и набережные.
Герман повернулся к Матвею, который стоял в дверях, сложив руки на груди, и улыбнулся еще шире:
- Яблочко, как я погляжу, очень удачно упало, а? Мне о такой хате только мечтать. Я всю жизнь совсем по другим хатам…
- Как ты нашел меня и зачем? – мрачно перебил его Матвей. Нарочитое дружелюбие Германа, грозящее перейти в слащавость, вызывало одно лишь раздражение, и Матвею хотелось поскорее покончить с этой встречей, не отвлекаясь на частности. Он был убежден, что пришел Герман не просто так.
- Случайно нашел. Я же недавно из Крестов, а товарищ полгода назад вышел. Он на гердосе сидит, и пока я у него кантовался, часто слышал про Герыча, - на одном дыхании выпалил Герман. Подойдя к Матвею, он завершил свою вдохновенную речь тем, что встряхнул его за плечи, имитируя панибратские повадки множества отцов.
- Прекрасно, - буркнул Матвея, глядя поверх его головы.
- Я каждый раз смеялся, что у барыги отчество как раз по профилю, - торопливо продолжил Герман, - а потом узнал, что его, то есть, тебя зовут Матвей. И я решил проверить, вдруг это ты. А это действительно оказался ты. Чего только не бывает, правда?
- Это не объясняет того, что ты пришел ко мне домой, - неприветливо произнес Матвей, стряхнув с себя его руки. Он прошел к дивану и сел, скрестив руки на груди и закинув ногу на ногу. Расхаживая из стороны в сторону и активно жестикулируя, Герман красноречиво изложил историю своих поисков. Мизантропический вид Матвея его ни капли не смутил.
Получив от товарища номер Герыча, отец нагуглил слитую базу мобильного оператора, где фигурировало его настоящее и полное имя - Матвею, расслабившемуся под сенью полицейского покровительства, не было нужды покупать симкарту, оформленную на гастарбайтера. По полному имени отец вышел на паблик «Питер сегодня», в ленте которого был размещен обличительный пост - истерически сообщалось, что Матвей наркоторговец и живет на Большой Конюшенной, возле «ЦАЛСКСП». К посту прилагались селфи из инстаграма Матвея, на которых он выглядел крайне подавленным, и ссылка на оный.
Услышав об этом, Матвей нахмурился и немного отвлекся. Перспектива очередного поспешного переезда, замаячившая на горизонте, его не радовала.
«Кто мог это сделать? – напряженно думал он. – Тот, кто знает мое полное имя. Таких немного. Лада, Соня, Ася… И со всеми я недавно поссорился. Еще этот наркоша сегодня приходил… Выходит, стучал во все три квартиры, потому что не знал точный адрес».
- …в общем, ничего сложного, Матюша. Думаешь, до твоего рождения гугла не было? Ты совсем уж старым меня не считай, - с легким торжеством резюмировал Герман и сел рядом с ним.
- И сколько времени ты на это потратил? – спросил Матвей с кривой улыбкой, в которой совсем не было радости.
- Около часа. Ты, конечно, осторожный, но мы живем в информационную эпоху, и можно кого угодно так найти, если постараться. Даже Домнина. А я, как видишь, сделал это в несколько кликов.
- Зачем ты пришел? – с тоской осведомился Матвей. – К чему эта родственная любезность?
Германа вопрос осчастливил, словно он боялся перейти к сути и очень обрадовался тому, что это сделали за него. Подключив все свое красноречие, которым он обычно обрабатывал любовниц по переписке, Герман бросил на Матвея сочувственный взгляд, приправленный граном укора:
- Понимаешь ли, Матюш, хоть мы и не виделись никогда, мы все-таки родственники. Есть, конечно, одно разногласие. Я-то с мусорами принципиально не сотрудничаю, девятнадцать лет из-за них отсидел… А вот ты ссучился и ни в чем себе не отказываешь, но ведь я твой отец, а ты мой сын…
Матвей неприкрыто усмехнулся. Полимерная рукоять пистолета прохладно касалась поясницы. По оконному стеклу оглушительно хлестал дождь, и золотистый шар торшера зыбко отражался в сером бурлящем полотне.
- Куда меня возьмут с двумя сроками? А жить где-то надо… - говорил Герман, по-отечески сжимая плечо Матвея и заглядывая ему в лицо. – Разве накладно тебе будет раз в месяц отцу деньги высылать? Тысяч тридцать. Получаешь-то ты гораздо больше. Я даже не прошу, чтобы ты изображал теплое отношение. А то мне опять придется по бабам кататься.
- А почему бы и не по бабам? – выразительно произнес Матвей, усмехнувшись еще шире. – Ты в этом деле мастак. Если бы еще предохраняться умел, был бы мужчина мечты.
- Значит, не хочешь по-хорошему?! – выпалил Герман сквозь зубы. Приторная улыбка сбежала с его лица, и он потянул руку, намереваясь схватить Матвея за волосы. Пружинисто вскочив на ноги, Матвей отшатнулся от дивана и выхватил из-за пояса пистолет. Завидев направленное на него дуло, Герман рефлекторно рванулся назад, как испуганная черная птица. Он полулежал на диване, откинувшись на широкий валик подлокотника.
- Не думай, что я сейчас грабану тебя. Сильно много чести, - резко произнес он с интонациями гопника, - не хватало еще из-за такой падлы сидеть. Я в суд пойду. Подам на алименты, потому что я инвалид по состоянию здоровья и твой кровный отец.
Матвей смерил его глазами:
- Ты уехал еще до моего рождения, а потом вообще сел и пропал. Ты на меня ни рубля не потратил. Мне двадцать лет, и я впервые тебя вижу. Не говоря уж о том, что кровный отец может получать алименты лишь в том случае, если он записан в свидетельстве о рождении.
Герман недоуменно уставился на него.
- Она не вписала тебя, там прочерк, - объяснил Матвей и ехидно добавил, - своим молчанием ты очень ее расстроил.
Протяжно вздохнув, Герман почесал в затылке и осторожно поднялся с дивана, стараясь не делать резких движений и косясь на небольшой пистолет, который Матвей сжимал в правой руке. Он был убежден, что не стоит ожидать от сына меткости в стрельбе, однако расстояние было слишком мизерным, чтобы рисковать.
- И как ты решился просить деньги у меня? – вдруг спросил Матвей, в ухмылке приподняв уголок рта. – Ты ведь у нас ауешник с принципами, которому западло с мусорами сотрудничать. А деньги просишь у мусорского барыги. Разве ты сможешь брать в руки такие грязные деньги?
Герман сделал опасливый шаг в сторону двери, однако Матвей сократил дистанцию до прежней, которой было достаточно, чтобы не промахнуться. Распалившись, он неотрывно смотрел на Германа и в бессильной злобе стискивал зубы. По оконным стеклам бурными потоками струился дождь, который медленно крался к квартирам сквозь деревянные перекрытия, чтобы потом выступить на потолке желтовато-пшеничными пятнами, а сквозь щели в деревянных рамах просачивался легкий сквозняк.
- Как ты вообще живешь с такими противоречиями в башке? – звонко спросил Матвей с перекошенным лицом. – Ты же сам торговал! Какие еще понятия? Почему ты примазываешься к тем, кто тебя говном считает?
Герман не говорил ни слова. Он лишь тихо дышал, сжимая трясущиеся губы, и смотрел на биологического сына, как на постельного клопа, которого раздуло от крови.
- Уходи. Двадцать лет тебя не видел и дальше не хочу, - тихо произнес Матвей.
- Обязательно было за ствол хвататься, параноик? – спросил Герман с долей обиды.
- Обувайся и уходи.
Он задумчиво кивнул:
- Понимаю, понимаю, ничего не поделаешь… Профдеформация.
Ссутулившись и став еще ниже ростом, он тяжело вздохнул и устало побрел в коридор. Матвей следовал за ним, как вертухай, и не опускал пистолет, держа Германа на прыгающем прицеле. Обувшись, тот стряхнул с подсохших ботинок крупицы уличной пыли, выпрямился и широко улыбнулся.
- Ты еще не стал алкоголиком? – спросил он тоном, в котором слащавость граничила с гадливостью. – Часто бывает так, что человек не выдерживает мук совести и спивается. Впрочем, ты не опухший, даже худой. Или спортом занимаешься, или нюхаешь. Судя по тому, какой ты дерганый…
- Чего зубы сушишь? – перебил его недовольный Матвей. – Я тебя, например, вообще не искал. Не знаю, чего это тебе в голову взбрело, что я соглашусь тебе помогать.
- Ты, сынок, сука и блядь. И я сейчас не просто так тебя матом крою, понял?
Матвей промолчал, но ощерился скупым оскалом, как хищное животное.
- Сделай лицо попроще, шестерка Жарова, - свысока посмотрел на него Герман, насколько это было возможно при разнице в росте. Матвей, держащий его на мушке, сделал резкий шаг в его сторону. Испугавшись, Герман проворно выскочил в парадную, пропахшую застоявшимся смрадом лежалых окурков, пробежал по лестничной клетке и вписался плечом в граненый выступ пилястры, но удержался на ногах.
- В собственного отца стрелять вздумал! – выкрикнул Герман, прытко спускаясь по лестнице. – Ментовская мразь!
- Дела свои почитай, мудак! – бросил Матвей ему вслед и шумно захлопнул железную дверь, лязгнув тяжелым замком. Выдохнув, он прислонился к стене коридора и измученно прикрыл глаза.
«Отец, отец, отец…» - проигрывалась в голове зацикленная мысль. Перед внутренним взором не угасало морщинистое лицо Германа Кириченко, у которого тоже были непослушные светлые волосы, карие глаза, резкие мелкие черты… Матвею не верилось, что он родился от этого лицемерного, подлого, гадкого человека. Однако все его поступки утверждали обратное – он был достойным сыном своего отца, просто находился по другую сторону решетки.
От череды неприятностей шла кругом голова, готовая в любой момент слететь со своей оси. Матвей мельком вспомнил про пост в паблике, о котором говорил Герман, но у него не нашлось сил это обдумать. Закрывшись в спальне, он положил «глок» на комод, а сам ничком повалился на заправленную кровать. Шелковое покрывало холодило кожу. Снаружи грохотал ливень, и Матвей даже с закрытым окном чуял подступающий запах влаги – удушливый, резкий и гниловатый.
☸
Сквозь тугую дрему прорывался монотонный звон. Не до конца проснувшись, Матвей нашарил рукой телефон, принял вызов и разлепил глаза, обнаружив себя в холодной тьме спальни. Электронный будильник, стоящий на тумбочке, мерцал красными цифрами, которые отпечатывались на сетчатке. Было почти пять утра.
- Слушай, у тебя получится сегодня меф вырубить? – поспешно затараторил Глеб, словно дело не терпело отлагательств. – Мне нужно четыре грамма.
- Я?.. – растерялся Матвей, но вспомнил изуверское поведение Гриши, который навещал его несколько дней назад, и взял себя в руки. Откашлявшись, он продолжил:
- Я могу, да, я могу…
- Что с тобой? Я тебя разбудил?
- Да, да, я спал, - ухватился он за подброшенную ему отговорку, - ничего страшного.
- Я буду дома только вечером. Приходи после шести, ладно?
- Давай тогда в семь, - пробормотал Матвей, скомканно попрощался и сбросил вызов. Лежа в широкой кровати и отрешенно вглядываясь в седеющее за окном утро, он ловил себя на отрывочных мыслях, среди которых проскальзывали и спасительные, однако от этого еще более ничтожные.
«Возможно, он потом сразу покинет квартиру… - предположил Матвей, цепляясь за остатки надежды. – Если за Глебом придут, когда его не будет дома, а он каким-то образом об этом узнает, у него появится шанс скрыться».
Протяжно выдохнув, он потер лицо руками. Чтобы все состоялось, нужно было позвонить Грише, с которым сегодня не хотелось беседовать, будь то личная встреча или даже телефонный разговор. Однако преимущество было не на стороне Матвея.
- А еще раньше ты не мог позвонить? – мрачно спросил Гриша, тоже не поздоровавшись. – Пять утра!
- Он только что звонил и просил зайти после шести вечера. В семь я буду у него, - взволнованно доложил Матвей с опущенной головой. От услышанных слов Гриша несколько приободрился.
- Умница, Грязев. Продолжай в том же духе.
Песочно-желтый майский день тянулся бесконечно долго. Матвей безучастно фасовал серый героин, напоминающий своей консистенцией прах, и каждая минута копировала предыдущую без мельчайших отклонений. Руки работали автоматически, и Матвей не принимал в этом процессе никакого участия, потому что мыслями находился не здесь. Так же безучастно он отоваривал наркоманов, бродящих у Балтийского вокзала, Сенной площади и Апраксина двора. Даже Миша заметил неладное и начал задавать вопросы, но Матвей не дал ему честных ответов.
К шести вечера уже вовсю лил дождь. Цепко держась за лямки рюкзака, где лежало двести десять тысяч рублей, Матвей ровным шагом направлялся к своей парадной. Округлые капли бежали по волосам, разбивались об лицо, срывались с кончика носа.
Когда Матвей поднялся на свой этаж, ему в глаза бросились цветы. У него под дверью лежали две пластиковые гвоздики, перевязанные черной траурной лентой. Даже не думая о том, кто мог принести их сюда и зачем, он мыском кроссовки отодвинул их в сторону и скрылся в квартире. Времени оставалось мало.
Прячась под серым куполом зонта, Матвей брел по лужам, в которых дрожали глаза светофоров, налитые кислотной краснотой, едкой желтизной и мертвенной зеленью. Он пересекал один рубеж за другим – канал Грибоедова, Мойку, Фонтанку… Каменные лестницы с коваными перилами спускались к пепельно-темной воде, окуная в нее ступени, а за парапетами мостов качались жесткие гребни волн, в толще которых колыхались зеленые сети водорослей.
Красная вывеска бара «Roses» сонливо пылала неоном, отбрасывая на мокрые камни тротуара маслянисто-алые штрихи. Матвей немного постоял перед тяжелой деревянной дверью, а потом закрыл зонт и вошел в ухоженную парадную, провонявшую клопомором. Глеб открыл после первого же звонка. Вид у него был предельно сонный и болезненный - он хлюпал носом, покашливал и производил невзрачное впечатление.
Забрав протянутый зиплок с мефедроном, он сочувственно оглядел Матвея, синяки которого выцвели до сухой желтизны:
- Кто это тебя так отделал?
- Кое-кому не понравилось, как я работаю. Случился конфликт… - вымученно ответил Матвей. Технически это даже не было ложью.
Вечер проходил почти так же, как и в прежние дни. Глеб то и дело припадал к блюдцу, где были расчерчены жирные дороги, а Матвей слушал его рассуждения, в которых было слишком много политики, и ощущал некоторое отчуждение, словно это не его тело говорило с Глебом, словно его место занял кто-то другой. Он отстраненно воспринимал слова, жесты и мимику Глеба, который совершенно не подозревал о своем берлиозовском положении.
На исходе второго часа Матвей засобирался домой и перед уходом зашел покурить в туалет. Сидя на крышке унитаза, одной рукой он стряхивал пепел, а другой нерешительно нащупывал зиплок, который ему передал Гриша. Когда бычок блеснул последней искрой, а край фильтра обуглился, наполнив рот горьким дымом, Матвей тихо приподнял бугристый линолеум и вытряхнул на грязный пол зиплок с окровавленной прядью. Он не оставил на улике своих отпечатков пальцев, вытряхнув ее из зиплока побольше, в который предусмотрительно ее упаковал.
Уложив линолеум на место, Матвей вышел из туалета. Глеб уже ждал возле двери, собираясь проводить его. Пряча стеклянный взгляд, Матвей обулся и стряхнул с клетчатой рубашки крошечные хлопья пепла. Глеб прислонялся к стене, сложив руки, и задумчиво смотрел перед собой.
- Какие у тебя планы на сегодня? – осторожно поинтересовался Матвей, покосившись на него.
- Нюхать и писать статьи, - буркнул тот, - никуда не хочется идти в такую погоду.
Матвей замялся. Уголки рта дрогнули, скользнув вниз, однако он одернул себя и натянуто улыбнулся. Он пытался представить, как он выглядит со стороны: наверняка это было жалкое зрелище.
- Может, пива в «Розах» попьем? – предпринял он последнюю попытку, умоляюще посмотрев на Глеба.
- Какое пиво… - махнул он рукой. – Я решил временно завязать с бухлом. По утрам просыпаюсь опухший, никуда это не годится.
«Я не советую тебе оставаться сегодня дома», - произнес про себя Матвей, и его мысленный голос был тверд. Но говорить это вслух было страшно. Если Глеб сболтнет следователям, что Матвей советовал ему покинуть квартиру, эта деталь быстро дойдет до Гриши, который не замедлит выполнить обещание и уж точно сделает это искренне. Матвей уже в который раз представил свою отрезанную голову, валяющуюся на площади Трезини, и его пробрало страхом мучительной смерти.
- Ты сегодня какой-то дерганый, - прищурился Глеб, - отходосы?
- Да… - промямлил Матвей, стараясь держаться естественно. – Я вчера кодеин со спидами намешал. Теперь вот… - и он сконфуженно замолчал, растеряв нужные слова.
- Ага, заметно. На тебе лица нет.
Из последних сил попрощавшись, Матвей спустился по мраморной лестнице. Он едва сдерживался, чтобы не сорваться на бег. Выйдя под каменный козырек, он раскрыл зонт и нервно зашагал в сторону Гангутской. Неоновые всполохи красной вывески пятнали красными брызгами разливающиеся лужи и мокрую брусчатку. Подергивая ртом, Матвей прижимал к себе ручку зонта, по которому барабанил ливень, и приближался к черному гелендвагену Гриши, припаркованному близ перекрестка.
Когда рябое от капель окно оказалось совсем близко, Матвей отрывисто стукнул по стеклу. За размытым фильтром повернулся в его сторону Гриша, и дверь открылась. Сложив дрожащими руками неподдающийся зонт, Матвей запрыгнул на переднее сиденье и склонил голову, наконец дав волю внутреннему стыду, который едко тлел в горле. Гриша неотрывно смотрел на него, не скрывая довольства и даже любопытства.
- В туалете под линолеумом, в левом дальнем углу, - негромко произнес Матвей и закусил губу.
- Молодец, - с некоторым снисхождением похвалил его Гриша, - можешь ведь, если постараешься. Ебальник не сильно кривил?
- Нет, - прошептал он, подавив спазм, который жгуче сдавливал глотку. В салоне машины запахло сигаретами с ментолом, и в поле зрения Матвея завилось тонкое кружево дыма. Матвею казалось, будто у него вынули внутренности, оставив в туловище лишь пустые потемки. Гриша сострадательно улыбнулся и похлопал его по поникшему плечу. Матвей рухнул лбом на приборную панель, впившись пальцами в костлявые колени. В глазах защипало.
- Я хочу домой, - сбивчиво сказал он, не скрывая слезных отзвуков, - можно мне пойти домой?
- Ты очень подавлен. Я немного занят, но могу подкинуть до метро, если нужно.
- Нужно, - еще горше выдавил Матвей и, запустив пальцы в бледно-пшеничные волосы, мелко затрясся. С оттенком панибратства Гриша потрепал его по голове, придавив затылок тяжелой пятерней.
- Не раскисай. Водочка, крепкий сон – и всё как рукой снимет.
Жест показался Матвею неуместным и излишне фамильярным, однако он вспомнил, как Гриша его пытал, и горько усмехнулся: по сравнению с патологическим сочетанием изуверства и сочувствия, которое давило скорее морально, нежели физически, мало что могло быть фамильярным.
- Ничего страшного, ты привыкнешь. Это как игра в поддавки: побеждаешь, когда отдаешь все свои шашки. Их у тебя, конечно, больше не будет, зато будет кое-что получше. Ты только поддавайся, и все будет ништяк.
- Давай без вот этих вот аллегорий, - мрачно отозвался Матвей, - тут даже дебилу всё понятно.
Хмыкнув, Гриша тронулся с места и довез его до Чернышевской. Спустившись в метро, Матвей забрел в полупустой вагон и мешком повалился на коричневое сиденье из жесткого пластика. Он краем уха вслушивался в хорошо поставленный баритон, объявляющий станции. На противоположной стене вагона, справа от дверей, ядовито белел квадрат с цитатой, написанной изящным курсивом: «Любого человека, ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет на десять, и где-то в глубине души он будет знать, за что». Венчал цитату золотистый двуглавый орел, головы которого составляли удивительный симбиоз: одна голова провоцировала на преступления, а вторая за них наказывала. Матвею вспомнился далекий прадед, которого отправили в лагерь за политический анекдот про Сталина. Следом в памяти всплыл эзотерик Юша, которого два года назад посадили за атеистский мем, впаяв ему экстремистскую статью.
В ближайшем к дому супермаркете Матвей купил литровую бутылку водки. С ней он заперся в санузле и привалился к покатому боку массивной черной ванны, усевшись прямо на холодящий пол. В трубах зычно завывал ветер. Под галогенно-белым светом играли отблески кафеля и санфаянса, а на узкой полке мерцали цветным стеклом три статуэтки в виде попугаев. В дальнем углу располагались сушилка для белья и стиральная машинка, на которой валялся скомканный свитер.
Морщась от горечи и надсадно шипя сквозь сжатые зубы, Матвей методично набухивался. Лицо постепенно краснело, его черты ползли, а мир вокруг погружался в белесую муть. Матвей плохо переносил алкоголь и надеялся, что вырубится достаточно быстро, чтобы не погрязнуть в самоедстве. С трудом преодолев половину бутылки, он поднес ее ко рту, чтобы сделать очередной глоток, но замер и уставился перед собой широко раскрытыми глазами.
Скрестив ноги, в метре от него сидел пухлый, бритый наголо бурят в многослойном одеянии из синей парчи, расшитой белой дымкой облаков и прозрачно-снежными птицами. На ногах у бурята были войлочные сапожки с загнутыми мысками. Круглое лицо с румяными щеками и плоским носом было непроницаемым, как и взгляд скошенных глаз, таящихся под эпикантусом. В правой руке гость держал деревянную маску на длинной палке – яркую, цветастую, в духе тибетской иконографии. Она изображала синюю бычью морду с тремя бешеными глазами, которые пузырями торчали из глазниц, красной пастью, полной острых клыков, и волосами, похожими на огненно-рыжие языки огня. Между двух длинных рогов белела корона из пяти черепов, звенящая крохотными колокольчиками. В левой руке e бурята был джутовый аркан, петля которого мирно покоилась у него на коленях.
- Привет, Матвей Грязев, - произнес бурят голосом без пола и возраста.
«Допился, - мелькнуло в голове у Матвея, - или с ума сошел…»
Дернувшись к раковине, под которой был спрятан один из ножей, он крепко сжал шершавую ручку и выставил нож перед собой, угрожающе ткнув в сторону бурята.
- Ты кто такой?! – завопил он, шевельнув крыльями ноздрей. Бурят качнул маской, и медно-золотистые колокольчики пропели бархатным звоном.
- То есть, кто я такой? А ты не знаешь? – с широкой улыбкой осведомился тот. – Повелитель закона. Владыка смерти. Как тебе будет угодно.
- Тебя не существует. Ты – моя галлюцинация, - Матвей ткнул в него трясущейся рукой, в которой ходуном ходил нож, - такое уже было у Достоевского, у Пелевина… Я читал эти книги! А тебя вообще видел на обложке Бардо Тхёдол. Это я тебя выдумал!
Истерически выпалив последнюю фразу, Матвей запустил в бурята бутылкой, но промахнулся, и бутылка пролетела выше. Она ударилась об стену и разбилась, рассыпавшись по полу хрустящими осколками, а ванная наполнилась резким запахом спирта.
- Как скажешь. В конце концов, ты сам определяешь границы моей власти, - развел руками бурят. Агрессия Матвея не лишила его невозмутимости, природа которой явно была нечеловеческой.
- Что тебе надо?
- Я пришел сообщить тебе очевидную вещь, - умиротворенно проговорил бурят, - ты в дерьме. Тебя имеют, как хотят. Ты уже никогда не выберешься. Остается только всё сильнее прогибаться, а делать это вечно ты не сможешь. Во-первых, в твоем распоряжении нет вечности. Во-вторых, у каждого свой предел.
- Ну и что с того? – огрызнулся Матвей, но уже без прежней паники. – Может, сообщишь что-то, чего я еще не знаю? И почему тибетское божество разговаривает, как гомофобный урка?
- Я говорю с людьми на их языке, - издал бурят едкий смешок, напомнив тем самым Асфара Юнусовича, - кто ж виноват, что ты вырос в мире, где люди мыслят такими чернушными категориями? Надо что-то делать, Матвей Грязев.
- Как видишь, я много чего делаю, - устало сказал он, - я сегодня человеку жизнь сломал, чтобы благополучно вернуться домой. А еще раньше Ломакина сдал. Как тебе? Я достаточно старательный?
- Начнем с того, что за тобой числится намного больше мертвецов. Кому знать, как не мне, владыке смерти… - хихикнул бурят, прищурившись. И без того узкие глаза превратились в темные щелки. От него терпко пахнуло влажной землей.
- Тебе будет очень, очень плохо. Не сейчас, а потом. Наркоторговцы, как правило, с лихвой расплачиваются за свои земные дела.
- Я всю жизнь страдаю, - буркнул Матвей и опустил нож, - не вижу никаких различий между «сейчас» и «потом».
Он не лукавил. Жизнь виделась ему сочетанием малых страданий, которые сливались в одно колоссальное: жажда и голод, тяга и отходняки, постоянная необходимость зарабатывать на жизнь – сначала, чтобы не умереть от голода, а потом и для того, чтобы не быть убитым… Страданий было так много, что они составляли львиную долю жизненного срока и затмевали редкие проблески счастья.
Бурят оглушительно захохотал. На глазах у него даже выступили слезы, которые он утирал руками.
- Теперь-то что не так? – угрюмо спросил Матвей.
- Умненький, умненький Матвей Грязев! – стонал бурят сквозь раскаты смеха, пытаясь унять себя. – Всё так, всё так… Россия для грустных. Так, кажется, у вас говорят?
Резко замолчав, он вдруг изменился в лице, и в его чертах проступило недоброе лукавство.
- Знаешь, что тебя ждет? Наверняка знаешь, раз читал Бардо Тхёдол. Но до людей обычно не доходит без демонстрации. И я тебе сейчас это, - бурят разинул рот, полный острых клыков, и его лицо превратилось в синюю деревянную маску, - продемонстрирую…
На последнем слове его умиротворенный голос взвился до утробного, рычащего визга, от которого у Матвея заложило в ушах, а потом его шею обвила грубая петля аркана. Бурят дернул аркан на себя, узел затянулся, и Матвей, застигнутый врасплох, рухнул перед ним на колени. Панически хрипя, он пытался просунуть пальцы под стягивающуюся петлю, однако не мог нащупать ни веревку, ни себя. Воздух пульсировал и вздрагивал. К протяжному визгу бурята добавились лязганье варгана и вибрации горлового пения.
Стена шумов обрушилась на задыхающегося Матвея, и перед глазами замелькали осколки времен, мельтешащие в абстяжно-горячечной сновиденческой круговерти. Матвей ощутил вокруг пустоту, сияющую черным, и рухнул вниз – к её вечному милостивому сердцу. Хватая ртом воздух, он падал сквозь аскетично черные-кафтаны опричников, метлы и собачьи головы, горящие боярские палаты, жалобно-плачущие песни, покрытые мраком земли, гоголевские тройки, расстрельные тройки, черные хрущевки, запах серы, винтовые хаты, подпольные видеосалоны, танки перед Белым домом малиновые пиджаки использованные шприцы героиновые притоны свежевырытые могилы маслянисто-черные люксовые иномарки ментовские фуражки панельные фавелы невыносимый холод ласковые погосты родные домовины…
Судорожно вздрогнув, Матвей открыл глаза и ощутил виском холодный кафель. Бутылка лежала возле руки, из ее тонкого горлышка натекла на пол разящая спиртом лужица. Матвей облегченно выдохнул и кое-как поднялся на ноги. Сконфуженный то ли религиозным переживанием, то ли делириумным кошмаром, он сунул голову под ледяную струю, чтобы прийти в себя и стряхнуть неприятное видение.
- Пиздец, пиздец… - стонал он себе под нос, пока волосы тяжелели и темнели от воды, касаясь серого фаянса раковины. – Вот же пиздец…
- Слушай, у тебя получится сегодня меф вырубить? – поспешно затараторил Глеб, словно дело не терпело отлагательств. – Мне нужно четыре грамма.
- Я?.. – растерялся Матвей, но вспомнил изуверское поведение Гриши, который навещал его несколько дней назад, и взял себя в руки. Откашлявшись, он продолжил:
- Я могу, да, я могу…
- Что с тобой? Я тебя разбудил?
- Да, да, я спал, - ухватился он за подброшенную ему отговорку, - ничего страшного.
- Я буду дома только вечером. Приходи после шести, ладно?
- Давай тогда в семь, - пробормотал Матвей, скомканно попрощался и сбросил вызов. Лежа в широкой кровати и отрешенно вглядываясь в седеющее за окном утро, он ловил себя на отрывочных мыслях, среди которых проскальзывали и спасительные, однако от этого еще более ничтожные.
«Возможно, он потом сразу покинет квартиру… - предположил Матвей, цепляясь за остатки надежды. – Если за Глебом придут, когда его не будет дома, а он каким-то образом об этом узнает, у него появится шанс скрыться».
Протяжно выдохнув, он потер лицо руками. Чтобы все состоялось, нужно было позвонить Грише, с которым сегодня не хотелось беседовать, будь то личная встреча или даже телефонный разговор. Однако преимущество было не на стороне Матвея.
- А еще раньше ты не мог позвонить? – мрачно спросил Гриша, тоже не поздоровавшись. – Пять утра!
- Он только что звонил и просил зайти после шести вечера. В семь я буду у него, - взволнованно доложил Матвей с опущенной головой. От услышанных слов Гриша несколько приободрился.
- Умница, Грязев. Продолжай в том же духе.
Песочно-желтый майский день тянулся бесконечно долго. Матвей безучастно фасовал серый героин, напоминающий своей консистенцией прах, и каждая минута копировала предыдущую без мельчайших отклонений. Руки работали автоматически, и Матвей не принимал в этом процессе никакого участия, потому что мыслями находился не здесь. Так же безучастно он отоваривал наркоманов, бродящих у Балтийского вокзала, Сенной площади и Апраксина двора. Даже Миша заметил неладное и начал задавать вопросы, но Матвей не дал ему честных ответов.
К шести вечера уже вовсю лил дождь. Цепко держась за лямки рюкзака, где лежало двести десять тысяч рублей, Матвей ровным шагом направлялся к своей парадной. Округлые капли бежали по волосам, разбивались об лицо, срывались с кончика носа.
Когда Матвей поднялся на свой этаж, ему в глаза бросились цветы. У него под дверью лежали две пластиковые гвоздики, перевязанные черной траурной лентой. Даже не думая о том, кто мог принести их сюда и зачем, он мыском кроссовки отодвинул их в сторону и скрылся в квартире. Времени оставалось мало.
Прячась под серым куполом зонта, Матвей брел по лужам, в которых дрожали глаза светофоров, налитые кислотной краснотой, едкой желтизной и мертвенной зеленью. Он пересекал один рубеж за другим – канал Грибоедова, Мойку, Фонтанку… Каменные лестницы с коваными перилами спускались к пепельно-темной воде, окуная в нее ступени, а за парапетами мостов качались жесткие гребни волн, в толще которых колыхались зеленые сети водорослей.
Красная вывеска бара «Roses» сонливо пылала неоном, отбрасывая на мокрые камни тротуара маслянисто-алые штрихи. Матвей немного постоял перед тяжелой деревянной дверью, а потом закрыл зонт и вошел в ухоженную парадную, провонявшую клопомором. Глеб открыл после первого же звонка. Вид у него был предельно сонный и болезненный - он хлюпал носом, покашливал и производил невзрачное впечатление.
Забрав протянутый зиплок с мефедроном, он сочувственно оглядел Матвея, синяки которого выцвели до сухой желтизны:
- Кто это тебя так отделал?
- Кое-кому не понравилось, как я работаю. Случился конфликт… - вымученно ответил Матвей. Технически это даже не было ложью.
Вечер проходил почти так же, как и в прежние дни. Глеб то и дело припадал к блюдцу, где были расчерчены жирные дороги, а Матвей слушал его рассуждения, в которых было слишком много политики, и ощущал некоторое отчуждение, словно это не его тело говорило с Глебом, словно его место занял кто-то другой. Он отстраненно воспринимал слова, жесты и мимику Глеба, который совершенно не подозревал о своем берлиозовском положении.
На исходе второго часа Матвей засобирался домой и перед уходом зашел покурить в туалет. Сидя на крышке унитаза, одной рукой он стряхивал пепел, а другой нерешительно нащупывал зиплок, который ему передал Гриша. Когда бычок блеснул последней искрой, а край фильтра обуглился, наполнив рот горьким дымом, Матвей тихо приподнял бугристый линолеум и вытряхнул на грязный пол зиплок с окровавленной прядью. Он не оставил на улике своих отпечатков пальцев, вытряхнув ее из зиплока побольше, в который предусмотрительно ее упаковал.
Уложив линолеум на место, Матвей вышел из туалета. Глеб уже ждал возле двери, собираясь проводить его. Пряча стеклянный взгляд, Матвей обулся и стряхнул с клетчатой рубашки крошечные хлопья пепла. Глеб прислонялся к стене, сложив руки, и задумчиво смотрел перед собой.
- Какие у тебя планы на сегодня? – осторожно поинтересовался Матвей, покосившись на него.
- Нюхать и писать статьи, - буркнул тот, - никуда не хочется идти в такую погоду.
Матвей замялся. Уголки рта дрогнули, скользнув вниз, однако он одернул себя и натянуто улыбнулся. Он пытался представить, как он выглядит со стороны: наверняка это было жалкое зрелище.
- Может, пива в «Розах» попьем? – предпринял он последнюю попытку, умоляюще посмотрев на Глеба.
- Какое пиво… - махнул он рукой. – Я решил временно завязать с бухлом. По утрам просыпаюсь опухший, никуда это не годится.
«Я не советую тебе оставаться сегодня дома», - произнес про себя Матвей, и его мысленный голос был тверд. Но говорить это вслух было страшно. Если Глеб сболтнет следователям, что Матвей советовал ему покинуть квартиру, эта деталь быстро дойдет до Гриши, который не замедлит выполнить обещание и уж точно сделает это искренне. Матвей уже в который раз представил свою отрезанную голову, валяющуюся на площади Трезини, и его пробрало страхом мучительной смерти.
- Ты сегодня какой-то дерганый, - прищурился Глеб, - отходосы?
- Да… - промямлил Матвей, стараясь держаться естественно. – Я вчера кодеин со спидами намешал. Теперь вот… - и он сконфуженно замолчал, растеряв нужные слова.
- Ага, заметно. На тебе лица нет.
Из последних сил попрощавшись, Матвей спустился по мраморной лестнице. Он едва сдерживался, чтобы не сорваться на бег. Выйдя под каменный козырек, он раскрыл зонт и нервно зашагал в сторону Гангутской. Неоновые всполохи красной вывески пятнали красными брызгами разливающиеся лужи и мокрую брусчатку. Подергивая ртом, Матвей прижимал к себе ручку зонта, по которому барабанил ливень, и приближался к черному гелендвагену Гриши, припаркованному близ перекрестка.
Когда рябое от капель окно оказалось совсем близко, Матвей отрывисто стукнул по стеклу. За размытым фильтром повернулся в его сторону Гриша, и дверь открылась. Сложив дрожащими руками неподдающийся зонт, Матвей запрыгнул на переднее сиденье и склонил голову, наконец дав волю внутреннему стыду, который едко тлел в горле. Гриша неотрывно смотрел на него, не скрывая довольства и даже любопытства.
- В туалете под линолеумом, в левом дальнем углу, - негромко произнес Матвей и закусил губу.
- Молодец, - с некоторым снисхождением похвалил его Гриша, - можешь ведь, если постараешься. Ебальник не сильно кривил?
- Нет, - прошептал он, подавив спазм, который жгуче сдавливал глотку. В салоне машины запахло сигаретами с ментолом, и в поле зрения Матвея завилось тонкое кружево дыма. Матвею казалось, будто у него вынули внутренности, оставив в туловище лишь пустые потемки. Гриша сострадательно улыбнулся и похлопал его по поникшему плечу. Матвей рухнул лбом на приборную панель, впившись пальцами в костлявые колени. В глазах защипало.
- Я хочу домой, - сбивчиво сказал он, не скрывая слезных отзвуков, - можно мне пойти домой?
- Ты очень подавлен. Я немного занят, но могу подкинуть до метро, если нужно.
- Нужно, - еще горше выдавил Матвей и, запустив пальцы в бледно-пшеничные волосы, мелко затрясся. С оттенком панибратства Гриша потрепал его по голове, придавив затылок тяжелой пятерней.
- Не раскисай. Водочка, крепкий сон – и всё как рукой снимет.
Жест показался Матвею неуместным и излишне фамильярным, однако он вспомнил, как Гриша его пытал, и горько усмехнулся: по сравнению с патологическим сочетанием изуверства и сочувствия, которое давило скорее морально, нежели физически, мало что могло быть фамильярным.
- Ничего страшного, ты привыкнешь. Это как игра в поддавки: побеждаешь, когда отдаешь все свои шашки. Их у тебя, конечно, больше не будет, зато будет кое-что получше. Ты только поддавайся, и все будет ништяк.
- Давай без вот этих вот аллегорий, - мрачно отозвался Матвей, - тут даже дебилу всё понятно.
Хмыкнув, Гриша тронулся с места и довез его до Чернышевской. Спустившись в метро, Матвей забрел в полупустой вагон и мешком повалился на коричневое сиденье из жесткого пластика. Он краем уха вслушивался в хорошо поставленный баритон, объявляющий станции. На противоположной стене вагона, справа от дверей, ядовито белел квадрат с цитатой, написанной изящным курсивом: «Любого человека, ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет на десять, и где-то в глубине души он будет знать, за что». Венчал цитату золотистый двуглавый орел, головы которого составляли удивительный симбиоз: одна голова провоцировала на преступления, а вторая за них наказывала. Матвею вспомнился далекий прадед, которого отправили в лагерь за политический анекдот про Сталина. Следом в памяти всплыл эзотерик Юша, которого два года назад посадили за атеистский мем, впаяв ему экстремистскую статью.
В ближайшем к дому супермаркете Матвей купил литровую бутылку водки. С ней он заперся в санузле и привалился к покатому боку массивной черной ванны, усевшись прямо на холодящий пол. В трубах зычно завывал ветер. Под галогенно-белым светом играли отблески кафеля и санфаянса, а на узкой полке мерцали цветным стеклом три статуэтки в виде попугаев. В дальнем углу располагались сушилка для белья и стиральная машинка, на которой валялся скомканный свитер.
Морщась от горечи и надсадно шипя сквозь сжатые зубы, Матвей методично набухивался. Лицо постепенно краснело, его черты ползли, а мир вокруг погружался в белесую муть. Матвей плохо переносил алкоголь и надеялся, что вырубится достаточно быстро, чтобы не погрязнуть в самоедстве. С трудом преодолев половину бутылки, он поднес ее ко рту, чтобы сделать очередной глоток, но замер и уставился перед собой широко раскрытыми глазами.
Скрестив ноги, в метре от него сидел пухлый, бритый наголо бурят в многослойном одеянии из синей парчи, расшитой белой дымкой облаков и прозрачно-снежными птицами. На ногах у бурята были войлочные сапожки с загнутыми мысками. Круглое лицо с румяными щеками и плоским носом было непроницаемым, как и взгляд скошенных глаз, таящихся под эпикантусом. В правой руке гость держал деревянную маску на длинной палке – яркую, цветастую, в духе тибетской иконографии. Она изображала синюю бычью морду с тремя бешеными глазами, которые пузырями торчали из глазниц, красной пастью, полной острых клыков, и волосами, похожими на огненно-рыжие языки огня. Между двух длинных рогов белела корона из пяти черепов, звенящая крохотными колокольчиками. В левой руке e бурята был джутовый аркан, петля которого мирно покоилась у него на коленях.
- Привет, Матвей Грязев, - произнес бурят голосом без пола и возраста.
«Допился, - мелькнуло в голове у Матвея, - или с ума сошел…»
Дернувшись к раковине, под которой был спрятан один из ножей, он крепко сжал шершавую ручку и выставил нож перед собой, угрожающе ткнув в сторону бурята.
- Ты кто такой?! – завопил он, шевельнув крыльями ноздрей. Бурят качнул маской, и медно-золотистые колокольчики пропели бархатным звоном.
- То есть, кто я такой? А ты не знаешь? – с широкой улыбкой осведомился тот. – Повелитель закона. Владыка смерти. Как тебе будет угодно.
- Тебя не существует. Ты – моя галлюцинация, - Матвей ткнул в него трясущейся рукой, в которой ходуном ходил нож, - такое уже было у Достоевского, у Пелевина… Я читал эти книги! А тебя вообще видел на обложке Бардо Тхёдол. Это я тебя выдумал!
Истерически выпалив последнюю фразу, Матвей запустил в бурята бутылкой, но промахнулся, и бутылка пролетела выше. Она ударилась об стену и разбилась, рассыпавшись по полу хрустящими осколками, а ванная наполнилась резким запахом спирта.
- Как скажешь. В конце концов, ты сам определяешь границы моей власти, - развел руками бурят. Агрессия Матвея не лишила его невозмутимости, природа которой явно была нечеловеческой.
- Что тебе надо?
- Я пришел сообщить тебе очевидную вещь, - умиротворенно проговорил бурят, - ты в дерьме. Тебя имеют, как хотят. Ты уже никогда не выберешься. Остается только всё сильнее прогибаться, а делать это вечно ты не сможешь. Во-первых, в твоем распоряжении нет вечности. Во-вторых, у каждого свой предел.
- Ну и что с того? – огрызнулся Матвей, но уже без прежней паники. – Может, сообщишь что-то, чего я еще не знаю? И почему тибетское божество разговаривает, как гомофобный урка?
- Я говорю с людьми на их языке, - издал бурят едкий смешок, напомнив тем самым Асфара Юнусовича, - кто ж виноват, что ты вырос в мире, где люди мыслят такими чернушными категориями? Надо что-то делать, Матвей Грязев.
- Как видишь, я много чего делаю, - устало сказал он, - я сегодня человеку жизнь сломал, чтобы благополучно вернуться домой. А еще раньше Ломакина сдал. Как тебе? Я достаточно старательный?
- Начнем с того, что за тобой числится намного больше мертвецов. Кому знать, как не мне, владыке смерти… - хихикнул бурят, прищурившись. И без того узкие глаза превратились в темные щелки. От него терпко пахнуло влажной землей.
- Тебе будет очень, очень плохо. Не сейчас, а потом. Наркоторговцы, как правило, с лихвой расплачиваются за свои земные дела.
- Я всю жизнь страдаю, - буркнул Матвей и опустил нож, - не вижу никаких различий между «сейчас» и «потом».
Он не лукавил. Жизнь виделась ему сочетанием малых страданий, которые сливались в одно колоссальное: жажда и голод, тяга и отходняки, постоянная необходимость зарабатывать на жизнь – сначала, чтобы не умереть от голода, а потом и для того, чтобы не быть убитым… Страданий было так много, что они составляли львиную долю жизненного срока и затмевали редкие проблески счастья.
Бурят оглушительно захохотал. На глазах у него даже выступили слезы, которые он утирал руками.
- Теперь-то что не так? – угрюмо спросил Матвей.
- Умненький, умненький Матвей Грязев! – стонал бурят сквозь раскаты смеха, пытаясь унять себя. – Всё так, всё так… Россия для грустных. Так, кажется, у вас говорят?
Резко замолчав, он вдруг изменился в лице, и в его чертах проступило недоброе лукавство.
- Знаешь, что тебя ждет? Наверняка знаешь, раз читал Бардо Тхёдол. Но до людей обычно не доходит без демонстрации. И я тебе сейчас это, - бурят разинул рот, полный острых клыков, и его лицо превратилось в синюю деревянную маску, - продемонстрирую…
На последнем слове его умиротворенный голос взвился до утробного, рычащего визга, от которого у Матвея заложило в ушах, а потом его шею обвила грубая петля аркана. Бурят дернул аркан на себя, узел затянулся, и Матвей, застигнутый врасплох, рухнул перед ним на колени. Панически хрипя, он пытался просунуть пальцы под стягивающуюся петлю, однако не мог нащупать ни веревку, ни себя. Воздух пульсировал и вздрагивал. К протяжному визгу бурята добавились лязганье варгана и вибрации горлового пения.
Стена шумов обрушилась на задыхающегося Матвея, и перед глазами замелькали осколки времен, мельтешащие в абстяжно-горячечной сновиденческой круговерти. Матвей ощутил вокруг пустоту, сияющую черным, и рухнул вниз – к её вечному милостивому сердцу. Хватая ртом воздух, он падал сквозь аскетично черные-кафтаны опричников, метлы и собачьи головы, горящие боярские палаты, жалобно-плачущие песни, покрытые мраком земли, гоголевские тройки, расстрельные тройки, черные хрущевки, запах серы, винтовые хаты, подпольные видеосалоны, танки перед Белым домом малиновые пиджаки использованные шприцы героиновые притоны свежевырытые могилы маслянисто-черные люксовые иномарки ментовские фуражки панельные фавелы невыносимый холод ласковые погосты родные домовины…
Судорожно вздрогнув, Матвей открыл глаза и ощутил виском холодный кафель. Бутылка лежала возле руки, из ее тонкого горлышка натекла на пол разящая спиртом лужица. Матвей облегченно выдохнул и кое-как поднялся на ноги. Сконфуженный то ли религиозным переживанием, то ли делириумным кошмаром, он сунул голову под ледяную струю, чтобы прийти в себя и стряхнуть неприятное видение.
- Пиздец, пиздец… - стонал он себе под нос, пока волосы тяжелели и темнели от воды, касаясь серого фаянса раковины. – Вот же пиздец…
Глава 13
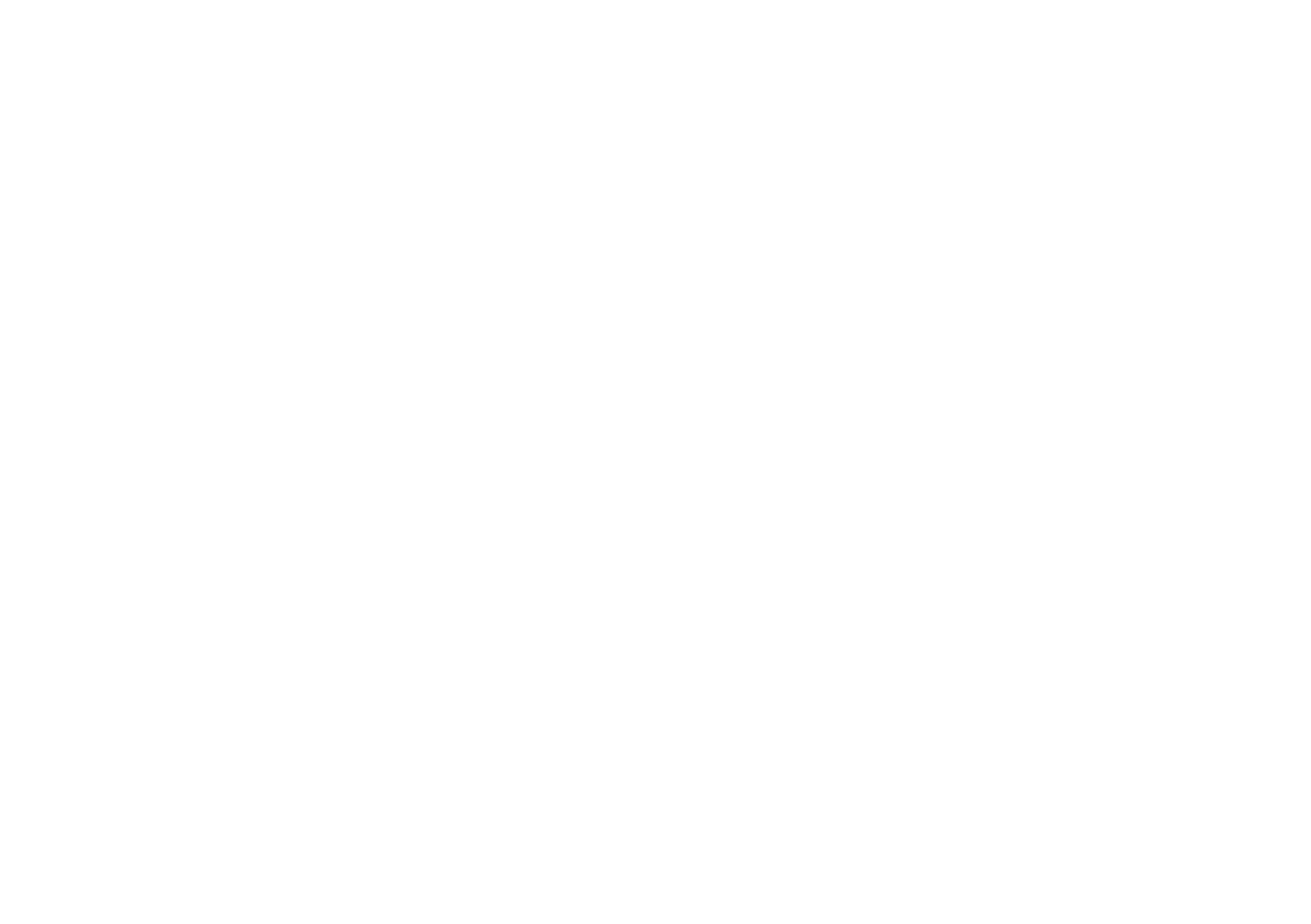
Да ведь вы еще и не знаете, как это все здесь устроено. Вообразите, примерно, длинный коридор, совершенно темный и нечистый. По правую его руку будет глухая стена, а по левую всё двери да двери, точно нумера, всё так в ряд простираются. Ну, вот и нанимают эти нумера, а в них по одной комнатке в каждом; живут в одной и по двое, и по трое.
Федор Достоевский, «Бедные люди»
Федор Достоевский, «Бедные люди»
август, 2031 год
Под проливным дождем жался к земле ртутно-зеленый трехэтажный дом, покрытый щербинами времени и представляющий собой малую часть улицы Марата. За коваными квадратами ворот, которые складывались в схематичные бутоны, лоснились тусклым светом люминесцентные лампы, освещающие узкую арку. Прячась от ливня, к стене арки прижимались вымотанная бытом женщина и ребенок лет шести, наряженный в мешковатую для его фигуры реконструкторскую униформу НКВД. Наивное детское лицо максимально не сочеталось с малиновым околышем и кровавым флером мундира, на груди которого ярким пятном горела георгиевская ленточка.
Мать и сын, перечеркнутые прутьями ворот, отражались в зачерненном окне темно-синего «порше». Легкой сплющенностью силуэта автомобиль походил на клопа, однако вытянутый обтекаемый корпус смягчал это впечатление. По стеклам бежали тяжелые капли, а в салоне машины, где под зеркалом заднего вида болтался брелок в виде карпа, на водительском месте сидел Матвей. Нагрудный карман черной рубашки был застегнут и слегка топорщился, а закатанные рукава открывали тощие руки, пряча при этом красноречивые сгибы локтей. Отрывисто покашливая, Матвей курил и поминутно глядел в сторону арки, пытаясь высмотреть знакомое лицо. Движения его были резкими и назойливо сопровождались мелкой, как дрожание мушиных крыльев, моторикой.
Не прошло и пяти минут, как в арке угрожающим силуэтом замаячил Миша, на плече у которого висел мешковатый рюкзак. Припустив стекло, Матвей помахал ему рукой и, зажав сигарету в зубах, юрко перелез на заднее сиденье. Миша деловито занял место за рулем, достал из рюкзака «стечкин» и положил себе на колени, а рюкзак кинул на место смертника. По лицу и черепу Миши черными спорами была разбросана легкая небритость.
- Когда это ты успел такой порш купить? Подержанный или новый? Много отдал за него? – начал сыпать он вопросами, поглаживая мозолистыми ладонями обтянутый кожей руль.
- Месяц назад, новый, восемь лямов, - кратко ответил Матвей на все вопросы сразу.
- Солидно, - закивал Миша, - сколько бензина ест?
- Он электрический, его заряжать надо.
Всем своим видом показывая, что к диалогу он сегодня закрыт, Матвей выбросил окурок в окно и развалился на мягком кожаном сиденье. Привыкший к его нелюдимым повадкам, Миша умолк и повел машину к Балтийскому вокзалу. Снаружи сменяли друг друга бледно-розовые купеческие дома, звенящие железом водостоков, и чугунные кружевные ограды, над которыми бугрилась темная круговерть туч, однако этот пейзаж в духе романтизма не будил в Матвее глубоких чувств. Взгляд его был рассредоточенным, а в голове билась мучающая мысль. Миша словно не замечал этого и крутил руль с видимым удовольствием.
- Ты можешь не рулить, тут есть автопилот.
- Мне так привычнее, - с ухмылкой произнес Миша и подмигнул Матвею через зеркало, - панамера на гроб и близко не похожа, да?
Вспомнив обстоятельства, связанные с этим мрачным сравнением, Матвей поморщился. У него совсем не было желания ездить на работу на своей машине, однако Мишин пуленепробиваемый «гелендваген» переживал капитальный ремонт, и Матвею пришлось поддаться на уговоры. Инцидент произошел несколько дней назад, когда Матвей торговал на Сенной площади. Случилось всё так, как обычно бывает в человеческой жизни - внезапно и неумолимо. Матвей не сразу понял, в чем дело, но увидел, как оконное стекло на уровне его головы расцвело сетью белых трещин с жирными сердцевинами, и рефлекторно пригнулся, прикрыв голову руками и вжавшись в сиденье, словно его натаскивали на этот рефлекс, как собаку Павлова. Одеревенев, он лежал и отупело вслушивался в одиночные выстрелы, высекающие звон из машины, которая была черной, угловатой и квадратной – в лучших традициях новых русских похорон. Громко стрелял над ухом Миша, кричали прохожие и надрывались свистки казачьих патрулей, сбежавшихся на пальбу, а перед глазами была лишь темнота.
Смерть подступала до жути монотонно и просто, и Матвей не сразу пришел в себя, когда всё закончилось. Выйдя наружу, Миша беседовал с подоспевшими казаками и полицейскими, указывая ручищей со «стечкиным» то на три трупа, лица которых были скрыты под масками, то на машину, где сидел побелевший Матвей. Стекла машины были густо покрыты кляксами трещин, и они заставили Матвея вспомнить о паучьих лилиях, которые он видел на китайском курорте.
Договорившись с полицейскими, которые решили отступить, и казаками, которые последовали их примеру и тоже ретировались, Миша вернулся в машину и с легким выдохом провел ладонью по вспотевшему лбу.
- Оформят этих дебилов как членов ОПГ, - улыбнулся он пустоте перед собой, - вмешивались в оперативную работу, пытались помешать сотрудникам при исполнении.
Матвей не нашелся, что ответить. У него мелькнула мысль, что бандиты постоянно сидят в гробах, на которые их любимые автомобили так похожи и которыми иногда являются, чтобы привыкнуть к будущей смерти. Ситуация сочилась не декадентским символизмом серебряного века, от которого хотя бы веяло возвышенностью, а чернушным символизмом железного, и пах он предельно материальными свинцом и кровью.
- Вы ведь поэтому на черных геликах помешаны? - вырвалось у Матвея. – Потому что они на гробы похожи?
Миша посмотрел на него очень выразительно, как на пациента психиатрической лечебницы. И, кажется, запомнил эту фразу, найдя её хорошим объектом для шуток.
На этот раз нахмурился Матвей. Его смутил легкий тон, которым были сказаны эти слова. «Порше» действительно не имел ничего общего с грубой домовиной, отсвечивающей черным лаком, однако думать эту мысль всё равно не хотелось. Вытащив из нагрудного кармана зиплок, наполненный белоснежным влажным кокаином, Матвей зачерпнул колпаком сигареты мелкие комки и шумно втянул их правой ноздрей, которую сразу же окатило анестетическим холодком, горечью парацетамола и едва уловимым душком ацетона. Кокаин слабо дал в голову, добавив мыслям ясности, а поступкам самоуверенности. Голова зазвенела свежей прохладой, и онемели передние зубы. Матвей расслабился. Думать о смерти стало не так страшно.
- А чего так рано-то работаем? – покосился на него Миша. – Одиннадцать утра.
- Мне надо до шести в клинику заскочить, - объяснил Матвей, длинно шмыгнув. Его голос стал глуше, и в нем проступила сдавленная ласка. С момента пробуждения он думал о результатах обследований, которые ему сегодня должны были разъяснить. Конечно, голова болела не так уж и часто, а загадочное недомогание наверняка было вызвано внушительной массой стимуляторов, которую он пропустил через себя за два прошедших года, однако оставаться в неведении не хотелось.
Когда они добрались до вокзала, дождь перестал. Над привокзальной площадью нависало стеклянно-серое небо, лающе грохотал гром, переместившийся в сторону Нового Петергофа, а Матвей отоваривал страждущих опиатчиков, неприкрыто шмыгая и сосредоточенно пересчитывая деньги. Бумажный пакет из «Старбакса» с расфасованным для продажи героином лежал у него в ногах, в тени переднего сиденья. Там же стоял небольшой рюкзак для купюр разного номинала.
Заслышав шуршание шин и мокрого асфальта, которое набирало силу, Матвей вытянул шею и краем глаза заметил «гелендваген» Гриши, который стремительно увеличивался в размерах, пока не затормозил на соседнем парковочном месте. Гриша почему-то был в выглаженной белой рубашке и строгих брюках, под которыми сверкали начищенные ботинки. Однако лицо у него было нервное и пунцовое. Выскочив из машины, он одним своим видом спугнул двух потребителей, возраст которых был неопределенным: им с одинаковым успехом могло быть и двадцать, и сорок. Они дернулись с места и отступили к рюмочной, где подперли стену сутулыми спинами, а Гриша дернул на себя дверь, сноровисто открытую Мишей, и с решительным видом подсел к Матвею. Даже не пытаясь соблюсти этикет, он сунул ему в ладонь зиплок с серовато-белым порошком.
- Отдашь сегодня Кате от моего имени. Здесь героин с карфентанилом, но она об этом знать не должна. Жди ее на Сенной, она живет как раз неподалеку, на Ахмада Кадырова, - выпалил он, положив руку Матвею на плечо. Матвей разглядел покрасневшие из-за лопнувших капилляров глаза, которые стеклянно блестели. Гриша был весь в поту, и его пот ощутимо пах кокаином.
«Сколько дней он уже марафонит?» – поймал себя Матвей на прозорливой мысли.
- А если она его не примет, а другому отдаст? – спросил он, осознавая подлость поручения, но не находя в себе прежней ажитации. Гриша был мастером своего дела и надолго её выбил. Матвею хотелось закрыть глаза и осознать себя красной бабочкой, порхающей в зеленой траве и не имеющей к наркоторговле никакого отношения, однако было ясно, что Гриша этот порыв не одобрит, посчитав его личным оскорблением, и опять надает по морде, и Матвею пришлось сдержаться.
- Катя-то отдаст? Ни за что в жизни. Она за дозняк что угодно сделает. Гарантирую, что она в ближайшем туалете отъедет.
Неожиданно изменившись в лице, Гриша злобно посмотрел на Матвея и подтянул его к себе, согнув руку в локте и сдавив егошею. Очертив рот резким оскалом, он издевательски постучал пальцем по лбу Матвея, как в прошлый раз:
- У тебя, Грязев, три попытки. Если она даже после трех раз не сдохнет, это будет очень подозрительно. Так что не хитри у меня за спиной.
- Я не собирался, - гнусаво сказал Матвей, не отводя настороженного взгляда. Ему не хотелось ругаться и усугублять ситуацию. Миша молча сидел за рулем, будто происходящее на заднем сиденье его не волновало.
- И если ты вдруг возьмешься её спасать, я тебе этот карфентанил в глотку затолкаю. Обычная смерть для героинового барыги, который и сам опиаты жрет.
- Но я не просто так их жру, у меня... – пустился в объяснения Матвей, однако Гриша не собирался его выслушивать.
- Твои занудные оправдания мне нахер не нужны, шваль мордовская, - свысока посмотрел он на Матвея, который при всем своем желании не мог выпрямиться, - постоянно кобенишься, сопли жуешь. Будешь делать что говорят, понял?
- Ты теперь постоянно будешь мне это припоминать? – жалобно спросил Матвей, не выдержав. Он косился на Мишу, но тот ничего не предпринимал, хотя отлично всё видел через зеркало, под которым висел пятнистый карп. Не вмешиваясь в дела начальства, Миша тактично делал вид, что не замечает бедственного положения Матвея.
- За тобой многовато косяков. Помнишь, как спалился, что фен бодяжил? Помнишь, как упирался и к Щипцову идти не хотел? - продолжал Гриша. Матвей искривился, словно его заставили съесть несвежую кутью, и плаксиво выдавил:
- Я героин продаю, я про Ломакина сразу рассказал…
- Не плошай, бляденыш, - перебил Гриша, унизительно потрепав его по щеке, - а то в бетон закатаю.
Матвей привык сносить Гришины оскорбления, которые в последнее время звучали в его адрес всё чаще и чаще. Гриша уже не улыбался так ослепительно, как раньше, а большую часть времени просто на всех злился, сдерживая гнев, если он был направлен на вышестоящих лиц, и не скромничая, если его жертвами становились подчиненные, которые в силу низости положения постоять за себя не могли. И Матвей, конечно же, боялся возражать Грише. Промолчал он и в этот раз, однако впился в Гришу немигающим взглядом – пристальным и злобным.
- Чего ты так на меня уставился? Убить меня хочешь? С тебя станется, у тебя же колпак свистит.
Подобравшись, Матвей приподнял голову, насколько это было возможно, и глухо, но отчетливо произнес:
- Если бы ты не был так нужен Асфару Юнусовичу, я бы это сделал. Не веришь?
- Значит, за Асфара Юнусовича беспокоишься… - прищурился Гриша и неожиданно сорвался на крик. – Подсиживаешь меня, скотина?!
Матвей неприкрыто улыбнулся. Бесспорно, он был слабее, имел меньше влияния и жизненного опыта, но в одном он Гришу превосходил – в протяженности скоростной системы. А вот Гриша, пристрастившийся к кокаину, был неопытным в отношении веществ девственником, который кинулся в употребление с восторгом дилетанта. Ему были неведомы нюансы, неизбежно сопровождающие систематический прием стимуляторов и до боли знакомые опытным наркоманам. В этом отношении иссушенный свежестью Матвей, несмотря на юный возраст, был несравнимо более сведущим.
- Существует момент, когда стимуляторы перестают радовать, - бледно усмехнулся он, - они уже не глушат нервное напряжение, а только усиливают его. Нюхаешь, чтобы просто не чувствовать себя говном, возникают необоснованные подозрения, параноидальные мысли… Поверь мне, Гриша, уж я-то знаю. И ты этот момент благополучно прошляпил. Теперь ты такой же наркушник, как я.
Говорил Матвей бегло и невольно выделял в речи шипящие звуки, что выдавало в нем кокаиниста, и, казалось бы, одно это обстоятельство могло скомпрометировать его слова, приравняв их к горячечному бреду, однако Гриша отпустил его и даже оттолкнул, как ядовитого пустынного гада. Матвей, после свежести воспринимающий кокаин вполсилы и потому сохраняющий относительную ясность мышления, попал в больное место.
- И я более чем уверен, что Асфар Юнусович не просил меня унижать, - Матвей с холодным отстранением патологоанатома смерил Гришу взглядом, - сейчас ты поступил так исключительно по своей инициативе, и он об этом не знает. Пока не знает. Если мы с тобой сработаемся, я не сообщу ему про сегодняшний казус. Все-таки ты теперь больной человек, и спрос с тебя невелик.
Гриша молча его слушал и тяжело дышал, по-бычьи раздувая ноздри, словно что-то зрело у него внутри, но пока было слишком слабым, чтобы вырваться. До него запоздало дошло, что сутуловатый нарколыжка, работающий на них уже год, приобрел за это время новые свойства, с которыми теперь придется свыкаться. За этим осознанием последовал напряженный миг тишины, обычно чреватый или примирением, или искренней, идущей от души поножовщиной.
- А ну, бля, успокоились! – по-командирски гаркнул Миша. – Оба!
От резкости его тона, который в свое время безотказно действовал на младших по званию, Матвей с Гришей дернулись на месте, стеклянно блеснув глазами, однако сразу расслабились, словно с них спал тяготящий удушливый морок. Гриша укоряюще посмотрел на Матвея:
- Пиздец ты гнида стал.
Намереваясь оставить последнее слово за собой, он выскочил из машины, нырнув массивным, но уже заметно подсушенным туловищем в озоновый воздух.
- Подумай над моим предложением, - злорадно бросил Матвей ему вслед.
- Да пошел ты в жопу! – выкрикнул Гриша, снова спугнув двух потребителей, которые медленно перемещались от рюмочной к машине Матвея. Запрыгнув за руль «гелендвагена», Гриша раскатисто хлопнул дверцей и съехал на дорогу, взвизгнув шинами и отпечатав на асфальте узкую двойную дугу.
Проводив взглядом его машину, превратившуюся в черную точку уличного трафика, Матвей облегченно выдохнул и осторожно закрыл дверь, потому что потребители, неопределенно мнущиеся возле рюмочной, стали нехорошо на него коситься.
- Без обид, но вы какие-то полудурки, - оглянулся на него Миша, - нюхаете всякую дрянь, а потом чуть ли не стволами машете. Оно вам надо?
Матвей неопределенно повел плечами и спрятал зиплок с карфентанилом в задний карман. Ему было кристально ясно, что если он перестанет подчиняться, его не только посадят на максимальное количество лет, положенное за сбыт, но и добьются того, что отбывать срок ему будет крайне тяжело. Ему вполне могло «не повезти» с сокамерниками, у которых даже нашелся бы благовидный предлог для ненависти – его нынешняя работа. Однако вариантов спасения из столь враждебных обстоятельств была уйма. Доведенный до кондиции Матвей мог отравиться уксусом, сожрать достаточное для возвращения билета количество барбитуры, которую заключенные приобретают из-под полы ради скудного отблеска кайфа, или даже сымитировать попытку побега - направиться к вышкам, проигнорировать предупредительные выстрелы и дождаться последнего, чтобы побег все-таки удался.
Матвей уже не раз мысленно переживал разные вариации этого мрачного сценария, который душил безысходностью даже в виде фантазма. И воплощать этот фантазм в жизнь крайне не хотелось. Это было малодушное решение, зато оно сулило относительный комфорт.
Над Сенной площадью смешивались в дисгармоничный гул резкие гудки автомобилей, неровные мелодии уличных музыкантов и шаркающие шаги прохожих. Под покровом торгового центра, который сухо поблескивал желтыми стеклами отделки, был припаркован синий «порше». Торопливо пересекая площадь, со стороны улицы Ахмада Кадырова к нему приближалась щуплая женщина с желтоватым лицом, исчерченным морщинами зрелости. Расстегнутый плащ невесомо развевался на ветру, а белые туфли тонули каблуками в лужах. За ней плелся на поводке кучерявый бело-рыжий щенок дворового вида, который мерно покачивал большими висящими ушами.
Простудно кашлянув, Катерина Ивановна поправила лацканы плаща и наклонилась к тонированному стеклу. В узкой щели окна выступили из полумрака чахоточное лицо Матвея и его правая кисть с татуированными пальцами. Без лишних слов приняв протянутый зиплок, Катерина Ивановна прищурилась, поднесла его к глазам и всмотрелась в слой серовато-белого порошка. Усмехнувшись, она перевела лукавый взгляд на Матвея:
- Раз белый и мелкий, то точно бодяжный.
- Да не, он хороший, - простодушно сказал Матвей, - почти чистый.
Катерина Ивановна, конечно же, ему не поверила. Но у Матвея не было цели убедительно соврать, скорее, наоборот: нужно было заставить её усомниться в чистоте героина и произвести впечатление дурачка. Будучи еще покупателем, Матвей усвоил, что если дилер особенно напирает на качество продукта, в действительности всё, как правило, диаметрально противоположно и крайне безрадостно. За двадцать лет стажа Катерина Ивановна не могла не сделать такого же вывода.
«Раз думает, что бодяжный, то больше примет. А чем больше она примет, тем лучше для меня…» - подумал Матвей.
- Герочка, Герочка… - понимающе улыбнулась Катерина Ивановна, убрав зиплок с карфентанилом в карман. – Мне сорок лет, и я столько барыг повидала, что теперь насквозь вас вижу. Но так и быть, я притворюсь, что поверила тебе, потому что ты милый мальчик.
Матвей натянуто улыбнулся в ответ. Беседу нужно было сворачивать. Кучерявый щенок затявкал на Матвея, смешно скаля маленькие зубки.
- А как собаку зовут? – спросил он, обрадовавшись подвернувшемуся предлогу.
- Полкан, - ответила Катерина Ивановна и, с достоинством развернувшись, направилась обратно к улице Ахмада Кадырова. Когда она исчезла в сутолоке студеных подворотен, Матвей позволил себе облегченно выдохнуть и повалился на сиденье, запрокинув голову с прикрытыми глазами.
Миша никак не прокомментировал случившееся – деликатное молчание тоже было частью его работы. Ничего не говоря, он сканировал пристальным взглядом каждого подходящего к машине наркомана, а потом с таким же сосредоточенным видом повез Матвея к Апраксину двору, где располагалась третья точка. Строго говоря, находилась она не на самом рынке, а чуть поодаль, на улице Ломоносова - вдали от толчеи нелегалов из среднеазиатских республик, наркодилеров средней паршивости и желающих сэкономить бюджетников.
Обычно Матвей парковался на правой стороне улицы, в тени дореволюционного четырехэтажного дома, который был покрыт неумелыми граффити всех цветов радуги, словно лицо прокаженного бляшками лепры. За аркой начинались тесные норы зловонных сквозных дворов, через которые обычно и приходили потенциальные клиенты Матвея, предпочитающие пробираться задами. Контингент был специфический и не такой интеллигентный, как у Балтийского вокзала: молодежь, живущая в дешевом местном хостеле, который размещался как раз в одном из дворов, люди азиатской наружности, по мешковатой одежде которых можно было определить их социальное положение и предсказать будущее на несколько лет вперед, и побитые употреблением путаны. Путаны базировались в крайне сомнительной гостинице, находящейся в следующем от хостела дворе: номера первых двух этажей сдавались почасово, а комнаты третьего этажа, переделанные в крохотные подобия студий, можно было арендовать на длительный срок. Из окон и балконов гостиницы открывался колоритный вид на хаотичный ряд рыночных лотков, с утра до вечера окутанный гомоном тюркской речи.
Матвей настолько привык к финансовой и духовной нищете местных героинщиков, что не ожидал встретить здесь кого-то настолько неуместного. Спустя полчаса рутинной работы он вдруг заметил, что по лужам, переливающимся бензиновыми разводами, несколько по-армейски шагает женщина, лицо которой показалось ему смутно знакомым. Матвей даже вспомнил её вероятное имя, однако сразу отмел эту идею, потому что она казалась слишком фантастичной. Женщина куталась в темно-синий палантин, по которому прыгала жидкая коса, машинально кусала обветренные губы, а выцветшее лицо принадлежало пятидесятилетнему человеку.
Когда она миновала низкую арку и подошла к машине Матвея, туда, куда обычно подходили жаждущие героинщики, он с удивлением отстранился в темную глубь салона, хотя узкая щель приспущенного окна не позволяла его рассмотреть. Ему пришлось признать, что по ту сторону стоит Вероника Николаевна, учительница музыки, в кружке которой он занимался, когда учился в школе. За эти два года она очень постарела, словно ускоренно прожила десяток лет. Одной рукой она прижимала к груди прозрачный пакет, в котором виднелись девяток яиц в каретке и восьмисотграммовая пачка риса, которую общественность иронично называла «громовским килограммом».
- Два, - скупо сказала она, протянув восемь тысяч рублей. Тон её речи был обыденным, и она, кажется, была в курсе текущих расценок. Матвей нашел странным и первое, и второе, и сам факт её присутствия здесь. Не приближаясь к окну, он протянул ей зиплок с двумя сероватыми граммами. Наружу высунулись только пальцы, на которых чернела эзотерическая символика, и жест вышел небрежным, даже брезгливым. Не удивившись и этому, словно Матвей был не первым высокомерным наркоторговцем на её жизненном пути, Вероника Николаевна спрятала зиплок, запустив руку куда-то под палантин, и ушла тем же путем, через сквозные дворы.
«Очень странно… - только и подумал Матвей, не решаясь выйти из машины и побежать за ней. – Что она тут делает? И зачем ей гера?»
День выдался плохой, и в бумажном пакете осталось почти семьдесят граммов героина, которые сбыть не удалось. С легкой досадой Матвей кинул пакет в бардачок. Наверняка он мог бы весь вечер думать о загадочном поведении Вероники Николаевны, но встречу перекрыло неприятное известие, которое Матвею сообщили в клинике. Приняв деликатный тон, словно ему предстояла беседа с умирающим, благообразного вида невролог изложил сначала хорошую новость - никаких мозговых опухолей у Матвея нет, а уже потом плохую - причин для его головных болей тоже нет. Осторожно предположив, что причиной может быть образ жизни Матвея, но из вежливости не вдавшись в подробности, невролог выписал рецепт на колдемикст, который можно было купить в аптеке, примыкающей к клинике. Колдемикстом предполагалось глушить приступы.
- Не больше двух таблеток в сутки, - скорбным тоном сообщил невролог, пока Матвей растерянно разглядывал розовый бланк с резкой шифрограммой почерка и жирной печатью, - конечно, лучше бы вам совсем отказаться от вредных привычек, но если будет тяжело, хотя бы минимизируйте частоту.
Купив в аптеке клиники кодеинсодержащий препарат, угрожающий стать постоянным спутником жизни, Матвей вышел в пасмурный вечер, который лишь подчеркивал ледянистую белизну остекленной клиники, и бессвязно выругался себе под нос. Прислонившись к своей машине, он закурил и попытался не думать о головных болях, унаследованных от матери и проявившихся так рано из-за его безалаберности и огромного количества стимуляторов. Узкая улица блистала багровыми звездочками неоновых вывесок. Матвей поймал себя на мрачной мысли. Он слышал, что новичков первое время от героина только тошнит, а кайф приходит много позже – вместе с физической зависимостью. Его опыт курения был похожим: первая сигарета вызвала сильный кашель и не подарила ничего приятного. Удовольствие проступило потом, в виде удовлетворения от того, что наконец удалось покурить и на время снизить уровень тяги.
Вяло кинув окурок на тротуар, Матвей выпрямился, намереваясь поехать домой, однако стоило ему вскинуть глаза, как он заметил идущую в его сторону Веронику Николаевну. Выглядела она такой же сосредоточенной, как днем, и то ли не заметила Матвея, то ли просто не смогла его узнать. Этому Матвей уже не удивился – слишком он изменился, пока жил в Петербурге.
Он окликнул Веронику Николаевну, и она сначала рефлекторно обернулась на голос, а потом узнала в нем серьезного насупленного мальчика, когда-то игравшего на перламутрово-синем баяне. Удивленно воскликнув, Вероника Николаевна подбежала, принялась заботливо трепать Матвея по плечам и задавать обычные для подобных встреч вопросы. Осторожно ответив на них, Матвей наконец подошел к сути и задал встречный вопрос, который порождал в нем любопытство:
- Вероника Николаевна, а зачем вы на Апрашку ходите?
Широко раскрыв васильковые глаза, она сцепила пальцы в нервный замок и поежилась. Кажется, ни с чем хорошим Апраксин двор у нее не ассоциировался, и Матвей прекрасно её понимал. Покраснев, Вероника Николаевна натянуто улыбнулась.
- Апрашку? – переспросила она с деланным спокойствием.
- Апраксин двор. Я сегодня видел вас там. Вы же понимаете, о чем я? Ну, насчет… - до Матвея дошло, что она, наверное, боится говорить о своих неприятностях прямым текстом, и он начал перебирать в голове эвфемизмы.
- …Герасима? – завершил он с полувопросительной интонацией.
- Не хожу я на Апрашку, - буркнула Вероника Николаевна. Матвей молча продемонстрировал ей правую руку с татуированными пальцами, которую она уже видела днем. При виде эзотерических знаков Вероника Николаевна застыла, и ее чугунный взгляд медленно переполз с Матвея на синий «порше», а потом преодолел обратный маршрут, вернувшись к пальцам руки.
- Так это твоя машина, - вздохнула Вероника Николаевна. Тон был странным, однако совсем не осуждающим.
Порадовавшись хоть какой-то ясности, Матвей выяснил, что она снимает комнату возле станции метро «Нечаевская», которая замыкала синюю ветку, следуя после Купчино, и предложил подвезти ее домой. Отказываться Вероника Николаевна не стала, потому что расстояние было приличное. Матвей начал прокладывать маршрут, водя пальцем по сенсорному экрану, а Вероника Николаевна села справа, застегнув ремень безопасности. На выросшего Матвея и атрибуты его взрослой жизни она смотрела с некоторым изумлением.
- Почему вы переехали в Питер? – спросил Матвей, когда ландшафт за окнами сдвинулся с места, и автопилот направил машину к «Нечаевской». – И для чего вам героин?
Вероника Николаевна криво улыбнулась. Ее муж Сергей, которого она ласково называла Сереженькой, который в свое время пытался жениться на матери Матвея, но оказался в её глазах хуже Германа Кириченко, полгода назад перешел с третьей стадии рака легких на четвертую. Возникла острая необходимость в морфине, который совсем не выписывали в Офтони и отказались выписывать в Саранске, поэтому Вероника Николаевна с сестрой Лидой и мужем продали участок с домом, и переехали в Петербург. В Петербурге существовали государственные паллиативные центры, где онкобольные могли получать морфин, но пока Вероника Николаевна собирала все необходимые справки, законодательство успело поменяться, и под новые условия получения морфина дядя Сережа уже не попал. По новым правилам ему был положен только трамадол, который уже давно не оказывал должного эффекта.
Однако выход из ситуации нашелся, хоть и нетривиальный. Принеся в паллиативный центр все нужные по новым правилам справки, Вероника Николаевна получила официальное разрешение раз в сутки забирать трамадол от имени мужа. Полученный трамадол она продавала с рук, в несколько раз завышая аптечную цену, а на вырученные деньги покупала грязный уличный героин, который, конечно, морфином не был, но оставался единственным подходящим вариантом. Ставиться дяде Сереже нужно было каждый день, так что на героин отложили еще и львиную долю денег, оставшихся после продажи участка в Офтони и аренды комнаты в петербургском социальном жилье.
- Но ведь положено морфин выписывать, – вскинул брови Матвей, – ему же больно!
- На бумаге-то положено, а в жизни хер положено, - мрачно сказала Вероника Николаевна.
- Вас же за сбыт могут взять! – звенящим голосом воскликнул Матвей, осознав ситуацию до конца. Он будто открыл заслонку концлагерной печи, и оттуда смрадно пахнуло серой, щупальцами комковатой тьмы повалило инферно, близость которого оказалась слишком трансцендентной, чтобы её можно было воспринимать дольше доли секунды – даже волевым усилием ума.
- Могут, - пожала плечами Вероника Николаевна, - а что поделать?
Матвей удивленно посмотрел на нее:
- И где вы трамадол продаете?
- На Апрашку ношу, - сказала она, поправив сползший с плеча палантин. Под ним оказались простая футболка и жилетка с четырьмя кармашками.
- На Апрашку! – воскликнул Матвей, чуть не схватившись за голову. – Вы еще и сами ходите! Вам очень повезло, что вас до сих пор не приняли...
Вероника Николаевна молчала, кажется, она не ожидала такой бурной реакции. Матвей задумался, нахмурив лоб, и ему быстро пришла в голову нужная мысль.
- Если вас вдруг арестуют, скажите, что знаете Герыча. Герыч – это я. Лучше сделайте это сразу, пока на вас не оформили бумаги, а то потом будет тяжелее вас отмазать. Может, они тоже будут в чем-то виноваты, и мне это будет только на руку. Если с их стороны есть косяки, обычно проще договориться. Но это касается только казаков и ментов, с теми, кто выше, я уже ничего не смогу сделать. Тут, скорее, будет наоборот.
Вероника Николаевна смерила Матвея изумленным взглядом, и разрозненные фрагменты его биографии наконец сложились для нее в понятный пазл.
- Не буду спрашивать, как ты стал драгдилером и почему так быстро поднялся, - заговорила она с нотками интеллигентного такта, доставая из кармашка телефон, - но за помощь огромное спасибо. Какой у тебя номер?
Когда она записала номер, Матвей решил сменить тему, которая была неловкой для них обоих, и спросил:
- Но как-то же они обосновывают трамадол?
- Тем, что боль недостаточно сильная, и морфин для нее не требуется. Он вызывает привыкание и может испортить дальнейшую жизнь. То есть, следующие полгода, мы ведь про Сереженьку говорим.
Под проливным дождем жался к земле ртутно-зеленый трехэтажный дом, покрытый щербинами времени и представляющий собой малую часть улицы Марата. За коваными квадратами ворот, которые складывались в схематичные бутоны, лоснились тусклым светом люминесцентные лампы, освещающие узкую арку. Прячась от ливня, к стене арки прижимались вымотанная бытом женщина и ребенок лет шести, наряженный в мешковатую для его фигуры реконструкторскую униформу НКВД. Наивное детское лицо максимально не сочеталось с малиновым околышем и кровавым флером мундира, на груди которого ярким пятном горела георгиевская ленточка.
Мать и сын, перечеркнутые прутьями ворот, отражались в зачерненном окне темно-синего «порше». Легкой сплющенностью силуэта автомобиль походил на клопа, однако вытянутый обтекаемый корпус смягчал это впечатление. По стеклам бежали тяжелые капли, а в салоне машины, где под зеркалом заднего вида болтался брелок в виде карпа, на водительском месте сидел Матвей. Нагрудный карман черной рубашки был застегнут и слегка топорщился, а закатанные рукава открывали тощие руки, пряча при этом красноречивые сгибы локтей. Отрывисто покашливая, Матвей курил и поминутно глядел в сторону арки, пытаясь высмотреть знакомое лицо. Движения его были резкими и назойливо сопровождались мелкой, как дрожание мушиных крыльев, моторикой.
Не прошло и пяти минут, как в арке угрожающим силуэтом замаячил Миша, на плече у которого висел мешковатый рюкзак. Припустив стекло, Матвей помахал ему рукой и, зажав сигарету в зубах, юрко перелез на заднее сиденье. Миша деловито занял место за рулем, достал из рюкзака «стечкин» и положил себе на колени, а рюкзак кинул на место смертника. По лицу и черепу Миши черными спорами была разбросана легкая небритость.
- Когда это ты успел такой порш купить? Подержанный или новый? Много отдал за него? – начал сыпать он вопросами, поглаживая мозолистыми ладонями обтянутый кожей руль.
- Месяц назад, новый, восемь лямов, - кратко ответил Матвей на все вопросы сразу.
- Солидно, - закивал Миша, - сколько бензина ест?
- Он электрический, его заряжать надо.
Всем своим видом показывая, что к диалогу он сегодня закрыт, Матвей выбросил окурок в окно и развалился на мягком кожаном сиденье. Привыкший к его нелюдимым повадкам, Миша умолк и повел машину к Балтийскому вокзалу. Снаружи сменяли друг друга бледно-розовые купеческие дома, звенящие железом водостоков, и чугунные кружевные ограды, над которыми бугрилась темная круговерть туч, однако этот пейзаж в духе романтизма не будил в Матвее глубоких чувств. Взгляд его был рассредоточенным, а в голове билась мучающая мысль. Миша словно не замечал этого и крутил руль с видимым удовольствием.
- Ты можешь не рулить, тут есть автопилот.
- Мне так привычнее, - с ухмылкой произнес Миша и подмигнул Матвею через зеркало, - панамера на гроб и близко не похожа, да?
Вспомнив обстоятельства, связанные с этим мрачным сравнением, Матвей поморщился. У него совсем не было желания ездить на работу на своей машине, однако Мишин пуленепробиваемый «гелендваген» переживал капитальный ремонт, и Матвею пришлось поддаться на уговоры. Инцидент произошел несколько дней назад, когда Матвей торговал на Сенной площади. Случилось всё так, как обычно бывает в человеческой жизни - внезапно и неумолимо. Матвей не сразу понял, в чем дело, но увидел, как оконное стекло на уровне его головы расцвело сетью белых трещин с жирными сердцевинами, и рефлекторно пригнулся, прикрыв голову руками и вжавшись в сиденье, словно его натаскивали на этот рефлекс, как собаку Павлова. Одеревенев, он лежал и отупело вслушивался в одиночные выстрелы, высекающие звон из машины, которая была черной, угловатой и квадратной – в лучших традициях новых русских похорон. Громко стрелял над ухом Миша, кричали прохожие и надрывались свистки казачьих патрулей, сбежавшихся на пальбу, а перед глазами была лишь темнота.
Смерть подступала до жути монотонно и просто, и Матвей не сразу пришел в себя, когда всё закончилось. Выйдя наружу, Миша беседовал с подоспевшими казаками и полицейскими, указывая ручищей со «стечкиным» то на три трупа, лица которых были скрыты под масками, то на машину, где сидел побелевший Матвей. Стекла машины были густо покрыты кляксами трещин, и они заставили Матвея вспомнить о паучьих лилиях, которые он видел на китайском курорте.
Договорившись с полицейскими, которые решили отступить, и казаками, которые последовали их примеру и тоже ретировались, Миша вернулся в машину и с легким выдохом провел ладонью по вспотевшему лбу.
- Оформят этих дебилов как членов ОПГ, - улыбнулся он пустоте перед собой, - вмешивались в оперативную работу, пытались помешать сотрудникам при исполнении.
Матвей не нашелся, что ответить. У него мелькнула мысль, что бандиты постоянно сидят в гробах, на которые их любимые автомобили так похожи и которыми иногда являются, чтобы привыкнуть к будущей смерти. Ситуация сочилась не декадентским символизмом серебряного века, от которого хотя бы веяло возвышенностью, а чернушным символизмом железного, и пах он предельно материальными свинцом и кровью.
- Вы ведь поэтому на черных геликах помешаны? - вырвалось у Матвея. – Потому что они на гробы похожи?
Миша посмотрел на него очень выразительно, как на пациента психиатрической лечебницы. И, кажется, запомнил эту фразу, найдя её хорошим объектом для шуток.
На этот раз нахмурился Матвей. Его смутил легкий тон, которым были сказаны эти слова. «Порше» действительно не имел ничего общего с грубой домовиной, отсвечивающей черным лаком, однако думать эту мысль всё равно не хотелось. Вытащив из нагрудного кармана зиплок, наполненный белоснежным влажным кокаином, Матвей зачерпнул колпаком сигареты мелкие комки и шумно втянул их правой ноздрей, которую сразу же окатило анестетическим холодком, горечью парацетамола и едва уловимым душком ацетона. Кокаин слабо дал в голову, добавив мыслям ясности, а поступкам самоуверенности. Голова зазвенела свежей прохладой, и онемели передние зубы. Матвей расслабился. Думать о смерти стало не так страшно.
- А чего так рано-то работаем? – покосился на него Миша. – Одиннадцать утра.
- Мне надо до шести в клинику заскочить, - объяснил Матвей, длинно шмыгнув. Его голос стал глуше, и в нем проступила сдавленная ласка. С момента пробуждения он думал о результатах обследований, которые ему сегодня должны были разъяснить. Конечно, голова болела не так уж и часто, а загадочное недомогание наверняка было вызвано внушительной массой стимуляторов, которую он пропустил через себя за два прошедших года, однако оставаться в неведении не хотелось.
Когда они добрались до вокзала, дождь перестал. Над привокзальной площадью нависало стеклянно-серое небо, лающе грохотал гром, переместившийся в сторону Нового Петергофа, а Матвей отоваривал страждущих опиатчиков, неприкрыто шмыгая и сосредоточенно пересчитывая деньги. Бумажный пакет из «Старбакса» с расфасованным для продажи героином лежал у него в ногах, в тени переднего сиденья. Там же стоял небольшой рюкзак для купюр разного номинала.
Заслышав шуршание шин и мокрого асфальта, которое набирало силу, Матвей вытянул шею и краем глаза заметил «гелендваген» Гриши, который стремительно увеличивался в размерах, пока не затормозил на соседнем парковочном месте. Гриша почему-то был в выглаженной белой рубашке и строгих брюках, под которыми сверкали начищенные ботинки. Однако лицо у него было нервное и пунцовое. Выскочив из машины, он одним своим видом спугнул двух потребителей, возраст которых был неопределенным: им с одинаковым успехом могло быть и двадцать, и сорок. Они дернулись с места и отступили к рюмочной, где подперли стену сутулыми спинами, а Гриша дернул на себя дверь, сноровисто открытую Мишей, и с решительным видом подсел к Матвею. Даже не пытаясь соблюсти этикет, он сунул ему в ладонь зиплок с серовато-белым порошком.
- Отдашь сегодня Кате от моего имени. Здесь героин с карфентанилом, но она об этом знать не должна. Жди ее на Сенной, она живет как раз неподалеку, на Ахмада Кадырова, - выпалил он, положив руку Матвею на плечо. Матвей разглядел покрасневшие из-за лопнувших капилляров глаза, которые стеклянно блестели. Гриша был весь в поту, и его пот ощутимо пах кокаином.
«Сколько дней он уже марафонит?» – поймал себя Матвей на прозорливой мысли.
- А если она его не примет, а другому отдаст? – спросил он, осознавая подлость поручения, но не находя в себе прежней ажитации. Гриша был мастером своего дела и надолго её выбил. Матвею хотелось закрыть глаза и осознать себя красной бабочкой, порхающей в зеленой траве и не имеющей к наркоторговле никакого отношения, однако было ясно, что Гриша этот порыв не одобрит, посчитав его личным оскорблением, и опять надает по морде, и Матвею пришлось сдержаться.
- Катя-то отдаст? Ни за что в жизни. Она за дозняк что угодно сделает. Гарантирую, что она в ближайшем туалете отъедет.
Неожиданно изменившись в лице, Гриша злобно посмотрел на Матвея и подтянул его к себе, согнув руку в локте и сдавив егошею. Очертив рот резким оскалом, он издевательски постучал пальцем по лбу Матвея, как в прошлый раз:
- У тебя, Грязев, три попытки. Если она даже после трех раз не сдохнет, это будет очень подозрительно. Так что не хитри у меня за спиной.
- Я не собирался, - гнусаво сказал Матвей, не отводя настороженного взгляда. Ему не хотелось ругаться и усугублять ситуацию. Миша молча сидел за рулем, будто происходящее на заднем сиденье его не волновало.
- И если ты вдруг возьмешься её спасать, я тебе этот карфентанил в глотку затолкаю. Обычная смерть для героинового барыги, который и сам опиаты жрет.
- Но я не просто так их жру, у меня... – пустился в объяснения Матвей, однако Гриша не собирался его выслушивать.
- Твои занудные оправдания мне нахер не нужны, шваль мордовская, - свысока посмотрел он на Матвея, который при всем своем желании не мог выпрямиться, - постоянно кобенишься, сопли жуешь. Будешь делать что говорят, понял?
- Ты теперь постоянно будешь мне это припоминать? – жалобно спросил Матвей, не выдержав. Он косился на Мишу, но тот ничего не предпринимал, хотя отлично всё видел через зеркало, под которым висел пятнистый карп. Не вмешиваясь в дела начальства, Миша тактично делал вид, что не замечает бедственного положения Матвея.
- За тобой многовато косяков. Помнишь, как спалился, что фен бодяжил? Помнишь, как упирался и к Щипцову идти не хотел? - продолжал Гриша. Матвей искривился, словно его заставили съесть несвежую кутью, и плаксиво выдавил:
- Я героин продаю, я про Ломакина сразу рассказал…
- Не плошай, бляденыш, - перебил Гриша, унизительно потрепав его по щеке, - а то в бетон закатаю.
Матвей привык сносить Гришины оскорбления, которые в последнее время звучали в его адрес всё чаще и чаще. Гриша уже не улыбался так ослепительно, как раньше, а большую часть времени просто на всех злился, сдерживая гнев, если он был направлен на вышестоящих лиц, и не скромничая, если его жертвами становились подчиненные, которые в силу низости положения постоять за себя не могли. И Матвей, конечно же, боялся возражать Грише. Промолчал он и в этот раз, однако впился в Гришу немигающим взглядом – пристальным и злобным.
- Чего ты так на меня уставился? Убить меня хочешь? С тебя станется, у тебя же колпак свистит.
Подобравшись, Матвей приподнял голову, насколько это было возможно, и глухо, но отчетливо произнес:
- Если бы ты не был так нужен Асфару Юнусовичу, я бы это сделал. Не веришь?
- Значит, за Асфара Юнусовича беспокоишься… - прищурился Гриша и неожиданно сорвался на крик. – Подсиживаешь меня, скотина?!
Матвей неприкрыто улыбнулся. Бесспорно, он был слабее, имел меньше влияния и жизненного опыта, но в одном он Гришу превосходил – в протяженности скоростной системы. А вот Гриша, пристрастившийся к кокаину, был неопытным в отношении веществ девственником, который кинулся в употребление с восторгом дилетанта. Ему были неведомы нюансы, неизбежно сопровождающие систематический прием стимуляторов и до боли знакомые опытным наркоманам. В этом отношении иссушенный свежестью Матвей, несмотря на юный возраст, был несравнимо более сведущим.
- Существует момент, когда стимуляторы перестают радовать, - бледно усмехнулся он, - они уже не глушат нервное напряжение, а только усиливают его. Нюхаешь, чтобы просто не чувствовать себя говном, возникают необоснованные подозрения, параноидальные мысли… Поверь мне, Гриша, уж я-то знаю. И ты этот момент благополучно прошляпил. Теперь ты такой же наркушник, как я.
Говорил Матвей бегло и невольно выделял в речи шипящие звуки, что выдавало в нем кокаиниста, и, казалось бы, одно это обстоятельство могло скомпрометировать его слова, приравняв их к горячечному бреду, однако Гриша отпустил его и даже оттолкнул, как ядовитого пустынного гада. Матвей, после свежести воспринимающий кокаин вполсилы и потому сохраняющий относительную ясность мышления, попал в больное место.
- И я более чем уверен, что Асфар Юнусович не просил меня унижать, - Матвей с холодным отстранением патологоанатома смерил Гришу взглядом, - сейчас ты поступил так исключительно по своей инициативе, и он об этом не знает. Пока не знает. Если мы с тобой сработаемся, я не сообщу ему про сегодняшний казус. Все-таки ты теперь больной человек, и спрос с тебя невелик.
Гриша молча его слушал и тяжело дышал, по-бычьи раздувая ноздри, словно что-то зрело у него внутри, но пока было слишком слабым, чтобы вырваться. До него запоздало дошло, что сутуловатый нарколыжка, работающий на них уже год, приобрел за это время новые свойства, с которыми теперь придется свыкаться. За этим осознанием последовал напряженный миг тишины, обычно чреватый или примирением, или искренней, идущей от души поножовщиной.
- А ну, бля, успокоились! – по-командирски гаркнул Миша. – Оба!
От резкости его тона, который в свое время безотказно действовал на младших по званию, Матвей с Гришей дернулись на месте, стеклянно блеснув глазами, однако сразу расслабились, словно с них спал тяготящий удушливый морок. Гриша укоряюще посмотрел на Матвея:
- Пиздец ты гнида стал.
Намереваясь оставить последнее слово за собой, он выскочил из машины, нырнув массивным, но уже заметно подсушенным туловищем в озоновый воздух.
- Подумай над моим предложением, - злорадно бросил Матвей ему вслед.
- Да пошел ты в жопу! – выкрикнул Гриша, снова спугнув двух потребителей, которые медленно перемещались от рюмочной к машине Матвея. Запрыгнув за руль «гелендвагена», Гриша раскатисто хлопнул дверцей и съехал на дорогу, взвизгнув шинами и отпечатав на асфальте узкую двойную дугу.
Проводив взглядом его машину, превратившуюся в черную точку уличного трафика, Матвей облегченно выдохнул и осторожно закрыл дверь, потому что потребители, неопределенно мнущиеся возле рюмочной, стали нехорошо на него коситься.
- Без обид, но вы какие-то полудурки, - оглянулся на него Миша, - нюхаете всякую дрянь, а потом чуть ли не стволами машете. Оно вам надо?
Матвей неопределенно повел плечами и спрятал зиплок с карфентанилом в задний карман. Ему было кристально ясно, что если он перестанет подчиняться, его не только посадят на максимальное количество лет, положенное за сбыт, но и добьются того, что отбывать срок ему будет крайне тяжело. Ему вполне могло «не повезти» с сокамерниками, у которых даже нашелся бы благовидный предлог для ненависти – его нынешняя работа. Однако вариантов спасения из столь враждебных обстоятельств была уйма. Доведенный до кондиции Матвей мог отравиться уксусом, сожрать достаточное для возвращения билета количество барбитуры, которую заключенные приобретают из-под полы ради скудного отблеска кайфа, или даже сымитировать попытку побега - направиться к вышкам, проигнорировать предупредительные выстрелы и дождаться последнего, чтобы побег все-таки удался.
Матвей уже не раз мысленно переживал разные вариации этого мрачного сценария, который душил безысходностью даже в виде фантазма. И воплощать этот фантазм в жизнь крайне не хотелось. Это было малодушное решение, зато оно сулило относительный комфорт.
Над Сенной площадью смешивались в дисгармоничный гул резкие гудки автомобилей, неровные мелодии уличных музыкантов и шаркающие шаги прохожих. Под покровом торгового центра, который сухо поблескивал желтыми стеклами отделки, был припаркован синий «порше». Торопливо пересекая площадь, со стороны улицы Ахмада Кадырова к нему приближалась щуплая женщина с желтоватым лицом, исчерченным морщинами зрелости. Расстегнутый плащ невесомо развевался на ветру, а белые туфли тонули каблуками в лужах. За ней плелся на поводке кучерявый бело-рыжий щенок дворового вида, который мерно покачивал большими висящими ушами.
Простудно кашлянув, Катерина Ивановна поправила лацканы плаща и наклонилась к тонированному стеклу. В узкой щели окна выступили из полумрака чахоточное лицо Матвея и его правая кисть с татуированными пальцами. Без лишних слов приняв протянутый зиплок, Катерина Ивановна прищурилась, поднесла его к глазам и всмотрелась в слой серовато-белого порошка. Усмехнувшись, она перевела лукавый взгляд на Матвея:
- Раз белый и мелкий, то точно бодяжный.
- Да не, он хороший, - простодушно сказал Матвей, - почти чистый.
Катерина Ивановна, конечно же, ему не поверила. Но у Матвея не было цели убедительно соврать, скорее, наоборот: нужно было заставить её усомниться в чистоте героина и произвести впечатление дурачка. Будучи еще покупателем, Матвей усвоил, что если дилер особенно напирает на качество продукта, в действительности всё, как правило, диаметрально противоположно и крайне безрадостно. За двадцать лет стажа Катерина Ивановна не могла не сделать такого же вывода.
«Раз думает, что бодяжный, то больше примет. А чем больше она примет, тем лучше для меня…» - подумал Матвей.
- Герочка, Герочка… - понимающе улыбнулась Катерина Ивановна, убрав зиплок с карфентанилом в карман. – Мне сорок лет, и я столько барыг повидала, что теперь насквозь вас вижу. Но так и быть, я притворюсь, что поверила тебе, потому что ты милый мальчик.
Матвей натянуто улыбнулся в ответ. Беседу нужно было сворачивать. Кучерявый щенок затявкал на Матвея, смешно скаля маленькие зубки.
- А как собаку зовут? – спросил он, обрадовавшись подвернувшемуся предлогу.
- Полкан, - ответила Катерина Ивановна и, с достоинством развернувшись, направилась обратно к улице Ахмада Кадырова. Когда она исчезла в сутолоке студеных подворотен, Матвей позволил себе облегченно выдохнуть и повалился на сиденье, запрокинув голову с прикрытыми глазами.
Миша никак не прокомментировал случившееся – деликатное молчание тоже было частью его работы. Ничего не говоря, он сканировал пристальным взглядом каждого подходящего к машине наркомана, а потом с таким же сосредоточенным видом повез Матвея к Апраксину двору, где располагалась третья точка. Строго говоря, находилась она не на самом рынке, а чуть поодаль, на улице Ломоносова - вдали от толчеи нелегалов из среднеазиатских республик, наркодилеров средней паршивости и желающих сэкономить бюджетников.
Обычно Матвей парковался на правой стороне улицы, в тени дореволюционного четырехэтажного дома, который был покрыт неумелыми граффити всех цветов радуги, словно лицо прокаженного бляшками лепры. За аркой начинались тесные норы зловонных сквозных дворов, через которые обычно и приходили потенциальные клиенты Матвея, предпочитающие пробираться задами. Контингент был специфический и не такой интеллигентный, как у Балтийского вокзала: молодежь, живущая в дешевом местном хостеле, который размещался как раз в одном из дворов, люди азиатской наружности, по мешковатой одежде которых можно было определить их социальное положение и предсказать будущее на несколько лет вперед, и побитые употреблением путаны. Путаны базировались в крайне сомнительной гостинице, находящейся в следующем от хостела дворе: номера первых двух этажей сдавались почасово, а комнаты третьего этажа, переделанные в крохотные подобия студий, можно было арендовать на длительный срок. Из окон и балконов гостиницы открывался колоритный вид на хаотичный ряд рыночных лотков, с утра до вечера окутанный гомоном тюркской речи.
Матвей настолько привык к финансовой и духовной нищете местных героинщиков, что не ожидал встретить здесь кого-то настолько неуместного. Спустя полчаса рутинной работы он вдруг заметил, что по лужам, переливающимся бензиновыми разводами, несколько по-армейски шагает женщина, лицо которой показалось ему смутно знакомым. Матвей даже вспомнил её вероятное имя, однако сразу отмел эту идею, потому что она казалась слишком фантастичной. Женщина куталась в темно-синий палантин, по которому прыгала жидкая коса, машинально кусала обветренные губы, а выцветшее лицо принадлежало пятидесятилетнему человеку.
Когда она миновала низкую арку и подошла к машине Матвея, туда, куда обычно подходили жаждущие героинщики, он с удивлением отстранился в темную глубь салона, хотя узкая щель приспущенного окна не позволяла его рассмотреть. Ему пришлось признать, что по ту сторону стоит Вероника Николаевна, учительница музыки, в кружке которой он занимался, когда учился в школе. За эти два года она очень постарела, словно ускоренно прожила десяток лет. Одной рукой она прижимала к груди прозрачный пакет, в котором виднелись девяток яиц в каретке и восьмисотграммовая пачка риса, которую общественность иронично называла «громовским килограммом».
- Два, - скупо сказала она, протянув восемь тысяч рублей. Тон её речи был обыденным, и она, кажется, была в курсе текущих расценок. Матвей нашел странным и первое, и второе, и сам факт её присутствия здесь. Не приближаясь к окну, он протянул ей зиплок с двумя сероватыми граммами. Наружу высунулись только пальцы, на которых чернела эзотерическая символика, и жест вышел небрежным, даже брезгливым. Не удивившись и этому, словно Матвей был не первым высокомерным наркоторговцем на её жизненном пути, Вероника Николаевна спрятала зиплок, запустив руку куда-то под палантин, и ушла тем же путем, через сквозные дворы.
«Очень странно… - только и подумал Матвей, не решаясь выйти из машины и побежать за ней. – Что она тут делает? И зачем ей гера?»
День выдался плохой, и в бумажном пакете осталось почти семьдесят граммов героина, которые сбыть не удалось. С легкой досадой Матвей кинул пакет в бардачок. Наверняка он мог бы весь вечер думать о загадочном поведении Вероники Николаевны, но встречу перекрыло неприятное известие, которое Матвею сообщили в клинике. Приняв деликатный тон, словно ему предстояла беседа с умирающим, благообразного вида невролог изложил сначала хорошую новость - никаких мозговых опухолей у Матвея нет, а уже потом плохую - причин для его головных болей тоже нет. Осторожно предположив, что причиной может быть образ жизни Матвея, но из вежливости не вдавшись в подробности, невролог выписал рецепт на колдемикст, который можно было купить в аптеке, примыкающей к клинике. Колдемикстом предполагалось глушить приступы.
- Не больше двух таблеток в сутки, - скорбным тоном сообщил невролог, пока Матвей растерянно разглядывал розовый бланк с резкой шифрограммой почерка и жирной печатью, - конечно, лучше бы вам совсем отказаться от вредных привычек, но если будет тяжело, хотя бы минимизируйте частоту.
Купив в аптеке клиники кодеинсодержащий препарат, угрожающий стать постоянным спутником жизни, Матвей вышел в пасмурный вечер, который лишь подчеркивал ледянистую белизну остекленной клиники, и бессвязно выругался себе под нос. Прислонившись к своей машине, он закурил и попытался не думать о головных болях, унаследованных от матери и проявившихся так рано из-за его безалаберности и огромного количества стимуляторов. Узкая улица блистала багровыми звездочками неоновых вывесок. Матвей поймал себя на мрачной мысли. Он слышал, что новичков первое время от героина только тошнит, а кайф приходит много позже – вместе с физической зависимостью. Его опыт курения был похожим: первая сигарета вызвала сильный кашель и не подарила ничего приятного. Удовольствие проступило потом, в виде удовлетворения от того, что наконец удалось покурить и на время снизить уровень тяги.
Вяло кинув окурок на тротуар, Матвей выпрямился, намереваясь поехать домой, однако стоило ему вскинуть глаза, как он заметил идущую в его сторону Веронику Николаевну. Выглядела она такой же сосредоточенной, как днем, и то ли не заметила Матвея, то ли просто не смогла его узнать. Этому Матвей уже не удивился – слишком он изменился, пока жил в Петербурге.
Он окликнул Веронику Николаевну, и она сначала рефлекторно обернулась на голос, а потом узнала в нем серьезного насупленного мальчика, когда-то игравшего на перламутрово-синем баяне. Удивленно воскликнув, Вероника Николаевна подбежала, принялась заботливо трепать Матвея по плечам и задавать обычные для подобных встреч вопросы. Осторожно ответив на них, Матвей наконец подошел к сути и задал встречный вопрос, который порождал в нем любопытство:
- Вероника Николаевна, а зачем вы на Апрашку ходите?
Широко раскрыв васильковые глаза, она сцепила пальцы в нервный замок и поежилась. Кажется, ни с чем хорошим Апраксин двор у нее не ассоциировался, и Матвей прекрасно её понимал. Покраснев, Вероника Николаевна натянуто улыбнулась.
- Апрашку? – переспросила она с деланным спокойствием.
- Апраксин двор. Я сегодня видел вас там. Вы же понимаете, о чем я? Ну, насчет… - до Матвея дошло, что она, наверное, боится говорить о своих неприятностях прямым текстом, и он начал перебирать в голове эвфемизмы.
- …Герасима? – завершил он с полувопросительной интонацией.
- Не хожу я на Апрашку, - буркнула Вероника Николаевна. Матвей молча продемонстрировал ей правую руку с татуированными пальцами, которую она уже видела днем. При виде эзотерических знаков Вероника Николаевна застыла, и ее чугунный взгляд медленно переполз с Матвея на синий «порше», а потом преодолел обратный маршрут, вернувшись к пальцам руки.
- Так это твоя машина, - вздохнула Вероника Николаевна. Тон был странным, однако совсем не осуждающим.
Порадовавшись хоть какой-то ясности, Матвей выяснил, что она снимает комнату возле станции метро «Нечаевская», которая замыкала синюю ветку, следуя после Купчино, и предложил подвезти ее домой. Отказываться Вероника Николаевна не стала, потому что расстояние было приличное. Матвей начал прокладывать маршрут, водя пальцем по сенсорному экрану, а Вероника Николаевна села справа, застегнув ремень безопасности. На выросшего Матвея и атрибуты его взрослой жизни она смотрела с некоторым изумлением.
- Почему вы переехали в Питер? – спросил Матвей, когда ландшафт за окнами сдвинулся с места, и автопилот направил машину к «Нечаевской». – И для чего вам героин?
Вероника Николаевна криво улыбнулась. Ее муж Сергей, которого она ласково называла Сереженькой, который в свое время пытался жениться на матери Матвея, но оказался в её глазах хуже Германа Кириченко, полгода назад перешел с третьей стадии рака легких на четвертую. Возникла острая необходимость в морфине, который совсем не выписывали в Офтони и отказались выписывать в Саранске, поэтому Вероника Николаевна с сестрой Лидой и мужем продали участок с домом, и переехали в Петербург. В Петербурге существовали государственные паллиативные центры, где онкобольные могли получать морфин, но пока Вероника Николаевна собирала все необходимые справки, законодательство успело поменяться, и под новые условия получения морфина дядя Сережа уже не попал. По новым правилам ему был положен только трамадол, который уже давно не оказывал должного эффекта.
Однако выход из ситуации нашелся, хоть и нетривиальный. Принеся в паллиативный центр все нужные по новым правилам справки, Вероника Николаевна получила официальное разрешение раз в сутки забирать трамадол от имени мужа. Полученный трамадол она продавала с рук, в несколько раз завышая аптечную цену, а на вырученные деньги покупала грязный уличный героин, который, конечно, морфином не был, но оставался единственным подходящим вариантом. Ставиться дяде Сереже нужно было каждый день, так что на героин отложили еще и львиную долю денег, оставшихся после продажи участка в Офтони и аренды комнаты в петербургском социальном жилье.
- Но ведь положено морфин выписывать, – вскинул брови Матвей, – ему же больно!
- На бумаге-то положено, а в жизни хер положено, - мрачно сказала Вероника Николаевна.
- Вас же за сбыт могут взять! – звенящим голосом воскликнул Матвей, осознав ситуацию до конца. Он будто открыл заслонку концлагерной печи, и оттуда смрадно пахнуло серой, щупальцами комковатой тьмы повалило инферно, близость которого оказалась слишком трансцендентной, чтобы её можно было воспринимать дольше доли секунды – даже волевым усилием ума.
- Могут, - пожала плечами Вероника Николаевна, - а что поделать?
Матвей удивленно посмотрел на нее:
- И где вы трамадол продаете?
- На Апрашку ношу, - сказала она, поправив сползший с плеча палантин. Под ним оказались простая футболка и жилетка с четырьмя кармашками.
- На Апрашку! – воскликнул Матвей, чуть не схватившись за голову. – Вы еще и сами ходите! Вам очень повезло, что вас до сих пор не приняли...
Вероника Николаевна молчала, кажется, она не ожидала такой бурной реакции. Матвей задумался, нахмурив лоб, и ему быстро пришла в голову нужная мысль.
- Если вас вдруг арестуют, скажите, что знаете Герыча. Герыч – это я. Лучше сделайте это сразу, пока на вас не оформили бумаги, а то потом будет тяжелее вас отмазать. Может, они тоже будут в чем-то виноваты, и мне это будет только на руку. Если с их стороны есть косяки, обычно проще договориться. Но это касается только казаков и ментов, с теми, кто выше, я уже ничего не смогу сделать. Тут, скорее, будет наоборот.
Вероника Николаевна смерила Матвея изумленным взглядом, и разрозненные фрагменты его биографии наконец сложились для нее в понятный пазл.
- Не буду спрашивать, как ты стал драгдилером и почему так быстро поднялся, - заговорила она с нотками интеллигентного такта, доставая из кармашка телефон, - но за помощь огромное спасибо. Какой у тебя номер?
Когда она записала номер, Матвей решил сменить тему, которая была неловкой для них обоих, и спросил:
- Но как-то же они обосновывают трамадол?
- Тем, что боль недостаточно сильная, и морфин для нее не требуется. Он вызывает привыкание и может испортить дальнейшую жизнь. То есть, следующие полгода, мы ведь про Сереженьку говорим.
☸
Окрестности станции «Нечаевская» представляли собой плотную панельную застройку, возведенную в начале двадцатых годов и выкрашенную в яркие цвета, однако краска поблекла и утратила первичный урбанистический лоск. За социальными кварталами начинался пустырь, переходящий в промзону, на горизонте которой жирными силуэтами выступали градирни с газпромовской «G» и исполинские цистерны с газом, раскрашенные под сине-белые банки сгущенки.
Припарковавшись возле панельки, бывшей когда-то канареечно-желтой, Матвей последовал за Вероникой Николаевной в стылую парадную, где пахло кислыми супом и мочой. У крыльца играли в жмурки чумазые дети, а на лавке сидели такие же чумазые матери с юными лицами и прокуренными голосами. Они проводили Веронику Николаевну и Матвея странными взглядами. Некогда белоснежные стены узкой парадной были изуродованы политическими лозунгами, подростковыми рисунками и просто русским матом. У Матвея возникло чувство дежавю, которое заставило его вспомнить о Гражданке. Это была её запущенная вариация, а жилье здесь было крайне дешевым, как и во всех социальных гетто.
Поднявшись на третий этаж, Вероника Николаевна подошла к закрытой железной двери, достала ключи, на которых болтался пушистый брелок в виде кролика, и вдруг повернулась к Матвею.
- Не удивляйся, пожалуйста, но Лида тебя недолюбливает.
- Она знает про меня? Откуда?
- Не знает. Ей не нравится расклад в целом, она считает, что деньги с продажи дома можно на другие расходы пустить, - поморщилась Вероника Николаевна.
- С дядей Сережей, конечно же, не связанные? – спросил Матвей, отлично помня характер Лиды. Она была склочной разведенной женщиной, от которой по достижению совершеннолетия разбежались по общагам иногородних институтов её же собственные дети. Связь с ними Лида не поддерживала, и детей это не особо расстраивало.
- Зришь в корень. Предлагает купить две комнаты в Петербурге, чтобы мы потомрасселились.
Потянувшись ключом к замку, Вероника Николаевна снова обернулась к Матвею и тихо спросила:
- Может, у тебя есть с собой? Чтобы я завтра не выходила?
- Ну вообще-то… - с заминкой начал Матвей, у которого было при себе несколько граммов, но не было желания торговать в одиночку, находясь в таком сомнительном месте. – Да, два у меня есть.
Деловито отдав ему еще восемь тысяч, Вероника Николаевна спрятала оба зиплока в кармашек. Со скрежетом отперев дверь, она прошептала Матвею:
- Он пока в порядке, но скоро кумары начнутся.
- А налоксон у вас есть? – так же тихо поинтересовался он.
- Обижаешь, - сказала она и потянула на себя дверь. Из квартиры шибануло дешевым освежителем воздуха, аромат которого казался химически-пластиковым, сигаретным дымом и горьким душком лекарств. Длинная кишка коридора с серым линолеумом и розовыми обоями вела в кухонку, где виднелся маленький телевизор, экран которого подрагивал шипящим изображением. Это была типичная коммуналка для малоимущих. Вероника Николаевна, склочная Лида и онкобольной дядя Сережа жили в одной комнате, поделенной на углы.
На звук шагов из кухни нервно выскочила тоже постаревшая, но всё еще узнаваемая Лида. Она была бледной, как тесто, на плечи ложились русые волосы, а ровная, даже надменная осанка скрывалась под платьем и длинной кофтой из черного плюша, надетой поверх.
- Я же просила: никого к нам не водить! – всплеснула руками Лида и осеклась, заметив гостя. – Грязев?..
- Не истери, он помогает нам, - хмуро возразила Вероника Николаевна.
- Грязев-то? Он даже своей матери не помогает. Ты в курсе, что у тебя мать уже год болеет?
В том, что от Лиды сбежал не только муж, но и родные дети, не было ничего удивительного. Она любила собирать сплетни, превращая их в поводы для постоянных укоров, а Матвея, пока тот жил в Офтони, и вовсе называла «барыжьим сынком», злясь на него просто потому, что ей хотелось это делать. Матвей нахмурился: упоминание Елены Алексеевны заставило вспомнить и о головных болях, и о кодеине, который ему отныне предстояло принимать.
- Она решила молитвами лечиться. Чужая свобода веры – не мое дело, - холодно парировал он.
- Он помогает нам, Лида, - с угрозой объяснила Вероника Николаевна, словно перед ней стоял пятиклассник, не желающий понимать урок, - рецепты Сереженьке выписывает.
Уперев руки в бока, Лида вскинула тяжелый подбородок и уставилась на Матвея замершими глазами. В её лице проступило понимание, а следом и злорадство, и полные губы разъехались в колкой улыбке.
- Дорогие у тебя рецепты, - проговорила она, вышагивая по коридору в сторону Матвея, - не скинешь цену по старой дружбе?
- Нет.
- Как Лена-то обрадуется, когда узнает, что ты вовсю карьеру строишь! - выпалила она, остановившись перед Матвеем, который был выше нее на две головы. На хмурящуюся Веронику Николаевну она совершенно не обращала внимания. Кажется, в квартире больше никого не было, иначе на шум зарождающегося скандала высыпали бы недовольные соседи. Матвей состроил угрюмое выражение лица, которым встречал покупателей, и посмотрел на Лиду сверху вниз:
- Тебя что-то не устраивает? Так давай разорвем это паллиативное сотрудничество. Я не горю желанием с тобой общаться, ты со мной тоже…
- Ты опять лезешь не в свое дело! – замахнулась на сестру Вероника Николаевна.
- Но нельзя же так! – возмутилась Лида, отскочив и указав на Матвея рукой.
- А у тебя есть доступ к морфину?! – злобно прикрикнула на нее Вероника Николаевна. Матвей невольно поежился и сделал трусливый шаг назад: никогда прежде он не видел её настолько агрессивной.
Скрипнула одна из комнатных дверей, и в коридор вышел, опираясь на тросточку, дядя Сережа, одетый в шерстяную пижаму с собаками. Матвею сразу бросилась в глаза легкая краснота его лица. Тяжело водя глазами, присыпающий дядя Сережа лениво почесывался. Взглянув на Матвея, он слабо улыбнулся и стал совсем уж потусторонне-счастливым. Конкретно сейчас его мало что волновало. Заметив дядю Сережу, сестры нехотя успокоились.
- Мы уж думали, ты совсем пропал, - начал тот, едва слышно растягивая слова, и любой другой человек счел бы его тон размеренно-философским, но только не Матвей, - Лена тебя почти не искала, ты ей тоже не писал. Бывают же такие встречи… Как твои дела, Мотя? Где ты учишься?
Он задавал вопросы по инерции, с каждым новым забывая про прежний, и, кажется, ответов не ждал. Голос звучал глухо, а молочно-седые волосы торчали в разные стороны.
- Я нигде не учусь, - сказал Матвей, - я работаю.
Получив школьный аттестат, он не сразу поехал в Петербург. Целое лето он наслаждался последними месяцами детства, а в сентябре втайне от матери покинул Офтонь, ни единым словом её не предупредив. Поступать в вуз по приезде он не стал – подавать документы было уже слишком поздно. Если говорить откровенно, Матвей даже не собирался их подавать. Все старшие ребята, которых он знал, хоть и получили высшее образование, однако по специальности не работали и применить полученные знания не могли. Рассудив, что тратить пять лет на никому не нужный документ слишком бессмысленно, Матвей решил сразу же начать работать, а если диплом все-таки понадобится, быстренько закончить какую-нибудь шарагу, соблюдя тем самым необходимые формальности.
Лида насмешливо фыркнула.
- Да, время такое, тяжелое… - задумчиво протянул дядя Сережа, глядя перед собой. – Дорого учиться…
На Матвея, который был для него ухоженной, привлекательной и похудевшей копией Германа Кириченко, когда-то ставшего его соперником, он предпочел не смотреть.
- Лицом ты вылитый отец, - медленно продолжил он, - до жути похож…
Лида фыркнула еще громче и глумливее, и дядя Сережа окинул всех вопросительным взглядом: до него запоздало дошло, что он что-то упускает.
- Да, теперь у него берем, - объяснила ему Вероника Николаевна.
В отличие от Лиды, дядя Сережа отнесся к этому факту с равнодушием фаталиста. Он уже свыкся с мыслью, что через полгода умрет, и ему хотелось провести остаток жизни хотя бы безболезненно. Опиатная зависимость его не пугала, потому что в его случае стать хуже уже не могло: недугом меньше, недугом больше – всё было одно.
- Как причудливо оборачивается жизнь, - и он снова искривил губы в умиротворенной улыбке. Сложив руки на груди, Вероника Николаевна прислонилась к стене.
- И это всё, что ты можешь сказать?! – вскрикнула Лида, рубанув воздух руками.
- Да. Это всё, что я могу сказать.
- Сначала с ней наркоторговец жил, теперь к нам домой ходит! И ведь точно такой же! – чуть ли не орала Лида. – Хоть с этим ты можешь что-то сделать? Тогда не отвадил, и сейчас не отваживаешь! Тряпка!
- Если что-то не нравится, можешь прямо сейчас собирать вещи и валить обратно в Офтонь! – выпалила Вероника Николаевна, заступившись за мужа.
- Ты притащила этого паршивца к нам домой, ты пустила его за порог! – дико и надрывно вопила Лида. – Да он же объедает нас! По четыре тысячи! Каждый раз! И ради этого мы дом продавали? Ненадолго хватит этих денег, у Грязева аппетиты ого-го! Ни грамма совести!
- До моей смерти хватит, - едко вставил реплику дядя Сережа. Шутка смутила всех, даже Лиду. На время ссоры они забыли о связывающей их болезни. Повисла неловкая тишина. Матвей всё это время стоял у порога и не проронил ни слова. Находиться дома у людей, научившихся соседствовать со смертью и тягостно скандалить в присутствии её растущей тени, было неловко. Матвей не знал, как поступить, чтобы загасить конфликт и при этом не ранить никого из них лишним напоминанием о раке. Уловив его нерешительность, дядя Сережа произнес:
- Думаю, Матвею лучше не видеть нашу семейную ссору. Думаю, он хочет уйти.
- Да, я лучше пойду, - сконфуженно буркнул Матвей и обратился к Веронике Николаевне, - спуститесь со мной, пожалуйста. У меня к вам дело.
Скомканно попрощавшись и получив в ответ лишь бледную улыбку дяди Сережи, Матвей торопливо пошел вниз по лестнице. Вероника Николаевна, сбитая с толку загадочной просьбой, последовала за ним, но ничего спрашивать не стала. Она догадывалась о приватности просьбы.
Распугав своим появлением мальчишек, которые теснились возле машины и таращились на нее, как на предмет будущих мечтаний, Матвей сел за руль и потянулся к бардачку. Мальчишки проворно разбежались, как застигнутые врасплох воробьи. Достав из бардачка бумажный пакет, он протянул его Веронике Николаевне, которая выжидающе стояла снаружи и нервозно ломала пальцы.
- Здесь граммов семьдесят, точно не помню, - объяснил Матвей, - не знаю, как часто он ставится, но думаю, что на месяц-два ему хватит.
- Это очень дорого, Мотя… - тихо произнесла Вероника Николаевна, крепко прижав бумажный пакет к груди и вцепившись в него пальцами. За её плечом блестел огненно-белым уличный фонарь. Заунывно носился между домами чрезмерно ледяной для августа ветер и качал мягкие кисти её палантина.
- Давайте представим, что это моя благодарность за ваше воспитание. Вы дали мне ценный совет насчет армии и войны вообще, - сказал Матвей, пристально глядя на нее. Вероника Николаевна сжала пакет еще сильнее – до белизны костяшек.
- Трам больше не толкайте. Вас кто угодно может сдать, и вы на десятку уедете. Лучше собирайте пока, а через месяц я его у вас выкуплю и сам куда-нибудь пристрою. Мне-то за это ничего не будет.
Вероника Николаевна шевельнула губами, собравшись что-то сказать, однако лишь кивнула и зашагала к парадной мимо любопытствующих матерей, земля вокруг которых была усыпана окурками. Матвей понимал, почему она ушла с такой неловкостью, и не собирался ставить это ей в вину.
На обратном пути пришлось постоять в вечерних пробках, и Матвей добрался домой лишь тогда, когда на зеркальные грани торговых центров, в которых отражались неспешно вышагивающие казачьи патрули и жужжащие, как пчелы, наблюдательные дроны, опустилась акварельная синь сумерек.
Решив расположиться в зале, Матвей поудобнее уселся на диване и неожиданно для себя решил включить телевизор, чего еще ни разу не делал с того дня, как переехал на эту квартиру. Всё это время телевизор не играл никакой функциональной роли, будучи лишь немой декорацией к лучшей жизни. Первые же кадры показали, что лучше бы он и дальше ей оставался. Матвею не повезло, и он попал на политическое ток-шоу. Сидящие за круглым столом участники с пеной у рта высказывались насчет спорных крымских территорий, которые Россия аннексировала еще в начале двадцатых.
Состав участников был обескураживающим. Первым делом в глаза бросилась маково-красная косоворотка провластного рэпера и бывшего наркоторговца, который в свое время отпустил бороду и перековался в традиционалиста, за что ему, конечно же, простили ошибки молодости. Справа от него мрачной тенью сидел наголо бритый националист, который почему-то носил еврейскую фамилию. Побочной деятельностью националиста была охота на "педофилов": устраивая подставные свидания, он ловил гомосексуалистов на живца, а потом унижал на камеру и размашисто осенял крестом, применяя для этого фаллоимитатор. То ли он действительно не видел разницы между гомосексуалистами и педофилами, то ли намеренно сгущал краски, подогревая всеобщую гражданскую истерию. Демонстративно далеко от него сидел православный активист, в молодости прошедший через горнило психонавтики. Он был возмущен тем фактом, что националист перекрещивал жертв именно фаллоимитатором - это оскорбляло его религиозные чувства. Зато на стороне националиста был обласканный властью адвокат, который прямым текстом заявил, что по закону ему следует доставить националиста прямиком в прокуратуру, однако делать он этого не будет, потому что одобряет его действия как гражданин. Националист был очень польщен похвалой адвоката, живущего не по законам, а по понятиям, и обещал не прекращать свою борьбу.
Матвей мрачно уставился в экран. Он редко когда смотрел телевизор вообще, а государственные каналы в частности и теперь чуть ли не физически ощущал, как тупеет и замыливается его восприятие.
- …не все права человека сочетаются с традиционными русскими ценностями, - бубнил в бороду бывший барыга в косоворотке.
- Я ведь о том же говорю, Михаил. Пацифизм есть не что иное, как коллаборационизм, сотрудничество с врагом и вообще откровенное вредительство, - быковато поддакнул ему националист, - добровольное признание в неблагонадежности, если хотите.
- Именно! – пылко воскликнул православный активист, сверкая глазами так, будто психонавтика была для него не только прошлым, но и настоящим. – А если какой-нибудь гад не хочет признавать, что россияне лучше многих, то он просто-напросто ненужный нам либераст!
Видимо, самым интеллигентным и адекватным участником дискуссии, если не считать адвоката, был бывший барыга, вовремя переметнувшийся на сторону власть имущих и тем самым доказавший наличие у себя недюжинного ума и чувства собственной выгоды. Два его соседа адекватностью не отличались, потому что для них это была не социальная мимикрия, а единственно верная правда жизни.
Матвей понимал каждую их фразу, взятую отдельно от контекста, но когда он пытался слить получившиеся смыслы вместе, получался только шизофренический поток сознания, смысла в котором не было совершенно. Впрочем, как и во всех продуктах пропаганды, которые давили на эмоции и брали на понт, чтобы объект ощутил жгучее желание доказать, что именно он нацпредателем не является.
Невольно Матвею вспомнились ксенофобы гитлеровской Германии, которые гордились победами Фридриха Великого, умершего задолго до факельных шествий, и их тысячелетний рейх, павший уже на тринадцатом году существования. Геополитические амбиции обернулись унизительным поражением, которое оказалось даже хуже предыдущего, а их финальным аккордом стал рыдающий мальчик с фаустпатроном.
Искривив лицо, Матвей выключил телевизор, достал смартфон и переключился на твиттер, где отсев контента был куда более щадящим и не макал в авгиевы конюшни. Но и здесь ему тоже не повезло. В его ленту редко просачивалась политика, и даже если это случалось, тональность новостей была оппозиционной. От неё Матвея тоже подташнивало, но не так сильно, как от патриотического напора. Однако подброшенная лентой новостная нарезка ударила Матвея под дых. Франтоватый человек в штатском, стоящий на фоне серой «теслы», сухо рассказывал про оппозиционного активиста, на совести которого были восемь убитых в лесополосе женщин. Речь человека в штатском перебивалась урывочной съемкой следственного эксперимента. В окружении суровых протокольных лиц бормотал признательные показания Глеб Щипцов. Судя по невнятности речи и пустоте взгляда, он был по самую макушку накачан успокоительными. Из-за этого он производил невыгодное впечатление маньяка, начисто лишенного эмпатии и остроты чувств.
Матвей сглотнул. Он снова ощутил себя на Хайнане, перед тарелкой с пожаренными для него креветками. Он указал на Глеба, и того выловили. И теперь исполнительная власть с садистской увлеченностью жарила Щипцова на огне затянутого следствия, а морально задавленный Щипцов неизбежно мертвел, идя на предложенные компромиссы и принимая на себя висяки. Подлость ситуации заключалась в том, что на Матвея тоже могли указать пальцем, а потом выловить склизкой сеткой сачка и кинуть в раскаленное масло. Наверное, застраховаться от столь жалкого итога можно было, лишь совершив еще десяток подобных предательств.
Матвею впервые стало искренне жаль Горбовского. В нем не осталось ни грана негодования.
Он свесил голову и зажмурился. Кожа на щеках стала влажной. Поддавшись допаминовой яме, он закрыл лицо руками, ничком рухнул на диван и приглушенно взвыл. У него возникло острое желание засунуть голову в духовку, как это сделала Сильвия Плат, и нырнуть сквозь неё в небытие, чтобы больше никогда не иметь дел ни с наркоманами, ни с ментами, ни с оголтелыми патриотами.
***
За прозрачно-фиолетовым тюлем гремел теплый августовский ливень. Трижды отражаясь в створках трельяжа, Соня рисовала бордовой помадой острые контуры губ. В черных накладных ногтях безжизненными точками искрился свет торшера, который резко очерченным пятном вырывал из дневного полумрака обстановку съемной комнаты. Над головой центрального отражения, которую пышно окутывало тяжелое черное каре, висела на полоске скотча фотография древних грузинских руин, напоминающих заброшенный муравейник. На овальном столике, который располагался в центре комнаты, были разложены готовые к сессии инструменты: угрожающего вида страпон на ремешках, многохвостая плеть с длинной рукоятью и моток джутовой веревки.
С тех пор, как Соня переквалифицировалась из обычных проституток в платные госпожи, денег стало больше, а проблем чуть меньше. Соня немного поправила здоровье, вернула долги всем дилерам, которых в свое время смогла разжалобить, и почти забыла про периоды жизни, когда ей приходилось заниматься шкуроходством, время от времени напарываясь на неизвестного состава китайские соли.
- Когда ты уже перестанешь разбрасывать везде свои елдаки? – хмуро спросил гоповатый юноша, который лежал на кровати с кованой спинкой и не попадал в световой круг торшера. На металлическом завитке спинки висела зеленовато-грязная олимпийка – часть спортивного костюма, в который он был одет. Звали жилистого, как заяц, юношу Родя Романов. Он был косым на один глаз, смотрел на мир уверенным взглядом отрицалы и сожительствовал с Соней уже полгода.
- Не возникай, - холодно осадила его Соня.
- Мне надоело, что ты сосешь чужие члены.
- Можешь заняться этим вместо меня, если такой умный.
- А обязательно всем давать, пока ты со мной живешь? – апатично спросил Родя. Он ругался вполсилы и делал это из привычки, просто чтобы не терять тонус. Резко повернувшись на табуретке, Соня указала на Родю пальцем, покачивая острым черным ногтем в такт произносимым фразам:
- Ты. Это ты, Романов, со мной живешь. Если ты не в курсе, мне и на помадки хватает, и на твое содержание. И если тебе что-то не нравится, можешь прямо сейчас валить к своей глухой бабке.
Родя поморщился, однако возражать не решился. Соня была права по всем пунктам. Минул год с того момента, как он потерял работу и начал жить на микрозаймы, прячась от коллекторов на квартирах друзей, любвеобильных подруг и глухой прабабушки, которая жила на Большой Морской и умирать пока не планировала. Иногда ему казалось, что прабабушка даже не думает о смерти, то ли вообще забывая о ней, то ли просто полагаясь на естественный ход событий.
Пока был жив его старший брат Кирилл, который ходил в море и привозил из рейсов контрабандные грузы, Родя находил для него покупателей, выполняя функции посредника, за что получал определенный братский процент. Но когда Кирилл при загадочных обстоятельствах погиб, возить контрабанду было уже некому, а Родя озаботился совсем другим вопросом, на фоне которого проблема трудоустройства меркла.
Кирилла убили в Атлантическом океане, на борту сухогруза «Аркадий Гайдар», который вез к Финскому заливу не только легально оформленные контейнеры, но и десять тонн кокаина, оплаченные и заказанные высокопоставленным лицом из невского синдиката. В нейтральных водах близ Кабо-Верде у Кирилла обострился перитонит. Узнавшие об этом два члена команды, посвященные в тайну груза, решили остальным о перитоните не сообщать, чтобы не заплывать на территорию Кабо-Верде, рискуя лишиться и кокаина, и свободы, и доверия нового начальства. Кирилла задушили и незаметно выбросили за борт, а оставшиеся дни рейса подыгрывали другим морякам и изображали непонимание по поводу исчезновения Кирилла, который был угрюмым, пьющим и наверняка склонным к суициду.
В целости и сохранности доставив кокаин в порт Невской губы, оба виновника выдержали лишь неделю внутренних терзаний, после чего сдались властям и пошли навстречу следствию. За это следствие замяло некоторые нюансы дела, особенно те, что указывали на причастность ФСКН и налаженный ей кокаиновый трафик. Но деятельность наркоконтроля уже давно была для всех секретом Полишинеля, и Родя не мог не понять, почему и ради чего убили Кирилла.
Наркоманам Родя сочувствовал, а барыг, как и полагалось, презирал. В нем быстро разгорелось желание противодействия. Добраться до Алексея Петрова, главы ФСКН, Родя не мог – слишком уж высокий был уровень. Зато мог добраться до полковника Жарова, который возглавлял петербургское управление ФСКН, и совершить народовольческий подвиг в духе Веры Засулич. Родя семь месяцев следил за Жаровым, насколько позволяли его скромные возможности, однако план возмездия оказался тупиковым. Попасть в приемную к Жарову было не так-то просто – особенно с оружием. Скрепя сердце, Родя отложил месть на неопределенное будущее, однако думать о ней не перестал.
Нехотя сев на кровати, он исподлобья посмотрел на Соню:
- И торгаши твои мне тоже надоели. Ты и с ними спишь? А с этим Герычем?
- Герыч уже давно оптовик, - едко улыбнулась она, поставив помаду на лакированный столик трельяжа, - до простых смертных он не снисходит.
- Да почему ты так спокойно об этом говоришь! – воскликнул Родя, сверкнув металлической коронкой. Большинство барыг, с которыми контактировала Соня, были ему одинаково противны, однако особую ненависть он питал к тем, кто выглядел – на взгляд Роди – слишком подозрительно. А подозрительным он находил сочетание внешнего вида, который не сквозил опасностью, с неоправданным гонором. Герыч, с которым Соня общалась довольно долго и очень проблемно, попадал в список подозрительных.
- Потому что ты иж-де-ве-нец, - по складам произнесла Соня, закатив подведенные глаза. Она вложила в этот жест максимум пренебрежения, и Родю, как это обычно бывало, проняло. Хотя впечатление он производил грозное, Соне он почему-то поддавался, хотя и сам не понимал, почему предпочитает бежать от нее, а не бить. Со злым лицом вскочив на ноги, он сдернул олимпийку со спинки кровати, перекинул её через плечо и вышел в коридор, истерично хлопнув дверью.
Подобная сцена происходила далеко не в первый раз: не выдерживая Сониного равнодушия, Родя демонстративно уходил, несколько дней жил у прабабушки, а потом возвращался в Новый Петергоф, чтобы повторить цикл.
Горделиво фыркнув, Соня вернулась к макияжу и принялась пудрить недостаточно здоровое лицо. Машинально растирая пудру пуховкой, она задумалась о недавних попытках насолить Матвею, которые оказались неудачными. Обличающий пост, который она предложила в паблик «Питер сегодня», встретили вялым обсуждением и скепсисом. Одни пафосно обещали расстрелять всех «торговцев смертью», если вдруг им повезет попасть во власть, другие искренне недоумевали, почему от них вообще ждут каких-то действий, а третьи сомневались в правдивости поста, утверждая, что похож Матвей на торчка, но никак не на дилера. Утешало Соню лишь то, что красные гвоздики явно не могли Матвею понравиться.
Невыполненным оставался последний пункт мести, который очень даже мог сработать и на время выбить Матвея из колеи. Соня шла от мягкого воздействия к жесткому. Обычных людей она убедить не могла, зато могла убедить фанатичных активистов «Антидилера». Естественно, умолчав при этом о статусе Матвея, чтобы активисты не сдали назад.
Соня захлопнула пудреницу и перевела взгляд на фотографию древнего города Уплисцихе. Ей было очень обидно, что она не может дотянуться до Матвея и позаимствовать его наличность, которую можно было бы употребить на переезд в Грузию и лучшую жизнь. Связываться с Матвеем было чревато, его деньги автоматически тянули за собой нерешаемые проблемы, а в новую жизнь Соне хотелось шагнуть с изяществом прогуливающейся кошки. Означало это только одно: деньги нужно было отобрать у кого-то другого. А перед этим уговорить Родю и заручиться его физической помощью.
Однажды Соне пришлось высокомерно сидеть в ресторане напротив пузатого китайца, жаждущего особого сорта унижений, за его счет заказывать самые дорогие блюда и окатывать его немым презрением. Китаец изложил свою просьбу с робостью стыдящегося фетишиста, а заплатил щедро. Стараясь не залить шампанским строгое платье, предоставленное китайцем, Соня скучающе поглаживала ножку бокала, согретую теплом ее пальцев, и не забывала метать в собеседника злобные взгляды, то и дело отвлекаясь на стоящий за его спиной кубический аквариум.
Между водорослей и декоративных коряг ползали серовато-коричневые креветки с выпуклыми шариками глаз и длинными клешнями. Одна такая креветка, которая была размером с человеческую ладонь, почти не вылезала из леса водорослей, лишь иногда показывая острую бесчувственную морду. По аквариуму лениво перемещался пятнистый сом.
В очередной раз переведя взгляд с китайца на аквариум, где вовсю кипел естественный отбор, Соня заметила, как сом подплыл к колышущимся водорослям. Из дрожащей зелени выглянула уже знакомая острая морда, и креветка, выскочив на открытый грунт, сдавила тельце сома удушающим хватом клешней и вместе с жертвой попятилась в темные заросли.
Припарковавшись возле панельки, бывшей когда-то канареечно-желтой, Матвей последовал за Вероникой Николаевной в стылую парадную, где пахло кислыми супом и мочой. У крыльца играли в жмурки чумазые дети, а на лавке сидели такие же чумазые матери с юными лицами и прокуренными голосами. Они проводили Веронику Николаевну и Матвея странными взглядами. Некогда белоснежные стены узкой парадной были изуродованы политическими лозунгами, подростковыми рисунками и просто русским матом. У Матвея возникло чувство дежавю, которое заставило его вспомнить о Гражданке. Это была её запущенная вариация, а жилье здесь было крайне дешевым, как и во всех социальных гетто.
Поднявшись на третий этаж, Вероника Николаевна подошла к закрытой железной двери, достала ключи, на которых болтался пушистый брелок в виде кролика, и вдруг повернулась к Матвею.
- Не удивляйся, пожалуйста, но Лида тебя недолюбливает.
- Она знает про меня? Откуда?
- Не знает. Ей не нравится расклад в целом, она считает, что деньги с продажи дома можно на другие расходы пустить, - поморщилась Вероника Николаевна.
- С дядей Сережей, конечно же, не связанные? – спросил Матвей, отлично помня характер Лиды. Она была склочной разведенной женщиной, от которой по достижению совершеннолетия разбежались по общагам иногородних институтов её же собственные дети. Связь с ними Лида не поддерживала, и детей это не особо расстраивало.
- Зришь в корень. Предлагает купить две комнаты в Петербурге, чтобы мы потомрасселились.
Потянувшись ключом к замку, Вероника Николаевна снова обернулась к Матвею и тихо спросила:
- Может, у тебя есть с собой? Чтобы я завтра не выходила?
- Ну вообще-то… - с заминкой начал Матвей, у которого было при себе несколько граммов, но не было желания торговать в одиночку, находясь в таком сомнительном месте. – Да, два у меня есть.
Деловито отдав ему еще восемь тысяч, Вероника Николаевна спрятала оба зиплока в кармашек. Со скрежетом отперев дверь, она прошептала Матвею:
- Он пока в порядке, но скоро кумары начнутся.
- А налоксон у вас есть? – так же тихо поинтересовался он.
- Обижаешь, - сказала она и потянула на себя дверь. Из квартиры шибануло дешевым освежителем воздуха, аромат которого казался химически-пластиковым, сигаретным дымом и горьким душком лекарств. Длинная кишка коридора с серым линолеумом и розовыми обоями вела в кухонку, где виднелся маленький телевизор, экран которого подрагивал шипящим изображением. Это была типичная коммуналка для малоимущих. Вероника Николаевна, склочная Лида и онкобольной дядя Сережа жили в одной комнате, поделенной на углы.
На звук шагов из кухни нервно выскочила тоже постаревшая, но всё еще узнаваемая Лида. Она была бледной, как тесто, на плечи ложились русые волосы, а ровная, даже надменная осанка скрывалась под платьем и длинной кофтой из черного плюша, надетой поверх.
- Я же просила: никого к нам не водить! – всплеснула руками Лида и осеклась, заметив гостя. – Грязев?..
- Не истери, он помогает нам, - хмуро возразила Вероника Николаевна.
- Грязев-то? Он даже своей матери не помогает. Ты в курсе, что у тебя мать уже год болеет?
В том, что от Лиды сбежал не только муж, но и родные дети, не было ничего удивительного. Она любила собирать сплетни, превращая их в поводы для постоянных укоров, а Матвея, пока тот жил в Офтони, и вовсе называла «барыжьим сынком», злясь на него просто потому, что ей хотелось это делать. Матвей нахмурился: упоминание Елены Алексеевны заставило вспомнить и о головных болях, и о кодеине, который ему отныне предстояло принимать.
- Она решила молитвами лечиться. Чужая свобода веры – не мое дело, - холодно парировал он.
- Он помогает нам, Лида, - с угрозой объяснила Вероника Николаевна, словно перед ней стоял пятиклассник, не желающий понимать урок, - рецепты Сереженьке выписывает.
Уперев руки в бока, Лида вскинула тяжелый подбородок и уставилась на Матвея замершими глазами. В её лице проступило понимание, а следом и злорадство, и полные губы разъехались в колкой улыбке.
- Дорогие у тебя рецепты, - проговорила она, вышагивая по коридору в сторону Матвея, - не скинешь цену по старой дружбе?
- Нет.
- Как Лена-то обрадуется, когда узнает, что ты вовсю карьеру строишь! - выпалила она, остановившись перед Матвеем, который был выше нее на две головы. На хмурящуюся Веронику Николаевну она совершенно не обращала внимания. Кажется, в квартире больше никого не было, иначе на шум зарождающегося скандала высыпали бы недовольные соседи. Матвей состроил угрюмое выражение лица, которым встречал покупателей, и посмотрел на Лиду сверху вниз:
- Тебя что-то не устраивает? Так давай разорвем это паллиативное сотрудничество. Я не горю желанием с тобой общаться, ты со мной тоже…
- Ты опять лезешь не в свое дело! – замахнулась на сестру Вероника Николаевна.
- Но нельзя же так! – возмутилась Лида, отскочив и указав на Матвея рукой.
- А у тебя есть доступ к морфину?! – злобно прикрикнула на нее Вероника Николаевна. Матвей невольно поежился и сделал трусливый шаг назад: никогда прежде он не видел её настолько агрессивной.
Скрипнула одна из комнатных дверей, и в коридор вышел, опираясь на тросточку, дядя Сережа, одетый в шерстяную пижаму с собаками. Матвею сразу бросилась в глаза легкая краснота его лица. Тяжело водя глазами, присыпающий дядя Сережа лениво почесывался. Взглянув на Матвея, он слабо улыбнулся и стал совсем уж потусторонне-счастливым. Конкретно сейчас его мало что волновало. Заметив дядю Сережу, сестры нехотя успокоились.
- Мы уж думали, ты совсем пропал, - начал тот, едва слышно растягивая слова, и любой другой человек счел бы его тон размеренно-философским, но только не Матвей, - Лена тебя почти не искала, ты ей тоже не писал. Бывают же такие встречи… Как твои дела, Мотя? Где ты учишься?
Он задавал вопросы по инерции, с каждым новым забывая про прежний, и, кажется, ответов не ждал. Голос звучал глухо, а молочно-седые волосы торчали в разные стороны.
- Я нигде не учусь, - сказал Матвей, - я работаю.
Получив школьный аттестат, он не сразу поехал в Петербург. Целое лето он наслаждался последними месяцами детства, а в сентябре втайне от матери покинул Офтонь, ни единым словом её не предупредив. Поступать в вуз по приезде он не стал – подавать документы было уже слишком поздно. Если говорить откровенно, Матвей даже не собирался их подавать. Все старшие ребята, которых он знал, хоть и получили высшее образование, однако по специальности не работали и применить полученные знания не могли. Рассудив, что тратить пять лет на никому не нужный документ слишком бессмысленно, Матвей решил сразу же начать работать, а если диплом все-таки понадобится, быстренько закончить какую-нибудь шарагу, соблюдя тем самым необходимые формальности.
Лида насмешливо фыркнула.
- Да, время такое, тяжелое… - задумчиво протянул дядя Сережа, глядя перед собой. – Дорого учиться…
На Матвея, который был для него ухоженной, привлекательной и похудевшей копией Германа Кириченко, когда-то ставшего его соперником, он предпочел не смотреть.
- Лицом ты вылитый отец, - медленно продолжил он, - до жути похож…
Лида фыркнула еще громче и глумливее, и дядя Сережа окинул всех вопросительным взглядом: до него запоздало дошло, что он что-то упускает.
- Да, теперь у него берем, - объяснила ему Вероника Николаевна.
В отличие от Лиды, дядя Сережа отнесся к этому факту с равнодушием фаталиста. Он уже свыкся с мыслью, что через полгода умрет, и ему хотелось провести остаток жизни хотя бы безболезненно. Опиатная зависимость его не пугала, потому что в его случае стать хуже уже не могло: недугом меньше, недугом больше – всё было одно.
- Как причудливо оборачивается жизнь, - и он снова искривил губы в умиротворенной улыбке. Сложив руки на груди, Вероника Николаевна прислонилась к стене.
- И это всё, что ты можешь сказать?! – вскрикнула Лида, рубанув воздух руками.
- Да. Это всё, что я могу сказать.
- Сначала с ней наркоторговец жил, теперь к нам домой ходит! И ведь точно такой же! – чуть ли не орала Лида. – Хоть с этим ты можешь что-то сделать? Тогда не отвадил, и сейчас не отваживаешь! Тряпка!
- Если что-то не нравится, можешь прямо сейчас собирать вещи и валить обратно в Офтонь! – выпалила Вероника Николаевна, заступившись за мужа.
- Ты притащила этого паршивца к нам домой, ты пустила его за порог! – дико и надрывно вопила Лида. – Да он же объедает нас! По четыре тысячи! Каждый раз! И ради этого мы дом продавали? Ненадолго хватит этих денег, у Грязева аппетиты ого-го! Ни грамма совести!
- До моей смерти хватит, - едко вставил реплику дядя Сережа. Шутка смутила всех, даже Лиду. На время ссоры они забыли о связывающей их болезни. Повисла неловкая тишина. Матвей всё это время стоял у порога и не проронил ни слова. Находиться дома у людей, научившихся соседствовать со смертью и тягостно скандалить в присутствии её растущей тени, было неловко. Матвей не знал, как поступить, чтобы загасить конфликт и при этом не ранить никого из них лишним напоминанием о раке. Уловив его нерешительность, дядя Сережа произнес:
- Думаю, Матвею лучше не видеть нашу семейную ссору. Думаю, он хочет уйти.
- Да, я лучше пойду, - сконфуженно буркнул Матвей и обратился к Веронике Николаевне, - спуститесь со мной, пожалуйста. У меня к вам дело.
Скомканно попрощавшись и получив в ответ лишь бледную улыбку дяди Сережи, Матвей торопливо пошел вниз по лестнице. Вероника Николаевна, сбитая с толку загадочной просьбой, последовала за ним, но ничего спрашивать не стала. Она догадывалась о приватности просьбы.
Распугав своим появлением мальчишек, которые теснились возле машины и таращились на нее, как на предмет будущих мечтаний, Матвей сел за руль и потянулся к бардачку. Мальчишки проворно разбежались, как застигнутые врасплох воробьи. Достав из бардачка бумажный пакет, он протянул его Веронике Николаевне, которая выжидающе стояла снаружи и нервозно ломала пальцы.
- Здесь граммов семьдесят, точно не помню, - объяснил Матвей, - не знаю, как часто он ставится, но думаю, что на месяц-два ему хватит.
- Это очень дорого, Мотя… - тихо произнесла Вероника Николаевна, крепко прижав бумажный пакет к груди и вцепившись в него пальцами. За её плечом блестел огненно-белым уличный фонарь. Заунывно носился между домами чрезмерно ледяной для августа ветер и качал мягкие кисти её палантина.
- Давайте представим, что это моя благодарность за ваше воспитание. Вы дали мне ценный совет насчет армии и войны вообще, - сказал Матвей, пристально глядя на нее. Вероника Николаевна сжала пакет еще сильнее – до белизны костяшек.
- Трам больше не толкайте. Вас кто угодно может сдать, и вы на десятку уедете. Лучше собирайте пока, а через месяц я его у вас выкуплю и сам куда-нибудь пристрою. Мне-то за это ничего не будет.
Вероника Николаевна шевельнула губами, собравшись что-то сказать, однако лишь кивнула и зашагала к парадной мимо любопытствующих матерей, земля вокруг которых была усыпана окурками. Матвей понимал, почему она ушла с такой неловкостью, и не собирался ставить это ей в вину.
На обратном пути пришлось постоять в вечерних пробках, и Матвей добрался домой лишь тогда, когда на зеркальные грани торговых центров, в которых отражались неспешно вышагивающие казачьи патрули и жужжащие, как пчелы, наблюдательные дроны, опустилась акварельная синь сумерек.
Решив расположиться в зале, Матвей поудобнее уселся на диване и неожиданно для себя решил включить телевизор, чего еще ни разу не делал с того дня, как переехал на эту квартиру. Всё это время телевизор не играл никакой функциональной роли, будучи лишь немой декорацией к лучшей жизни. Первые же кадры показали, что лучше бы он и дальше ей оставался. Матвею не повезло, и он попал на политическое ток-шоу. Сидящие за круглым столом участники с пеной у рта высказывались насчет спорных крымских территорий, которые Россия аннексировала еще в начале двадцатых.
Состав участников был обескураживающим. Первым делом в глаза бросилась маково-красная косоворотка провластного рэпера и бывшего наркоторговца, который в свое время отпустил бороду и перековался в традиционалиста, за что ему, конечно же, простили ошибки молодости. Справа от него мрачной тенью сидел наголо бритый националист, который почему-то носил еврейскую фамилию. Побочной деятельностью националиста была охота на "педофилов": устраивая подставные свидания, он ловил гомосексуалистов на живца, а потом унижал на камеру и размашисто осенял крестом, применяя для этого фаллоимитатор. То ли он действительно не видел разницы между гомосексуалистами и педофилами, то ли намеренно сгущал краски, подогревая всеобщую гражданскую истерию. Демонстративно далеко от него сидел православный активист, в молодости прошедший через горнило психонавтики. Он был возмущен тем фактом, что националист перекрещивал жертв именно фаллоимитатором - это оскорбляло его религиозные чувства. Зато на стороне националиста был обласканный властью адвокат, который прямым текстом заявил, что по закону ему следует доставить националиста прямиком в прокуратуру, однако делать он этого не будет, потому что одобряет его действия как гражданин. Националист был очень польщен похвалой адвоката, живущего не по законам, а по понятиям, и обещал не прекращать свою борьбу.
Матвей мрачно уставился в экран. Он редко когда смотрел телевизор вообще, а государственные каналы в частности и теперь чуть ли не физически ощущал, как тупеет и замыливается его восприятие.
- …не все права человека сочетаются с традиционными русскими ценностями, - бубнил в бороду бывший барыга в косоворотке.
- Я ведь о том же говорю, Михаил. Пацифизм есть не что иное, как коллаборационизм, сотрудничество с врагом и вообще откровенное вредительство, - быковато поддакнул ему националист, - добровольное признание в неблагонадежности, если хотите.
- Именно! – пылко воскликнул православный активист, сверкая глазами так, будто психонавтика была для него не только прошлым, но и настоящим. – А если какой-нибудь гад не хочет признавать, что россияне лучше многих, то он просто-напросто ненужный нам либераст!
Видимо, самым интеллигентным и адекватным участником дискуссии, если не считать адвоката, был бывший барыга, вовремя переметнувшийся на сторону власть имущих и тем самым доказавший наличие у себя недюжинного ума и чувства собственной выгоды. Два его соседа адекватностью не отличались, потому что для них это была не социальная мимикрия, а единственно верная правда жизни.
Матвей понимал каждую их фразу, взятую отдельно от контекста, но когда он пытался слить получившиеся смыслы вместе, получался только шизофренический поток сознания, смысла в котором не было совершенно. Впрочем, как и во всех продуктах пропаганды, которые давили на эмоции и брали на понт, чтобы объект ощутил жгучее желание доказать, что именно он нацпредателем не является.
Невольно Матвею вспомнились ксенофобы гитлеровской Германии, которые гордились победами Фридриха Великого, умершего задолго до факельных шествий, и их тысячелетний рейх, павший уже на тринадцатом году существования. Геополитические амбиции обернулись унизительным поражением, которое оказалось даже хуже предыдущего, а их финальным аккордом стал рыдающий мальчик с фаустпатроном.
Искривив лицо, Матвей выключил телевизор, достал смартфон и переключился на твиттер, где отсев контента был куда более щадящим и не макал в авгиевы конюшни. Но и здесь ему тоже не повезло. В его ленту редко просачивалась политика, и даже если это случалось, тональность новостей была оппозиционной. От неё Матвея тоже подташнивало, но не так сильно, как от патриотического напора. Однако подброшенная лентой новостная нарезка ударила Матвея под дых. Франтоватый человек в штатском, стоящий на фоне серой «теслы», сухо рассказывал про оппозиционного активиста, на совести которого были восемь убитых в лесополосе женщин. Речь человека в штатском перебивалась урывочной съемкой следственного эксперимента. В окружении суровых протокольных лиц бормотал признательные показания Глеб Щипцов. Судя по невнятности речи и пустоте взгляда, он был по самую макушку накачан успокоительными. Из-за этого он производил невыгодное впечатление маньяка, начисто лишенного эмпатии и остроты чувств.
Матвей сглотнул. Он снова ощутил себя на Хайнане, перед тарелкой с пожаренными для него креветками. Он указал на Глеба, и того выловили. И теперь исполнительная власть с садистской увлеченностью жарила Щипцова на огне затянутого следствия, а морально задавленный Щипцов неизбежно мертвел, идя на предложенные компромиссы и принимая на себя висяки. Подлость ситуации заключалась в том, что на Матвея тоже могли указать пальцем, а потом выловить склизкой сеткой сачка и кинуть в раскаленное масло. Наверное, застраховаться от столь жалкого итога можно было, лишь совершив еще десяток подобных предательств.
Матвею впервые стало искренне жаль Горбовского. В нем не осталось ни грана негодования.
Он свесил голову и зажмурился. Кожа на щеках стала влажной. Поддавшись допаминовой яме, он закрыл лицо руками, ничком рухнул на диван и приглушенно взвыл. У него возникло острое желание засунуть голову в духовку, как это сделала Сильвия Плат, и нырнуть сквозь неё в небытие, чтобы больше никогда не иметь дел ни с наркоманами, ни с ментами, ни с оголтелыми патриотами.
***
За прозрачно-фиолетовым тюлем гремел теплый августовский ливень. Трижды отражаясь в створках трельяжа, Соня рисовала бордовой помадой острые контуры губ. В черных накладных ногтях безжизненными точками искрился свет торшера, который резко очерченным пятном вырывал из дневного полумрака обстановку съемной комнаты. Над головой центрального отражения, которую пышно окутывало тяжелое черное каре, висела на полоске скотча фотография древних грузинских руин, напоминающих заброшенный муравейник. На овальном столике, который располагался в центре комнаты, были разложены готовые к сессии инструменты: угрожающего вида страпон на ремешках, многохвостая плеть с длинной рукоятью и моток джутовой веревки.
С тех пор, как Соня переквалифицировалась из обычных проституток в платные госпожи, денег стало больше, а проблем чуть меньше. Соня немного поправила здоровье, вернула долги всем дилерам, которых в свое время смогла разжалобить, и почти забыла про периоды жизни, когда ей приходилось заниматься шкуроходством, время от времени напарываясь на неизвестного состава китайские соли.
- Когда ты уже перестанешь разбрасывать везде свои елдаки? – хмуро спросил гоповатый юноша, который лежал на кровати с кованой спинкой и не попадал в световой круг торшера. На металлическом завитке спинки висела зеленовато-грязная олимпийка – часть спортивного костюма, в который он был одет. Звали жилистого, как заяц, юношу Родя Романов. Он был косым на один глаз, смотрел на мир уверенным взглядом отрицалы и сожительствовал с Соней уже полгода.
- Не возникай, - холодно осадила его Соня.
- Мне надоело, что ты сосешь чужие члены.
- Можешь заняться этим вместо меня, если такой умный.
- А обязательно всем давать, пока ты со мной живешь? – апатично спросил Родя. Он ругался вполсилы и делал это из привычки, просто чтобы не терять тонус. Резко повернувшись на табуретке, Соня указала на Родю пальцем, покачивая острым черным ногтем в такт произносимым фразам:
- Ты. Это ты, Романов, со мной живешь. Если ты не в курсе, мне и на помадки хватает, и на твое содержание. И если тебе что-то не нравится, можешь прямо сейчас валить к своей глухой бабке.
Родя поморщился, однако возражать не решился. Соня была права по всем пунктам. Минул год с того момента, как он потерял работу и начал жить на микрозаймы, прячась от коллекторов на квартирах друзей, любвеобильных подруг и глухой прабабушки, которая жила на Большой Морской и умирать пока не планировала. Иногда ему казалось, что прабабушка даже не думает о смерти, то ли вообще забывая о ней, то ли просто полагаясь на естественный ход событий.
Пока был жив его старший брат Кирилл, который ходил в море и привозил из рейсов контрабандные грузы, Родя находил для него покупателей, выполняя функции посредника, за что получал определенный братский процент. Но когда Кирилл при загадочных обстоятельствах погиб, возить контрабанду было уже некому, а Родя озаботился совсем другим вопросом, на фоне которого проблема трудоустройства меркла.
Кирилла убили в Атлантическом океане, на борту сухогруза «Аркадий Гайдар», который вез к Финскому заливу не только легально оформленные контейнеры, но и десять тонн кокаина, оплаченные и заказанные высокопоставленным лицом из невского синдиката. В нейтральных водах близ Кабо-Верде у Кирилла обострился перитонит. Узнавшие об этом два члена команды, посвященные в тайну груза, решили остальным о перитоните не сообщать, чтобы не заплывать на территорию Кабо-Верде, рискуя лишиться и кокаина, и свободы, и доверия нового начальства. Кирилла задушили и незаметно выбросили за борт, а оставшиеся дни рейса подыгрывали другим морякам и изображали непонимание по поводу исчезновения Кирилла, который был угрюмым, пьющим и наверняка склонным к суициду.
В целости и сохранности доставив кокаин в порт Невской губы, оба виновника выдержали лишь неделю внутренних терзаний, после чего сдались властям и пошли навстречу следствию. За это следствие замяло некоторые нюансы дела, особенно те, что указывали на причастность ФСКН и налаженный ей кокаиновый трафик. Но деятельность наркоконтроля уже давно была для всех секретом Полишинеля, и Родя не мог не понять, почему и ради чего убили Кирилла.
Наркоманам Родя сочувствовал, а барыг, как и полагалось, презирал. В нем быстро разгорелось желание противодействия. Добраться до Алексея Петрова, главы ФСКН, Родя не мог – слишком уж высокий был уровень. Зато мог добраться до полковника Жарова, который возглавлял петербургское управление ФСКН, и совершить народовольческий подвиг в духе Веры Засулич. Родя семь месяцев следил за Жаровым, насколько позволяли его скромные возможности, однако план возмездия оказался тупиковым. Попасть в приемную к Жарову было не так-то просто – особенно с оружием. Скрепя сердце, Родя отложил месть на неопределенное будущее, однако думать о ней не перестал.
Нехотя сев на кровати, он исподлобья посмотрел на Соню:
- И торгаши твои мне тоже надоели. Ты и с ними спишь? А с этим Герычем?
- Герыч уже давно оптовик, - едко улыбнулась она, поставив помаду на лакированный столик трельяжа, - до простых смертных он не снисходит.
- Да почему ты так спокойно об этом говоришь! – воскликнул Родя, сверкнув металлической коронкой. Большинство барыг, с которыми контактировала Соня, были ему одинаково противны, однако особую ненависть он питал к тем, кто выглядел – на взгляд Роди – слишком подозрительно. А подозрительным он находил сочетание внешнего вида, который не сквозил опасностью, с неоправданным гонором. Герыч, с которым Соня общалась довольно долго и очень проблемно, попадал в список подозрительных.
- Потому что ты иж-де-ве-нец, - по складам произнесла Соня, закатив подведенные глаза. Она вложила в этот жест максимум пренебрежения, и Родю, как это обычно бывало, проняло. Хотя впечатление он производил грозное, Соне он почему-то поддавался, хотя и сам не понимал, почему предпочитает бежать от нее, а не бить. Со злым лицом вскочив на ноги, он сдернул олимпийку со спинки кровати, перекинул её через плечо и вышел в коридор, истерично хлопнув дверью.
Подобная сцена происходила далеко не в первый раз: не выдерживая Сониного равнодушия, Родя демонстративно уходил, несколько дней жил у прабабушки, а потом возвращался в Новый Петергоф, чтобы повторить цикл.
Горделиво фыркнув, Соня вернулась к макияжу и принялась пудрить недостаточно здоровое лицо. Машинально растирая пудру пуховкой, она задумалась о недавних попытках насолить Матвею, которые оказались неудачными. Обличающий пост, который она предложила в паблик «Питер сегодня», встретили вялым обсуждением и скепсисом. Одни пафосно обещали расстрелять всех «торговцев смертью», если вдруг им повезет попасть во власть, другие искренне недоумевали, почему от них вообще ждут каких-то действий, а третьи сомневались в правдивости поста, утверждая, что похож Матвей на торчка, но никак не на дилера. Утешало Соню лишь то, что красные гвоздики явно не могли Матвею понравиться.
Невыполненным оставался последний пункт мести, который очень даже мог сработать и на время выбить Матвея из колеи. Соня шла от мягкого воздействия к жесткому. Обычных людей она убедить не могла, зато могла убедить фанатичных активистов «Антидилера». Естественно, умолчав при этом о статусе Матвея, чтобы активисты не сдали назад.
Соня захлопнула пудреницу и перевела взгляд на фотографию древнего города Уплисцихе. Ей было очень обидно, что она не может дотянуться до Матвея и позаимствовать его наличность, которую можно было бы употребить на переезд в Грузию и лучшую жизнь. Связываться с Матвеем было чревато, его деньги автоматически тянули за собой нерешаемые проблемы, а в новую жизнь Соне хотелось шагнуть с изяществом прогуливающейся кошки. Означало это только одно: деньги нужно было отобрать у кого-то другого. А перед этим уговорить Родю и заручиться его физической помощью.
Однажды Соне пришлось высокомерно сидеть в ресторане напротив пузатого китайца, жаждущего особого сорта унижений, за его счет заказывать самые дорогие блюда и окатывать его немым презрением. Китаец изложил свою просьбу с робостью стыдящегося фетишиста, а заплатил щедро. Стараясь не залить шампанским строгое платье, предоставленное китайцем, Соня скучающе поглаживала ножку бокала, согретую теплом ее пальцев, и не забывала метать в собеседника злобные взгляды, то и дело отвлекаясь на стоящий за его спиной кубический аквариум.
Между водорослей и декоративных коряг ползали серовато-коричневые креветки с выпуклыми шариками глаз и длинными клешнями. Одна такая креветка, которая была размером с человеческую ладонь, почти не вылезала из леса водорослей, лишь иногда показывая острую бесчувственную морду. По аквариуму лениво перемещался пятнистый сом.
В очередной раз переведя взгляд с китайца на аквариум, где вовсю кипел естественный отбор, Соня заметила, как сом подплыл к колышущимся водорослям. Из дрожащей зелени выглянула уже знакомая острая морда, и креветка, выскочив на открытый грунт, сдавила тельце сома удушающим хватом клешней и вместе с жертвой попятилась в темные заросли.
Глава 14
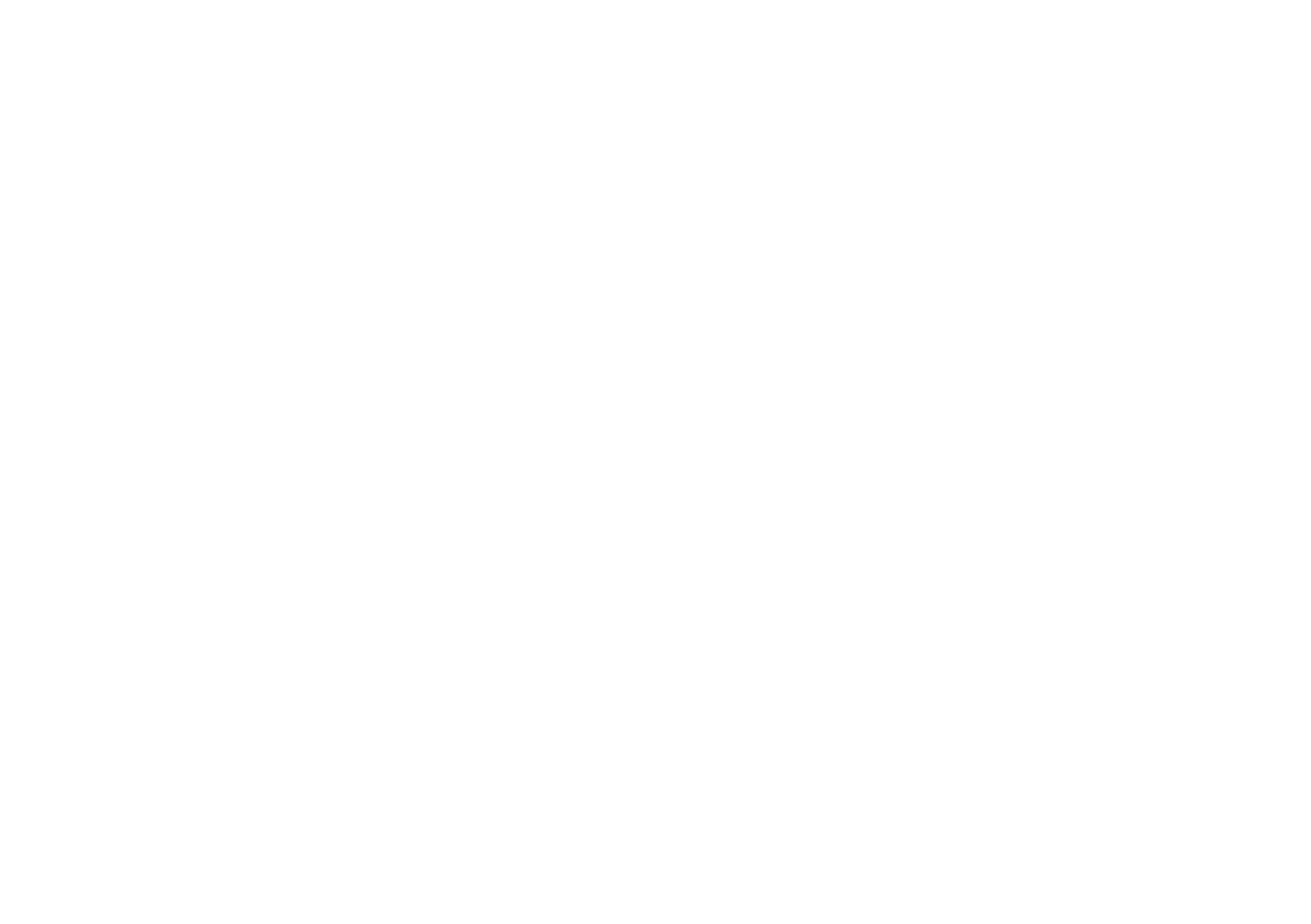
Смерть посылает тебе сигналы – сны, навязчивые идеи, встречи, видения. Научись их расшифровывать.Таким образом она дает тебе знать о себе.
Дугпа Ринпоче, «Жизненные наставления далай-ламы»
Дугпа Ринпоче, «Жизненные наставления далай-ламы»
сентябрь, 2031 год
Пальцы подергивало мелкой дрожью, покрасневшие глаза с расширенными зрачками слезились, словно под веки насыпали сухого песка. Матвей сидел на табуретке, задумчиво курил и смотрел на плоды своих трудов – тяжелый деревянный шкаф с посудой, стоящий в кухне Асиного дома. В застекленном шкафу было шесть секций, и сейчас в каждой из них располагалась до блеска вымытая посуда, распределенная строго по цветам. Больше всего было белой посуды, и отведенную ей полку без пустот занимали тарелки, а бокалы и кружки – красные, зеленые и синие – одиноко стояли в тех полках, куда их определил Матвей.
Затушив сигарету об стенку чашки, которая за утро угрожающе набухла пеплом и окурками, Матвей потерянно вздохнул. Вид у него был несколько дезориентированный и ошалелый, а под глазами пролегли темные синяки, сравнимые оттенками с кофе и разведенной марганцовкой.
Утром пятницы, двое суток назад, к нему в гости нагрянула Ася с заманчивым предложением сходить на рейв, которое Матвей, конечно же, с радостью принял. Добравшись до места, которое находилось на Васильевском острове и раньше было промышленным складом, а теперь носило двусмысленное название «Коксохим», они закинулись в туалете экстази и следующие шесть часов проплясали в подрагивающем полумраке стробоскопов, который полыхал красочными отсветам и полнился обволакивающим ритмичным стуком.
Решив не прекращать веселье и провести выходные как можно лучше, Матвей и Ася, когда их стало отпускать, поехали в Девяткино, где за следующие сутки снюхали несколько граммов мефедрона, периодически выбегая в ближайший мелкий супермаркет за сигаретами. Приготовленный загодя мефедрон неизбежно закончился, и порядком осоловелый Матвей вызвался съездить за добавкой, намереваясь распотрошить один из пакетов, которые нужно было продать Куртову. Однако в сейфе нашелся только кокаин. Матвей прихватил кокаин и на такси вернулся к ожидающей Асе, по пути поддавшись внезапному порыву души и купив бутылку шампанского. Про шампанское, впрочем, они благополучно забыли.
Спустя еще сутки марафона Ася лишилась последних сил и крепко заснула, а вот Матвею заснуть не удалось. Опыт подсказывал, что на исходе третьего дня он точно уснет, однако состояние вынужденного бодрствования всё равно было дискомфортным, хоть и привычным. Не зная, куда себя деть, Матвей перемыл всю посуду и навел на кухне порядок. Морально хотелось хотя бы подремать, однако тело не терпело бездействия и двигалось механически, будто бы без мысленного участия Матвея, который поддавался разогнанному туловищу и плыл по течению.
У него при себе был кодеин, но принимать его, чтобы заглушить стимуляторы, было плохой идеей. Куда более худшей, чем миксовать стимуляторы, а этим Матвей занимался уже почти семьдесят часов. Но существовала и третья альтернатива – очевидная, простая и хорошо ему знакомая: сняться со стимуляторов бухлом.
Открыв холодильник, он достал шампанское – розовое сухое, негромко булькающее в темной бутылке, горловина которой была обернута розовой фольгой с лаконичной надписью «Moёt» - и напоследок заглянул в спальню, где на широкой кровати с деревянной спинкой спала Ася, укрывшаяся простыней. На подушке, словно клубок змей, лежал узел зеленых дредов, а синяя челка спадала на лицо, где яркими пятнами выделялись накрашенные лиловой помадой губы. Из вежливости решив Асю не будить, Матвей осторожно прикрыл дверь спальни. Держа бутылку в руке, он вышел за ворота и вызвал убер.
В сверкающем от солнца воздухе плавился совсем не сентябрьской жарой гладкий асфальт, сияли металлом дорожные знаки и качалась под сплетениями электропроводов клейкая глянцевая зелень, уже тронутая сухой желтизной увядания. Приземистые частные дома, прячущиеся за деревянными воротами, краска на которых уже давно выцвела и превратилась в шелуху, отражали ржавыми крышами нестерпимый солнечный свет. На далеком горизонте виднелся темный штрих туч, которые то и дело рассекала бледная молния, сопровождаемая глухим эхом громового раската. Матвей расстегнул оранжевую толстовку, подставившись теплому свету. Убер должен был подъехать в течение десяти минут.
Путь домой тянулся неопределенно долго. Откинувшись на заднее сиденье, Матвей лежал с закрытыми глазами, перед которыми прыгали неоново-пестрые образы прошедших дней, смешивающиеся в беспорядочный поток информации, из которого сложно было что-то вычленить. Однако сон по-прежнему не шел.
В дворе-колодце, куда выходили окна Матвея, было, как и всегда, прохладно. Возле огороженного и закрытого на замок крохотного сквера с детской площадкой, который располагался в центре двора и принадлежал образовательному центру для дошкольников, терпеливо ждали своих детей хмурые отцы, неприветливо держащиеся на расстоянии друг от друга. Один из них, уткнувшийся в смартфон, был совсем молодым и сутуловатым, второй, одетый в красную ветровку и подтянутый, выглядел старше, а двое других носили на сорокалетних лицах люмпенов характерную для их социального слоя печать бытового пьянства и впечатление производили неказистое.
Держа бутылку шампанского за шершавое от фольги горлышко, Матвей прошел мимо сквера и приблизился к двери парадной, крыльцо которой с обеих сторон было украшено тонкими завитками железных прутьев. Привалившись к фигурной решетке, выполненной в духе ар-деко, курил крупный и рослый мужчина, видимо, тоже ожидающий отпрыска. Помятым лицом он походил на всех боксеров сразу, а сигарету сжимал одними зубами, сосредоточенно выдыхая дым сквозь угрюмый оскал. Его сигареты неприкрыто воняли дешевым химозным табаком.
Это было последнее, что Матвей успел отметить. Когда они поравнялись, верзила вдруг стряхнул с себя фальшивую растерянность. Резко кинув окурок на асфальт, он схватил рассредоточенного Матвея за руку и, дернув на себя, размашисто припечатал его к грязно-розовой стене.
- Что происходит?! – звонко возмутился Матвей, ударившись спиной. Он рванулся вперед, но верзила снова прижал его к стене. Два люмпена, парень со смартфоном и мужчина в красной ветровке сдвинулись с места и, воровато оглядываясь на окна, подошли к Матвею, образовав вокруг него плотный полукруг. Удостоверившись, что всё в порядке, верзила отпустил Матвея.
Настороженно обведя людей глазами, Матвей вспомнил случившуюся летом перестрелку, и ему стало не по себе. Он заметил еще кое-что: то и дело все косились на сухощавого мужчину в красной ветровке, словно ожидая его указаний, а парень нацелился на Матвея камерой смартфона, разделенной на семь окуляров. Матвей снова дернулся вперед, надеясь убежать, и верзила снова толкнул его к стене, но уже с большей грубостью.
- Куда ломишься? – для острастки замахнулся он на Матвея. – Смирно стой. Просто по-хорошему ответь на наши вопросы, и мы не будем тебя бить.
Матвей поморщился. Сочетание камеры и предстоящих вопросов крайне настораживало. Он вспомнил, что с собой у него нет ни пистолета, ни ксивы – он выложил их в спальне, когда ездил за добавкой. Напавшие, желающие поговорить с Матвеем, могли быть кем угодно, однако кем бы они ни были, ничем хорошим это закончиться не могло. Трагичность финала зависела лишь от их статуса и решимости.
- В чем дело? – как можно спокойнее спросил Матвей, обращаясь к мужчине в ветровке. Его вытянутое лицо сочеталось с грубым подбородком, а на красном полиэстере матово мерцали серебристые точки пуговиц. Матвей запоздало понял, что его голос прозвучал предательски прерывисто, и вжался в стену, затылком ощущая мелкие сколы штукатурки.
- Сам-то как думаешь, Матвей Германович Грязев? – начал тот, вскипев неожиданным, но искренним негодованием. – Или тебя лучше Герычем называть, как это делают остальные?
Жестом эксгибициониста он откинул в сторону ворот ветровки, и Матвей заметил у него на свитшоте круглый значок с красноречивой аббревиатурой «АД», которая обозначала официально запрещенную в РФ организацию. Матвей облегченно выдохнул. Бесспорно, встреча с активистами «Антидилера» была плохим событием, но всё же не ужасным, хотя они вполне могли избить его или облить краской.
- Сам-то я вообще без понятия, - сказал он медленно и важно, - может, объясните?
- А я ведь объясню, Грязев, - продолжил активист в ветровке, повысив градус злорадного энтузиазма, - кто героином торгует на Сенной? Ты. А у Балтийского вокзала? Ты. А возле Апрашки? Тоже ты. Ты ведь у нас не только кокаинщик, но и наркобарыга, который травит людей. И очень бессовестный, раз тебе хватает на кокс.
- Да не, мужики, вы что-то напутали, - сказал Матвей, напустив на себя непринужденный вид. Ситуация складывалась неоднозначная. В былые времена, пока «Андидилер» представляла собой законную организацию, они нападали куда большими группами и делали это открыто, иногда даже доходя до откровенного садизма – привязывая пойманных к столбам и силой скармливая им обнаруженные при обыске вещества. Жестокость поступков нивелировалась доказанной и зафиксированной на видео контрольной закупкой, что автоматически лишало пойманного дилера народного сочувствия. «Андидилер» была не первой идеологической организацией, куда стремились скрытые садисты, нуждающиеся в благородном поводе для выплеска агрессии. В общем-то, так функционировали многие идеологические организации, и для них это было естественным, даже неизбежным ходом вещей.
Однако Матвей оказался в более выгодном положении, чем мог бы, случись ему родиться и торговать на пятнадцать лет раньше. Контрольной закупки не было, были только ничем не подкрепленные обвинения в его адрес, которые не то что бы имели значение. А вот прямое признание, зафиксированное на камеру и выложенное в интернет, могло сильно ему навредить. Угрожать крышей явно не следовало, хотя как раз это могло помочь и снять все вопросы, которые так активистов интересовали. Нужно было выйти из положения изящно – не сболтнув лишнего и не слишком сильно пострадав физически.
- Ты совсем страх потерял, пидарас? – грозно смерил его глазами один из люмпенов. Матвей нахмурился. Все собравшиеся ненавидели его искренне, но если ненависть активиста в ветровке была смешана с презрением, то конкретно этот работяга мог избить Матвея, не испытывая при этом брезгливости.
Справа протяжно запищал домофон, распахнулась дверь, ведущая в парадную, и под козырек крыльца вышла женщина - одетая в синюю униформу «Почты России», несущая на плече квадратную почтальонскую сумку, тонкая и блеклая, как моль. На перламутрово-пепельных волосах женщины аккуратно сидела синяя пилотка с двуглавым орлом. Активисты автоматически повернулись в её сторону, а она посмотрела на них в ответ.
- А ну оставьте человека в покое! – прикрикнула она скорее удивленно, чем возмущенно. – Я сейчас в полицию позвоню!
- Так мы не совершаем никакого преступления, - объяснил ей активист, вернув голосу человеческую приветливость, - просто с наркоторговцем по душам беседуем. Проходите мимо, никто никого калечить не будет.
«Спорный вопрос…» - мрачно подумал Матвей, издав тяжелый вздох, шевельнувший крылья ноздрей. Поджав губы тонкой ниткой, женщина кинула на Матвея долгий взгляд, ее сомнение перешло в скепсис, и она спокойно направилась к арке, под потолком которой дрожали кристальные отсветы светодиодных ламп. Невысокие каблуки ритмично стучали по вмятинам асфальта.
- Может, вы полицию вызовете? – прокричал Матвей вслед её удаляющейся спине.
- Никого я вызывать не буду! – огрызнулась она через плечо.
«Тоже мне, гражданское общество», - мелькнуло в голове у Матвея. Однако почтальон подала ему идею. Матвей принял невинный вид, и это далось ему относительно легко – сказывалась внушенная стимуляторами уверенность, еще не сошедшая окончательно.
- Это такой изощренный гоп-стоп? Вы якобы снимаете меня на камеру, прохожим сообщаете, что прессуете наркоторговца и обчищаете мои карманы, пока вам никто не мешает?
- Но мы действительно снимаем тебя на камеру, наркоша, - спокойно возразил оператор, и его юный голос несмело дрогнул, - прямая трансляция. Давай, улыбнись и покажи всему интернету свою пронюханную рожу.
- Если считаете меня наркоторговцем, мы можем прямо сейчас, вместе отправиться в отдел полиции, чтобы они выслушали ваши претензии и разобрались, виноват я или нет, - нахмурился Матвей.
- Как же, посадят они тебя, гнида! – сорвался на крик второй люмпен, который всё это время молчал.
- Зачем в Петербург переехал? – решительно указал на него активист. – Наркотой торговать?
На фоне грязно-розовой стены возникло белое пятно накрахмаленного колпака: из окна третьего этажа выглянула молодая нянечка, работающая в детском центре, которая уже давно вслушивалась в агрессивный гомон.
- Да позовите уже мусоров! – выкрикнула нянечка, не выдержав.
- Ребята молодые, сами разберутся, - возразил ей солидный мужской голос с другого угла двора.
- Этим должны не ребята заниматься, а полиция! - вмешалась в перепалку грубая женщина, и её голос прокатился по двору гулким эхом.
- Почему у тебя зрачки большие? – продолжал сыпать вопросами активист. – Ты под коксом? Что еще употребляешь?
Матвей напрягся всем телом и крепко сжал горлышко бутылки, которое за время беседы успело стать скользким. В школьные годы он дрался редко – играл роль флегматичный склад характера, но если это случалось, то он вкладывался в драку всей душой. Однажды он даже замахнулся на трудовика рубанком и чуть не попал ему по макушке, случайно скосив и обрушив удар на предплечье. В школу вызвали мать, запахло учетом в детской комнате полиции, потому что Матвею было всего пятнадцать. Однако трудовик, которому вдруг захотелось поговорить с Матвеем о его родителях, оказался не совсем трезвым, и директриса спустила дело на тормозах, потому что Матвей хорошо играл на баяне, а контрольные по русскому языку и сочинения по литературе писал на «отлично». Словом, был не самым худшим учеником, хоть и троечником по всем остальным предметам.
- Ты осознаешь, что принимаешь участие в геноциде русского народа? – нехорошим тоном спрашивал активист, подходя все ближе. – Наркотики изобрели в Америке, а поставляют их к нам из Китая. По плану Даллеса, программе по снижению численности населения. Слышал про такое? Маргарет Тэтчер говорила, что население России нужно сократить до десяти миллионов человек. По факту ты являешься вражеским солдатом, ты убиваешь людей. Но не из оружия, а своей наркотой.
Матвей искренне не понимал, как связаны между собой Китай, где наркоторговцев приговаривали к расстрелу, Америка, которая и сама страдала от опиоидного кризиса, и Маргарет Тэтчер, которая была премьер-министром Великобритании, а вовсе не Америки. Еще он не понимал, какой вообще был смысл в засланных наркоторговцах при наличии синьки - русский народ прекрасно справлялся и без Маргарет Тэтчер.
- То есть, решать вопрос законным путем вы не хотите? – уточнил Матвей угрожающим тоном.
- Ты за ментами не прячься, - сказал верзила, пристально посмотрев на него и мрачно улыбнувшись, - веди себя по-мужски. Надо отвечать за свои поступки.
- За поступки, которых я не совершал?
- А ездишь ты на чем? А в руке у тебя что? – продолжал наседать активист.
- Моёт, - невозмутимо ответил Матвей, покосившись на бутылку шампанского, которая почему-то не вызвала у активистов опасений.
- Моэт! – активист схватил его за грудки и подтащил к себе. – Пять тысяч за бутылку!
- Шесть, - так же невозмутимо поправил Матвей и добавил, - раз вы не хотите разбираться законно, значит, я прав, и вам невыгодно связываться с полицией, потому что то, чем вы занимаетесь, это тупо гоп-стоп.
- Гоп-стоп?! – закричал активист, выйдя из себя. – Лучше объясни, на какие деньги ты, официально безработный, такую машину купил? Ты хоть представляешь, сколько лет на нее должен копить честный человек?
- Я тебя по-человечески предупреждал, мудила, - прошипел Матвей ему в лицо, оскалив зубы, и резко взмахнул правой рукой. Бутылка не выдержала столкновения со стеной, осыпавшись на грязный асфальт темными искрами осколков и плеснув поверх розоватыми шампанским, и превратилась в скошенную розочку, с длинных зубьев которой капала пена. Левой рукой Матвей ухватил активиста за воротник и упал вместе с ним на землю. Он ткнул розочкой куда-то в красное. Рукав ветровки с треском порвался.
Довершить начатое Матвей не успел. Выбив бутылку, один из люмпенов заломил ему руку, заставил подняться и поволок подальше от активиста, к которому сразу же кинулся верзила. Тот пытался встать, а сквозь прореху в рукаве виднелось расползающееся по одежде красное пятно. Растерявшийся оператор стоял на месте и продолжал снимать, не понимая, что ему теперь делать.
- Успокойся, бля! – прикрикнул люмпен, продолжая волочь сопротивляющегося Матвея в угол двора. Матвей собрался громко что-то возразить, но второй люмпен, который неотступно следовал за первым, зажал Матвею рот. Матвей вцепился зубами в пахнущую дешевым табаком ладонь, и тот с воем отнял руку. Матвей изо всех сил ударил головой и попал лбом ему по переносице, однако сразу же получил ответный удар по печени. Простонав, он обмяк, упал на колени и уткнулся лбом в клейкий от шампанского асфальт. Его больше не держали.
Арка наполнилась надрывным свистом, который ворвался во двор гулким эхом. Вбежали три казака в зеленых кафтанах. Заросший бородой приказный, чья кубанка сползла набок, держал в правой руке нагайку, а на поясе у него висела рация. На выходе из арки он замер, и вместе с ним остановились два рядовых казака, на которых были фуражки с зеленым околышем. У них тоже были бороды, но юношеские – жидкие, неубедительные и вызывающие не трепет перед представителями закона, а саркастичную улыбку.
Первым отступил верзила. Он побежал прямо на рядовых казаков, которые преграждали ему дорогу, и те, завидев его габариты и мрачную целеустремленность, шарахнулись в сторону, словно они были магнитами с одинаковыми полюсами. По освободившемуся проходу сбежали люмпены и бледный от страха оператор, который уже ничего не снимал. Приказный сурово посмотрел на рядовых. Они виновато замялись и кинулись исправлять оплошность, начав крутить руки двум оставшимся участникам драки.
- Чего вы меня-то вяжете? – дернулся Матвей, но казак отработанным движением надел на него наручники и уложил его лицом в асфальт. – Это они на меня напали!
- В отделе разберутся, кто на кого напал, - назидательно произнес подошедший приказный и с силой хлестнул Матвея нагайкой по спине. Матвей кратко вскрикнул, дернувшись всем телом, и замолчал. Объяснять что-то казаку, который упивался своим служебным положением, как дорвавшийся до власти концлагерный капо, было бессмысленно.
- А его за наркосбыт не хотите забрать?! – кричал активист, которому тоже сковали руки и уложили на землю. Приказный с таким же должностным усердием хлестнул нагайкой и его.
- Мы на драку пришли, за драку и забираем. Что тебе непонятно? – спросил он, гордо глядя на активиста. – Дадите показания, выплатите штраф, а остальное уже не наше дело.
- Да он же в сопли нанюханный! – активист попытался негодующе взмахнуть скованными за спиной руками и получил второй размашистый удар, прошипев сквозь сжатые зубы. Рядовой казак заставил его подняться и толкнул к стене, где уже стоял Матвей, вымазанный уличной пылью. На блеклом перепачканном лице темнели под глазами круги, а черные глаза осоловело блестели.
- Я смотрю, ты не очень умный, - тихо сказал он активисту, на всякий случай не делая лишних движений. Активист возмущенно повернулся к нему, рубанув воздух за спиной сжатыми кулаками.
- Харе, ребята, - пригрозил приказный, продемонстрировав им свернутую вдвое нагайку, - угомонитесь уже.
Активист исподлобья посмотрел на него, однако успокоился и отодвинулся от Матвея. Матвей же, нервно перебирая за спиной пальцами скованных рук, не обратил на это никакого внимания. Он покачивал подбородком, то и дело роняя его на грудь, но неизменно вскидывал голову, моргал широко раскрытыми глазами и прикусывал губу. Ему наконец-то захотелось спать. Если бы не приказный с нагайкой, он бы улегся прямо на асфальт, проигнорировав все внешние обстоятельства.
Отойдя в сторону, приказный снял с пояса рацию и что-то в нее сказал. Через пять минут, которые Матвея провел в тусклом тумане дремы, во двор с кряканьем заехал черный уазик патрульно-постовой службы, мигающий рубиново-бирюзовой сиреной. Из уазика деловито вышли белобрысый прапорщик с несколько угловатыми движениями и рыжий сержант, казавшийся совсем молодым. Оба были в темно-синих куртках на молнии, форменных кепках и начищенных берцах. Повесив нагайку на пояс, приказный широким шагом подошел к прапорщику и принялся что-то объяснять, указывая то на Матвея, который пытался не закрывать глаза слишком надолго, то на активиста, в мимике которого проглядывала сдерживаемая злоба.
Кивнув приказному, прапорщик окинул взглядом асфальт, усыпанный переливающимися осколками и липкими пятнами пролившегося шампанского. Главным элементом композиции было горлышко бутылки, декорированное клубнично-розовой фольгой и ощетинившееся длинными острыми зубьями. Прапорщик задумчиво толкнул его мыском берца. Горлышко покатилось и, описав полный круг, замерло. Он перевел безучастный взгляд на Матвея с активистом:
- Из-за чего подрались?
- На кофте у него посмотрите, - пробормотал Матвей, в очередной раз вскинув голову. Откинув ворот ветровки, прапорщик заметил крупный значок «Антидилера», приколотый к свитшоту активиста. Тот сразу же подобрался и принял вид христианского мученика, страдающего за идею. Прапорщик пытливо покосился на Матвея, предвкушая новую и беспроигрышную «палку».
- Так, так, так… - угрожающе начал он, схватив засыпающего Матвея за подбородок и заставив посмотреть на себя. – Барыжишь, значит, урод?
- Я работаю на Асфара Юнусовича, - сонно ответил Матвей. Прапорщик мгновенно озадачился. Отпустив засыпающего Матвея, он сложил руки за спиной и принялся ходить из стороны в сторону. Приказный, сбитый с толку его поведением, опасливо покосился на Матвея.
- Дебил… - сквозь зубы бросил ему прапорщик и запрокинул голову к небу, где висела едва различимая точка наблюдательного дрона, через который казаки заметили драку.
- Вырубай камеру, - приказал он приказному. Сконфуженно достав смартфон, тот несколько раз провел пальцем по экрану. Прапорщик обратился к Матвею, но уже без прежней враждебности:
- Ехать-то всё равно придется.
Вымотанный Матвей пожал плечами. Активист попытался что-то сказать, но смог только открыть рот и тут же его закрыть. Рядовой казак снял с Матвея наручники и отошел в сторону, напустив на себя крайне непринужденный вид.
- Грузи этого идиота в клетку, - приказал прапорщик к сержанту, а потом повернулся к Матвею, - а ты назад садись. В отделе объяснишь кому надо про Асфара Юнусовича.
Сержант потащил упирающегося активиста в отсек для задержанных. Потирая затекшие от наручников запястья, Матвей с видимым облегчением упал на заднее сиденье и закрыл слипающиеся глаза. Прапорщик сел за руль, неодобрительно покосился на него через зеркало заднего вида, но ничего не сказал. Через минуту Матвей уже крепко спал.
***
Тридцатилетний дознаватель Масюк, на плечах которого тускло мерцали капитанские погоны, сидел за столом своего узкого кабинета, под самым потолком которого располагалось узкое окно. В стекле, по ту сторону которого дрожали капли дождя, отражался конус абажура, разбрасывающий лампы по бледно-коричневым стенам и лаковому козырьку фуражки, в тени которого скрывались глаза Масюка. Изображая бурно работающую мысль, тот сурово смотрел в планшет и листал новостную ленту. КПРФ предлагала канонизировать Сталина, петербургские коммунисты требовал закрыть выставку популярного в узких кругах художника, потому что она оскорбляла чувства православных верующих, а петербургское казачество обвиняло в ограблении своей штаб-квартиры петербургских же тамплиеров. Ничего необычного в новостях не было.
По ту сторону стола сидели Виталий Стрелков, активист ныне запрещенного «Антидилера», и Матвей Грязев, барыга, работающий под крылом полковника Жарова. На запястьях Стрелкова, во время ареста испачкавшегося в пыли, бликовали наручники. Правый рукав ветровки был порван, а края прорехи и одежда под ней темнели засохшей кровью. А вот барыга успел умыться и привести себя в порядок, так что выглядел теперь не в пример лучше оппонента. Тощим долговязым туловищем, волнистыми вихрами волос и сдержанным выражением лица он напоминал охотничью собаку. Исход ситуации был ясен всем. Кроме, пожалуй, Стрелкова, который полагал, что еще может выкрутиться, и даже не догадывался, что задержали его до прибытия службы охраны, которая опекала работающих на государство наркоторговцев и должна была окончательно ему всё разъяснить.
Список нарушений Стрелкова состоял из уличных драк, за которые были выплачены все назначенные штрафы. Нарушения барыги были исключительно административными, и чаще всего его задерживали в состоянии наркотического опьянения. Сейчас оба молчали и ждали, когда дознаватель заговорит. Нервничающий Стрелков кусал губы, а барыга с сонным видом рассматривал собственные ногти.
День Масюка не задался с самого утра. В десять часов пришла женщина, которую избил муж, сломав ей руку и два ребра. Это было уже восьмое заявление, и женщина намеревалась посадить мужа, но его нарушение было административным, и получить он мог лишь пятнадцать суток. Ее ожидали две недели спокойствия, однако Масюк предполагал, что до девятого заявления она не доживет. В полдень к нему в кабинет ворвалась пенсионерка Трепова, которая обычно с нездоровым удовольствием писала жалобы на соседей, но в этот раз она требовала запретить концерт музыкальной группы «Летняя тошнота», почему-то решив обратиться к Масюку, хотя следовало жаловаться напрямую в Роскомнадзор. Разбираться с барыгой полковника Жарова, который идеально дополнял ежедневный паноптикум отдела полиции, достойный Готэма, у Масюка не было никакого желания, но была обязанность.
- Вы зачем на человека напали? Группой и по предварительному сговору? – устало спросил он у активиста, отложив планшет. – По этапу пойдешь, Стрелков. Прямо в Мордовию. Можешь у Грязева спросить, как живется в Мордовии, он тебе всё расскажет, он там родился.
- Может быть, потому что он барыга?! – вспылил Стрелков, содрогнувшись ослабшим телом. – Вообще-то это ваша обязанность, а не наша. Сначала вы торговцев смертью крышуете, а потом они всю дурь легализуют и будут безнаказанно народ травить!
- Ты очень стереотипный наркофоб, - угрюмо посмотрел на него барыга, подняв голову и оторвавшись от созерцания ногтей. Гнусавый голос выдавал в нем наркомана, плотно знакомого с порошками.
- Весь этот гуманизм – всего лишь либеральная блажь. Еще Ройзман говорил, что нарколыги это животные, а барыги – людоеды, и выходит, что ты…
- Тот Ройзман, у которого в рехабах люди умирали?
- Не люди, а нарколыги! – воскликнул Стрелков. – А сволочи вроде тебя только и мечтают о легализации!
- Очень в этом сомневаюсь, - усмехнулся барыга, хитро прищурившись, - в нелегальном положении наркотики приносят намного больше денег. Ты разве не в курсе? Топишь против наркотиков, а элементарных вещей не знаешь.
- Вы же сами слышите! – пораженно выкрикрнул Стрелков, повернувшись к Масюку, который следил за их перепалкой с откровенно кислой миной. – Он даже не отрицает!
- Грязев… - укоризненно покачал головой Масюк, обращаясь только к барыге, будто Стрелкова в кабинете не было. - Я понимаю, что ты злишься, но давай не будем отвлекаться на частности. Чем раньше мы закончим, тем раньше ты пойдешь домой.
- Откуда ты вообще знаешь такие подробности?! – сорвался на крик Стрелков, сжав кулаки до белизны пальцев, и впился в барыгу откровенно враждебным взглядом.
- Я знаю это, потому что я – сотрудник ФСКН, - отчетливо проговорил тот, - знать это – моя работа.
- Какой еще сотрудник ФСКН! – вскочил со стула Стрелков. – Этот пиздюк?!
- Не выражайся, гондон, - мрачно посмотрел на него Масюк и выпрямился во весь рост, упершись ладонями в стол. В его неторопливых, но уверенных движениях, одинаково уместных и в отделе полиции, и в темном закоулке спального района, сквозила скрытая угроза. Стрелков сцепил пальцы в нервозный замок и оторопело сел на место. Масюк закрыл в планшете вкладку с новостями и продемонстрировал Стрелкову страницу из базы данных, где находились данные, указанные в служебных документах внешнего сотрудника Грязева. Стрелков опустил голову. Его плечи поникли, словно у него выбили табурет из-под ног, лишив последней хрупкой опоры.
- Вы не можете просто так его отпустить… - нерешительно пробормотал он, косясь на барыгу. – Почему он тогда мне ксиву не показал, раз он настоящий сотрудник ФСКН?
- Ты совсем дурак? – Масюк уставился на него, как на клинического идиота. – Грязев – осведомитель ФСКН, а ты хочешь, чтобы он на весь интернет ксивой светил. Как ему после такого оперативную работу вести? В этом и смысл, что осведомитель должен скрывать от преступников, что он осведомитель.
- И сбывать наркотики тоже должен? – спросил Стрелков. Поморщившись, он закусил губу.
- Если этого требует оперативная работа, то должен, конечно, - ответил Масюк. Шумно выдохнув, он снял фуражку, положил её на стол и провел ладонью по взмокшему лбу. На алом околыше фуражки сухо блестела кокарда, напоминающая вертикальный голубой глаз с багровым зрачком.
- У него наверняка дома ствол лежит, а разрешения на ствол нет… - еще тише продолжил Стрелков.
- Вот его разрешение, - постучал пальцем Масюк по экрану планшета, где до сих пор виднелась вкладка с данными барыги, - хватит уже тупые вопросы задавать.
Стрелков беззвучно сгорбился, уткнувшись лицом в колени, и обхватил голову скованными руками. Барыга посмотрел на него с неловкостью, которую обычно адресуют перепившим на семейном застолье родственникам.
Со скрипом распахнулась дверь, и в кабинет без предупреждения ворвалась пенсионерка Трепова, дожившая до глубин старческого возраста. Кислотно-рыжие волосы падали на мятые плечи белого плаща, а за квадратными очками моргали увеличенные глаза. При виде пенсионерки у Масюка нехорошо дернулось лицо.
- …а я еще утром рассказывала вам про безбожников из «Летней тошноты», которые пропагандируют суицид и наркотики, - продолжила она фразу, начало которой, видимо, произнесла еще в коридоре, и целеустремленно засеменила к столу, совершенно проигнорировав Грязева и Стрелкова. Масюк с пренебрежением её перебил:
- Это не наша юрисдикция. Пишите в Роскомнадзор. Или хотя бы в Яндекс.Донос.
- Сто лет назад в России издавали газету «Безбожник», - вдруг произнес барыга тихо, но отчетливо, не обращаясь к кому-то конкретному. Масюк с удивлением повернулся к нему – он не ожидал от него такой эрудиции. Пенсионерка упустила эту реплику, потому что была глуховата, впрочем, не заметила она и того, что её поспешно вывел прибежавший сержант. Дверь кабинета со скрипом захлопнулась.
Стрелков не обратил на это ни малейшего внимания. Стискивая пальцами виски, он прятал лицо в коленях и отрывисто, но тихо вздыхал, вытягивая из памяти Масюка дни деревенского детства и изодранных в кровь кроликов, замученных собратьями.
Пальцы подергивало мелкой дрожью, покрасневшие глаза с расширенными зрачками слезились, словно под веки насыпали сухого песка. Матвей сидел на табуретке, задумчиво курил и смотрел на плоды своих трудов – тяжелый деревянный шкаф с посудой, стоящий в кухне Асиного дома. В застекленном шкафу было шесть секций, и сейчас в каждой из них располагалась до блеска вымытая посуда, распределенная строго по цветам. Больше всего было белой посуды, и отведенную ей полку без пустот занимали тарелки, а бокалы и кружки – красные, зеленые и синие – одиноко стояли в тех полках, куда их определил Матвей.
Затушив сигарету об стенку чашки, которая за утро угрожающе набухла пеплом и окурками, Матвей потерянно вздохнул. Вид у него был несколько дезориентированный и ошалелый, а под глазами пролегли темные синяки, сравнимые оттенками с кофе и разведенной марганцовкой.
Утром пятницы, двое суток назад, к нему в гости нагрянула Ася с заманчивым предложением сходить на рейв, которое Матвей, конечно же, с радостью принял. Добравшись до места, которое находилось на Васильевском острове и раньше было промышленным складом, а теперь носило двусмысленное название «Коксохим», они закинулись в туалете экстази и следующие шесть часов проплясали в подрагивающем полумраке стробоскопов, который полыхал красочными отсветам и полнился обволакивающим ритмичным стуком.
Решив не прекращать веселье и провести выходные как можно лучше, Матвей и Ася, когда их стало отпускать, поехали в Девяткино, где за следующие сутки снюхали несколько граммов мефедрона, периодически выбегая в ближайший мелкий супермаркет за сигаретами. Приготовленный загодя мефедрон неизбежно закончился, и порядком осоловелый Матвей вызвался съездить за добавкой, намереваясь распотрошить один из пакетов, которые нужно было продать Куртову. Однако в сейфе нашелся только кокаин. Матвей прихватил кокаин и на такси вернулся к ожидающей Асе, по пути поддавшись внезапному порыву души и купив бутылку шампанского. Про шампанское, впрочем, они благополучно забыли.
Спустя еще сутки марафона Ася лишилась последних сил и крепко заснула, а вот Матвею заснуть не удалось. Опыт подсказывал, что на исходе третьего дня он точно уснет, однако состояние вынужденного бодрствования всё равно было дискомфортным, хоть и привычным. Не зная, куда себя деть, Матвей перемыл всю посуду и навел на кухне порядок. Морально хотелось хотя бы подремать, однако тело не терпело бездействия и двигалось механически, будто бы без мысленного участия Матвея, который поддавался разогнанному туловищу и плыл по течению.
У него при себе был кодеин, но принимать его, чтобы заглушить стимуляторы, было плохой идеей. Куда более худшей, чем миксовать стимуляторы, а этим Матвей занимался уже почти семьдесят часов. Но существовала и третья альтернатива – очевидная, простая и хорошо ему знакомая: сняться со стимуляторов бухлом.
Открыв холодильник, он достал шампанское – розовое сухое, негромко булькающее в темной бутылке, горловина которой была обернута розовой фольгой с лаконичной надписью «Moёt» - и напоследок заглянул в спальню, где на широкой кровати с деревянной спинкой спала Ася, укрывшаяся простыней. На подушке, словно клубок змей, лежал узел зеленых дредов, а синяя челка спадала на лицо, где яркими пятнами выделялись накрашенные лиловой помадой губы. Из вежливости решив Асю не будить, Матвей осторожно прикрыл дверь спальни. Держа бутылку в руке, он вышел за ворота и вызвал убер.
В сверкающем от солнца воздухе плавился совсем не сентябрьской жарой гладкий асфальт, сияли металлом дорожные знаки и качалась под сплетениями электропроводов клейкая глянцевая зелень, уже тронутая сухой желтизной увядания. Приземистые частные дома, прячущиеся за деревянными воротами, краска на которых уже давно выцвела и превратилась в шелуху, отражали ржавыми крышами нестерпимый солнечный свет. На далеком горизонте виднелся темный штрих туч, которые то и дело рассекала бледная молния, сопровождаемая глухим эхом громового раската. Матвей расстегнул оранжевую толстовку, подставившись теплому свету. Убер должен был подъехать в течение десяти минут.
Путь домой тянулся неопределенно долго. Откинувшись на заднее сиденье, Матвей лежал с закрытыми глазами, перед которыми прыгали неоново-пестрые образы прошедших дней, смешивающиеся в беспорядочный поток информации, из которого сложно было что-то вычленить. Однако сон по-прежнему не шел.
В дворе-колодце, куда выходили окна Матвея, было, как и всегда, прохладно. Возле огороженного и закрытого на замок крохотного сквера с детской площадкой, который располагался в центре двора и принадлежал образовательному центру для дошкольников, терпеливо ждали своих детей хмурые отцы, неприветливо держащиеся на расстоянии друг от друга. Один из них, уткнувшийся в смартфон, был совсем молодым и сутуловатым, второй, одетый в красную ветровку и подтянутый, выглядел старше, а двое других носили на сорокалетних лицах люмпенов характерную для их социального слоя печать бытового пьянства и впечатление производили неказистое.
Держа бутылку шампанского за шершавое от фольги горлышко, Матвей прошел мимо сквера и приблизился к двери парадной, крыльцо которой с обеих сторон было украшено тонкими завитками железных прутьев. Привалившись к фигурной решетке, выполненной в духе ар-деко, курил крупный и рослый мужчина, видимо, тоже ожидающий отпрыска. Помятым лицом он походил на всех боксеров сразу, а сигарету сжимал одними зубами, сосредоточенно выдыхая дым сквозь угрюмый оскал. Его сигареты неприкрыто воняли дешевым химозным табаком.
Это было последнее, что Матвей успел отметить. Когда они поравнялись, верзила вдруг стряхнул с себя фальшивую растерянность. Резко кинув окурок на асфальт, он схватил рассредоточенного Матвея за руку и, дернув на себя, размашисто припечатал его к грязно-розовой стене.
- Что происходит?! – звонко возмутился Матвей, ударившись спиной. Он рванулся вперед, но верзила снова прижал его к стене. Два люмпена, парень со смартфоном и мужчина в красной ветровке сдвинулись с места и, воровато оглядываясь на окна, подошли к Матвею, образовав вокруг него плотный полукруг. Удостоверившись, что всё в порядке, верзила отпустил Матвея.
Настороженно обведя людей глазами, Матвей вспомнил случившуюся летом перестрелку, и ему стало не по себе. Он заметил еще кое-что: то и дело все косились на сухощавого мужчину в красной ветровке, словно ожидая его указаний, а парень нацелился на Матвея камерой смартфона, разделенной на семь окуляров. Матвей снова дернулся вперед, надеясь убежать, и верзила снова толкнул его к стене, но уже с большей грубостью.
- Куда ломишься? – для острастки замахнулся он на Матвея. – Смирно стой. Просто по-хорошему ответь на наши вопросы, и мы не будем тебя бить.
Матвей поморщился. Сочетание камеры и предстоящих вопросов крайне настораживало. Он вспомнил, что с собой у него нет ни пистолета, ни ксивы – он выложил их в спальне, когда ездил за добавкой. Напавшие, желающие поговорить с Матвеем, могли быть кем угодно, однако кем бы они ни были, ничем хорошим это закончиться не могло. Трагичность финала зависела лишь от их статуса и решимости.
- В чем дело? – как можно спокойнее спросил Матвей, обращаясь к мужчине в ветровке. Его вытянутое лицо сочеталось с грубым подбородком, а на красном полиэстере матово мерцали серебристые точки пуговиц. Матвей запоздало понял, что его голос прозвучал предательски прерывисто, и вжался в стену, затылком ощущая мелкие сколы штукатурки.
- Сам-то как думаешь, Матвей Германович Грязев? – начал тот, вскипев неожиданным, но искренним негодованием. – Или тебя лучше Герычем называть, как это делают остальные?
Жестом эксгибициониста он откинул в сторону ворот ветровки, и Матвей заметил у него на свитшоте круглый значок с красноречивой аббревиатурой «АД», которая обозначала официально запрещенную в РФ организацию. Матвей облегченно выдохнул. Бесспорно, встреча с активистами «Антидилера» была плохим событием, но всё же не ужасным, хотя они вполне могли избить его или облить краской.
- Сам-то я вообще без понятия, - сказал он медленно и важно, - может, объясните?
- А я ведь объясню, Грязев, - продолжил активист в ветровке, повысив градус злорадного энтузиазма, - кто героином торгует на Сенной? Ты. А у Балтийского вокзала? Ты. А возле Апрашки? Тоже ты. Ты ведь у нас не только кокаинщик, но и наркобарыга, который травит людей. И очень бессовестный, раз тебе хватает на кокс.
- Да не, мужики, вы что-то напутали, - сказал Матвей, напустив на себя непринужденный вид. Ситуация складывалась неоднозначная. В былые времена, пока «Андидилер» представляла собой законную организацию, они нападали куда большими группами и делали это открыто, иногда даже доходя до откровенного садизма – привязывая пойманных к столбам и силой скармливая им обнаруженные при обыске вещества. Жестокость поступков нивелировалась доказанной и зафиксированной на видео контрольной закупкой, что автоматически лишало пойманного дилера народного сочувствия. «Андидилер» была не первой идеологической организацией, куда стремились скрытые садисты, нуждающиеся в благородном поводе для выплеска агрессии. В общем-то, так функционировали многие идеологические организации, и для них это было естественным, даже неизбежным ходом вещей.
Однако Матвей оказался в более выгодном положении, чем мог бы, случись ему родиться и торговать на пятнадцать лет раньше. Контрольной закупки не было, были только ничем не подкрепленные обвинения в его адрес, которые не то что бы имели значение. А вот прямое признание, зафиксированное на камеру и выложенное в интернет, могло сильно ему навредить. Угрожать крышей явно не следовало, хотя как раз это могло помочь и снять все вопросы, которые так активистов интересовали. Нужно было выйти из положения изящно – не сболтнув лишнего и не слишком сильно пострадав физически.
- Ты совсем страх потерял, пидарас? – грозно смерил его глазами один из люмпенов. Матвей нахмурился. Все собравшиеся ненавидели его искренне, но если ненависть активиста в ветровке была смешана с презрением, то конкретно этот работяга мог избить Матвея, не испытывая при этом брезгливости.
Справа протяжно запищал домофон, распахнулась дверь, ведущая в парадную, и под козырек крыльца вышла женщина - одетая в синюю униформу «Почты России», несущая на плече квадратную почтальонскую сумку, тонкая и блеклая, как моль. На перламутрово-пепельных волосах женщины аккуратно сидела синяя пилотка с двуглавым орлом. Активисты автоматически повернулись в её сторону, а она посмотрела на них в ответ.
- А ну оставьте человека в покое! – прикрикнула она скорее удивленно, чем возмущенно. – Я сейчас в полицию позвоню!
- Так мы не совершаем никакого преступления, - объяснил ей активист, вернув голосу человеческую приветливость, - просто с наркоторговцем по душам беседуем. Проходите мимо, никто никого калечить не будет.
«Спорный вопрос…» - мрачно подумал Матвей, издав тяжелый вздох, шевельнувший крылья ноздрей. Поджав губы тонкой ниткой, женщина кинула на Матвея долгий взгляд, ее сомнение перешло в скепсис, и она спокойно направилась к арке, под потолком которой дрожали кристальные отсветы светодиодных ламп. Невысокие каблуки ритмично стучали по вмятинам асфальта.
- Может, вы полицию вызовете? – прокричал Матвей вслед её удаляющейся спине.
- Никого я вызывать не буду! – огрызнулась она через плечо.
«Тоже мне, гражданское общество», - мелькнуло в голове у Матвея. Однако почтальон подала ему идею. Матвей принял невинный вид, и это далось ему относительно легко – сказывалась внушенная стимуляторами уверенность, еще не сошедшая окончательно.
- Это такой изощренный гоп-стоп? Вы якобы снимаете меня на камеру, прохожим сообщаете, что прессуете наркоторговца и обчищаете мои карманы, пока вам никто не мешает?
- Но мы действительно снимаем тебя на камеру, наркоша, - спокойно возразил оператор, и его юный голос несмело дрогнул, - прямая трансляция. Давай, улыбнись и покажи всему интернету свою пронюханную рожу.
- Если считаете меня наркоторговцем, мы можем прямо сейчас, вместе отправиться в отдел полиции, чтобы они выслушали ваши претензии и разобрались, виноват я или нет, - нахмурился Матвей.
- Как же, посадят они тебя, гнида! – сорвался на крик второй люмпен, который всё это время молчал.
- Зачем в Петербург переехал? – решительно указал на него активист. – Наркотой торговать?
На фоне грязно-розовой стены возникло белое пятно накрахмаленного колпака: из окна третьего этажа выглянула молодая нянечка, работающая в детском центре, которая уже давно вслушивалась в агрессивный гомон.
- Да позовите уже мусоров! – выкрикнула нянечка, не выдержав.
- Ребята молодые, сами разберутся, - возразил ей солидный мужской голос с другого угла двора.
- Этим должны не ребята заниматься, а полиция! - вмешалась в перепалку грубая женщина, и её голос прокатился по двору гулким эхом.
- Почему у тебя зрачки большие? – продолжал сыпать вопросами активист. – Ты под коксом? Что еще употребляешь?
Матвей напрягся всем телом и крепко сжал горлышко бутылки, которое за время беседы успело стать скользким. В школьные годы он дрался редко – играл роль флегматичный склад характера, но если это случалось, то он вкладывался в драку всей душой. Однажды он даже замахнулся на трудовика рубанком и чуть не попал ему по макушке, случайно скосив и обрушив удар на предплечье. В школу вызвали мать, запахло учетом в детской комнате полиции, потому что Матвею было всего пятнадцать. Однако трудовик, которому вдруг захотелось поговорить с Матвеем о его родителях, оказался не совсем трезвым, и директриса спустила дело на тормозах, потому что Матвей хорошо играл на баяне, а контрольные по русскому языку и сочинения по литературе писал на «отлично». Словом, был не самым худшим учеником, хоть и троечником по всем остальным предметам.
- Ты осознаешь, что принимаешь участие в геноциде русского народа? – нехорошим тоном спрашивал активист, подходя все ближе. – Наркотики изобрели в Америке, а поставляют их к нам из Китая. По плану Даллеса, программе по снижению численности населения. Слышал про такое? Маргарет Тэтчер говорила, что население России нужно сократить до десяти миллионов человек. По факту ты являешься вражеским солдатом, ты убиваешь людей. Но не из оружия, а своей наркотой.
Матвей искренне не понимал, как связаны между собой Китай, где наркоторговцев приговаривали к расстрелу, Америка, которая и сама страдала от опиоидного кризиса, и Маргарет Тэтчер, которая была премьер-министром Великобритании, а вовсе не Америки. Еще он не понимал, какой вообще был смысл в засланных наркоторговцах при наличии синьки - русский народ прекрасно справлялся и без Маргарет Тэтчер.
- То есть, решать вопрос законным путем вы не хотите? – уточнил Матвей угрожающим тоном.
- Ты за ментами не прячься, - сказал верзила, пристально посмотрев на него и мрачно улыбнувшись, - веди себя по-мужски. Надо отвечать за свои поступки.
- За поступки, которых я не совершал?
- А ездишь ты на чем? А в руке у тебя что? – продолжал наседать активист.
- Моёт, - невозмутимо ответил Матвей, покосившись на бутылку шампанского, которая почему-то не вызвала у активистов опасений.
- Моэт! – активист схватил его за грудки и подтащил к себе. – Пять тысяч за бутылку!
- Шесть, - так же невозмутимо поправил Матвей и добавил, - раз вы не хотите разбираться законно, значит, я прав, и вам невыгодно связываться с полицией, потому что то, чем вы занимаетесь, это тупо гоп-стоп.
- Гоп-стоп?! – закричал активист, выйдя из себя. – Лучше объясни, на какие деньги ты, официально безработный, такую машину купил? Ты хоть представляешь, сколько лет на нее должен копить честный человек?
- Я тебя по-человечески предупреждал, мудила, - прошипел Матвей ему в лицо, оскалив зубы, и резко взмахнул правой рукой. Бутылка не выдержала столкновения со стеной, осыпавшись на грязный асфальт темными искрами осколков и плеснув поверх розоватыми шампанским, и превратилась в скошенную розочку, с длинных зубьев которой капала пена. Левой рукой Матвей ухватил активиста за воротник и упал вместе с ним на землю. Он ткнул розочкой куда-то в красное. Рукав ветровки с треском порвался.
Довершить начатое Матвей не успел. Выбив бутылку, один из люмпенов заломил ему руку, заставил подняться и поволок подальше от активиста, к которому сразу же кинулся верзила. Тот пытался встать, а сквозь прореху в рукаве виднелось расползающееся по одежде красное пятно. Растерявшийся оператор стоял на месте и продолжал снимать, не понимая, что ему теперь делать.
- Успокойся, бля! – прикрикнул люмпен, продолжая волочь сопротивляющегося Матвея в угол двора. Матвей собрался громко что-то возразить, но второй люмпен, который неотступно следовал за первым, зажал Матвею рот. Матвей вцепился зубами в пахнущую дешевым табаком ладонь, и тот с воем отнял руку. Матвей изо всех сил ударил головой и попал лбом ему по переносице, однако сразу же получил ответный удар по печени. Простонав, он обмяк, упал на колени и уткнулся лбом в клейкий от шампанского асфальт. Его больше не держали.
Арка наполнилась надрывным свистом, который ворвался во двор гулким эхом. Вбежали три казака в зеленых кафтанах. Заросший бородой приказный, чья кубанка сползла набок, держал в правой руке нагайку, а на поясе у него висела рация. На выходе из арки он замер, и вместе с ним остановились два рядовых казака, на которых были фуражки с зеленым околышем. У них тоже были бороды, но юношеские – жидкие, неубедительные и вызывающие не трепет перед представителями закона, а саркастичную улыбку.
Первым отступил верзила. Он побежал прямо на рядовых казаков, которые преграждали ему дорогу, и те, завидев его габариты и мрачную целеустремленность, шарахнулись в сторону, словно они были магнитами с одинаковыми полюсами. По освободившемуся проходу сбежали люмпены и бледный от страха оператор, который уже ничего не снимал. Приказный сурово посмотрел на рядовых. Они виновато замялись и кинулись исправлять оплошность, начав крутить руки двум оставшимся участникам драки.
- Чего вы меня-то вяжете? – дернулся Матвей, но казак отработанным движением надел на него наручники и уложил его лицом в асфальт. – Это они на меня напали!
- В отделе разберутся, кто на кого напал, - назидательно произнес подошедший приказный и с силой хлестнул Матвея нагайкой по спине. Матвей кратко вскрикнул, дернувшись всем телом, и замолчал. Объяснять что-то казаку, который упивался своим служебным положением, как дорвавшийся до власти концлагерный капо, было бессмысленно.
- А его за наркосбыт не хотите забрать?! – кричал активист, которому тоже сковали руки и уложили на землю. Приказный с таким же должностным усердием хлестнул нагайкой и его.
- Мы на драку пришли, за драку и забираем. Что тебе непонятно? – спросил он, гордо глядя на активиста. – Дадите показания, выплатите штраф, а остальное уже не наше дело.
- Да он же в сопли нанюханный! – активист попытался негодующе взмахнуть скованными за спиной руками и получил второй размашистый удар, прошипев сквозь сжатые зубы. Рядовой казак заставил его подняться и толкнул к стене, где уже стоял Матвей, вымазанный уличной пылью. На блеклом перепачканном лице темнели под глазами круги, а черные глаза осоловело блестели.
- Я смотрю, ты не очень умный, - тихо сказал он активисту, на всякий случай не делая лишних движений. Активист возмущенно повернулся к нему, рубанув воздух за спиной сжатыми кулаками.
- Харе, ребята, - пригрозил приказный, продемонстрировав им свернутую вдвое нагайку, - угомонитесь уже.
Активист исподлобья посмотрел на него, однако успокоился и отодвинулся от Матвея. Матвей же, нервно перебирая за спиной пальцами скованных рук, не обратил на это никакого внимания. Он покачивал подбородком, то и дело роняя его на грудь, но неизменно вскидывал голову, моргал широко раскрытыми глазами и прикусывал губу. Ему наконец-то захотелось спать. Если бы не приказный с нагайкой, он бы улегся прямо на асфальт, проигнорировав все внешние обстоятельства.
Отойдя в сторону, приказный снял с пояса рацию и что-то в нее сказал. Через пять минут, которые Матвея провел в тусклом тумане дремы, во двор с кряканьем заехал черный уазик патрульно-постовой службы, мигающий рубиново-бирюзовой сиреной. Из уазика деловито вышли белобрысый прапорщик с несколько угловатыми движениями и рыжий сержант, казавшийся совсем молодым. Оба были в темно-синих куртках на молнии, форменных кепках и начищенных берцах. Повесив нагайку на пояс, приказный широким шагом подошел к прапорщику и принялся что-то объяснять, указывая то на Матвея, который пытался не закрывать глаза слишком надолго, то на активиста, в мимике которого проглядывала сдерживаемая злоба.
Кивнув приказному, прапорщик окинул взглядом асфальт, усыпанный переливающимися осколками и липкими пятнами пролившегося шампанского. Главным элементом композиции было горлышко бутылки, декорированное клубнично-розовой фольгой и ощетинившееся длинными острыми зубьями. Прапорщик задумчиво толкнул его мыском берца. Горлышко покатилось и, описав полный круг, замерло. Он перевел безучастный взгляд на Матвея с активистом:
- Из-за чего подрались?
- На кофте у него посмотрите, - пробормотал Матвей, в очередной раз вскинув голову. Откинув ворот ветровки, прапорщик заметил крупный значок «Антидилера», приколотый к свитшоту активиста. Тот сразу же подобрался и принял вид христианского мученика, страдающего за идею. Прапорщик пытливо покосился на Матвея, предвкушая новую и беспроигрышную «палку».
- Так, так, так… - угрожающе начал он, схватив засыпающего Матвея за подбородок и заставив посмотреть на себя. – Барыжишь, значит, урод?
- Я работаю на Асфара Юнусовича, - сонно ответил Матвей. Прапорщик мгновенно озадачился. Отпустив засыпающего Матвея, он сложил руки за спиной и принялся ходить из стороны в сторону. Приказный, сбитый с толку его поведением, опасливо покосился на Матвея.
- Дебил… - сквозь зубы бросил ему прапорщик и запрокинул голову к небу, где висела едва различимая точка наблюдательного дрона, через который казаки заметили драку.
- Вырубай камеру, - приказал он приказному. Сконфуженно достав смартфон, тот несколько раз провел пальцем по экрану. Прапорщик обратился к Матвею, но уже без прежней враждебности:
- Ехать-то всё равно придется.
Вымотанный Матвей пожал плечами. Активист попытался что-то сказать, но смог только открыть рот и тут же его закрыть. Рядовой казак снял с Матвея наручники и отошел в сторону, напустив на себя крайне непринужденный вид.
- Грузи этого идиота в клетку, - приказал прапорщик к сержанту, а потом повернулся к Матвею, - а ты назад садись. В отделе объяснишь кому надо про Асфара Юнусовича.
Сержант потащил упирающегося активиста в отсек для задержанных. Потирая затекшие от наручников запястья, Матвей с видимым облегчением упал на заднее сиденье и закрыл слипающиеся глаза. Прапорщик сел за руль, неодобрительно покосился на него через зеркало заднего вида, но ничего не сказал. Через минуту Матвей уже крепко спал.
***
Тридцатилетний дознаватель Масюк, на плечах которого тускло мерцали капитанские погоны, сидел за столом своего узкого кабинета, под самым потолком которого располагалось узкое окно. В стекле, по ту сторону которого дрожали капли дождя, отражался конус абажура, разбрасывающий лампы по бледно-коричневым стенам и лаковому козырьку фуражки, в тени которого скрывались глаза Масюка. Изображая бурно работающую мысль, тот сурово смотрел в планшет и листал новостную ленту. КПРФ предлагала канонизировать Сталина, петербургские коммунисты требовал закрыть выставку популярного в узких кругах художника, потому что она оскорбляла чувства православных верующих, а петербургское казачество обвиняло в ограблении своей штаб-квартиры петербургских же тамплиеров. Ничего необычного в новостях не было.
По ту сторону стола сидели Виталий Стрелков, активист ныне запрещенного «Антидилера», и Матвей Грязев, барыга, работающий под крылом полковника Жарова. На запястьях Стрелкова, во время ареста испачкавшегося в пыли, бликовали наручники. Правый рукав ветровки был порван, а края прорехи и одежда под ней темнели засохшей кровью. А вот барыга успел умыться и привести себя в порядок, так что выглядел теперь не в пример лучше оппонента. Тощим долговязым туловищем, волнистыми вихрами волос и сдержанным выражением лица он напоминал охотничью собаку. Исход ситуации был ясен всем. Кроме, пожалуй, Стрелкова, который полагал, что еще может выкрутиться, и даже не догадывался, что задержали его до прибытия службы охраны, которая опекала работающих на государство наркоторговцев и должна была окончательно ему всё разъяснить.
Список нарушений Стрелкова состоял из уличных драк, за которые были выплачены все назначенные штрафы. Нарушения барыги были исключительно административными, и чаще всего его задерживали в состоянии наркотического опьянения. Сейчас оба молчали и ждали, когда дознаватель заговорит. Нервничающий Стрелков кусал губы, а барыга с сонным видом рассматривал собственные ногти.
День Масюка не задался с самого утра. В десять часов пришла женщина, которую избил муж, сломав ей руку и два ребра. Это было уже восьмое заявление, и женщина намеревалась посадить мужа, но его нарушение было административным, и получить он мог лишь пятнадцать суток. Ее ожидали две недели спокойствия, однако Масюк предполагал, что до девятого заявления она не доживет. В полдень к нему в кабинет ворвалась пенсионерка Трепова, которая обычно с нездоровым удовольствием писала жалобы на соседей, но в этот раз она требовала запретить концерт музыкальной группы «Летняя тошнота», почему-то решив обратиться к Масюку, хотя следовало жаловаться напрямую в Роскомнадзор. Разбираться с барыгой полковника Жарова, который идеально дополнял ежедневный паноптикум отдела полиции, достойный Готэма, у Масюка не было никакого желания, но была обязанность.
- Вы зачем на человека напали? Группой и по предварительному сговору? – устало спросил он у активиста, отложив планшет. – По этапу пойдешь, Стрелков. Прямо в Мордовию. Можешь у Грязева спросить, как живется в Мордовии, он тебе всё расскажет, он там родился.
- Может быть, потому что он барыга?! – вспылил Стрелков, содрогнувшись ослабшим телом. – Вообще-то это ваша обязанность, а не наша. Сначала вы торговцев смертью крышуете, а потом они всю дурь легализуют и будут безнаказанно народ травить!
- Ты очень стереотипный наркофоб, - угрюмо посмотрел на него барыга, подняв голову и оторвавшись от созерцания ногтей. Гнусавый голос выдавал в нем наркомана, плотно знакомого с порошками.
- Весь этот гуманизм – всего лишь либеральная блажь. Еще Ройзман говорил, что нарколыги это животные, а барыги – людоеды, и выходит, что ты…
- Тот Ройзман, у которого в рехабах люди умирали?
- Не люди, а нарколыги! – воскликнул Стрелков. – А сволочи вроде тебя только и мечтают о легализации!
- Очень в этом сомневаюсь, - усмехнулся барыга, хитро прищурившись, - в нелегальном положении наркотики приносят намного больше денег. Ты разве не в курсе? Топишь против наркотиков, а элементарных вещей не знаешь.
- Вы же сами слышите! – пораженно выкрикрнул Стрелков, повернувшись к Масюку, который следил за их перепалкой с откровенно кислой миной. – Он даже не отрицает!
- Грязев… - укоризненно покачал головой Масюк, обращаясь только к барыге, будто Стрелкова в кабинете не было. - Я понимаю, что ты злишься, но давай не будем отвлекаться на частности. Чем раньше мы закончим, тем раньше ты пойдешь домой.
- Откуда ты вообще знаешь такие подробности?! – сорвался на крик Стрелков, сжав кулаки до белизны пальцев, и впился в барыгу откровенно враждебным взглядом.
- Я знаю это, потому что я – сотрудник ФСКН, - отчетливо проговорил тот, - знать это – моя работа.
- Какой еще сотрудник ФСКН! – вскочил со стула Стрелков. – Этот пиздюк?!
- Не выражайся, гондон, - мрачно посмотрел на него Масюк и выпрямился во весь рост, упершись ладонями в стол. В его неторопливых, но уверенных движениях, одинаково уместных и в отделе полиции, и в темном закоулке спального района, сквозила скрытая угроза. Стрелков сцепил пальцы в нервозный замок и оторопело сел на место. Масюк закрыл в планшете вкладку с новостями и продемонстрировал Стрелкову страницу из базы данных, где находились данные, указанные в служебных документах внешнего сотрудника Грязева. Стрелков опустил голову. Его плечи поникли, словно у него выбили табурет из-под ног, лишив последней хрупкой опоры.
- Вы не можете просто так его отпустить… - нерешительно пробормотал он, косясь на барыгу. – Почему он тогда мне ксиву не показал, раз он настоящий сотрудник ФСКН?
- Ты совсем дурак? – Масюк уставился на него, как на клинического идиота. – Грязев – осведомитель ФСКН, а ты хочешь, чтобы он на весь интернет ксивой светил. Как ему после такого оперативную работу вести? В этом и смысл, что осведомитель должен скрывать от преступников, что он осведомитель.
- И сбывать наркотики тоже должен? – спросил Стрелков. Поморщившись, он закусил губу.
- Если этого требует оперативная работа, то должен, конечно, - ответил Масюк. Шумно выдохнув, он снял фуражку, положил её на стол и провел ладонью по взмокшему лбу. На алом околыше фуражки сухо блестела кокарда, напоминающая вертикальный голубой глаз с багровым зрачком.
- У него наверняка дома ствол лежит, а разрешения на ствол нет… - еще тише продолжил Стрелков.
- Вот его разрешение, - постучал пальцем Масюк по экрану планшета, где до сих пор виднелась вкладка с данными барыги, - хватит уже тупые вопросы задавать.
Стрелков беззвучно сгорбился, уткнувшись лицом в колени, и обхватил голову скованными руками. Барыга посмотрел на него с неловкостью, которую обычно адресуют перепившим на семейном застолье родственникам.
Со скрипом распахнулась дверь, и в кабинет без предупреждения ворвалась пенсионерка Трепова, дожившая до глубин старческого возраста. Кислотно-рыжие волосы падали на мятые плечи белого плаща, а за квадратными очками моргали увеличенные глаза. При виде пенсионерки у Масюка нехорошо дернулось лицо.
- …а я еще утром рассказывала вам про безбожников из «Летней тошноты», которые пропагандируют суицид и наркотики, - продолжила она фразу, начало которой, видимо, произнесла еще в коридоре, и целеустремленно засеменила к столу, совершенно проигнорировав Грязева и Стрелкова. Масюк с пренебрежением её перебил:
- Это не наша юрисдикция. Пишите в Роскомнадзор. Или хотя бы в Яндекс.Донос.
- Сто лет назад в России издавали газету «Безбожник», - вдруг произнес барыга тихо, но отчетливо, не обращаясь к кому-то конкретному. Масюк с удивлением повернулся к нему – он не ожидал от него такой эрудиции. Пенсионерка упустила эту реплику, потому что была глуховата, впрочем, не заметила она и того, что её поспешно вывел прибежавший сержант. Дверь кабинета со скрипом захлопнулась.
Стрелков не обратил на это ни малейшего внимания. Стискивая пальцами виски, он прятал лицо в коленях и отрывисто, но тихо вздыхал, вытягивая из памяти Масюка дни деревенского детства и изодранных в кровь кроликов, замученных собратьями.
☸
Напротив отдела полиции между двумя полицейскими машинами был припаркован «гелендваген» с патриотическим слоганом на стекле задней двери. Он даже не смотрелся чужеродно и не создавал контраст, потому что тоже был автомобилем силового ведомства. На тротуаре рядом ожидали Гриша и Миша, которые встретили измученного Матвея, наконец вышедшего из отдела, с неожиданным радушием.
- Видел, видел… - Гриша с покровительственным смехом похлопал его по спине. – Ловко ты их.
- Уже? – спросил Матвей, кисло поморщившись.
- Миша тоже видел.
- Ага, - подтвердил тот с неизменной улыбкой, от широты которой делалось не по себе, - пиздец ты больной.
В устах любого другого человека эти слова прозвучали бы оскорбительно, но Миша вложил в них всю возможную похвалу, превратив их в комплимент. Матвей устало кивнул ему.
- Я три дня не спал, - умоляющим голосом пробормотал он, - только в бобике подремал немного…
- Вообще-то через семь часов ты должен быть у Асфара Юнусовича, - нахмурился Гриша, - ты нигде не накосячил, но дело очень срочное. Так что поспишь у меня в машине, а мы пока по делам прокатимся. Не бойся, мешать не будешь. Я разбужу тебя и отвезу в нужное место.
Матвей вскинул брови. Загадочное умолчание Гриши по поводу места, крайняя срочность дела и сам факт встречи с Асфаром Юнусовичем наводили исключительно на нехорошие догадки. Однако тон Гриши был таким веским, что предложение нельзя было не принять. Улегшись на заднее сиденье, он положил под голову свернутую толстовку и, опустив тяжелые веки, погрузился в сумеречную дрему. Сквозь сгущающийся сон до него доносился довольный голос Гриши, который постепенно терял громкость и отчетливость, будто владелец голоса уходил на далекое расстояние, и Мишины жизнелюбивые смешки. В багажнике то и дело раздавалось невнятное мычание, а Гриша с Мишей обсуждали свои автомобили. В сонной темноте грозила кулаком старуха, которую Матвей видел в отделе. Неоново-рыжие волосы колыхались в вязком воздухе, словно щупальца медуз, а вокруг старухи бегал румяный мальчик в буденовке, на которой горела алым пятиконечная звезда.
Когда Матвей проснулся, Миши уже не было. Небо налилось вечерней синевой, а в багажнике стало совсем тихо. Приподнявшись, он выглянул в окно и увидел знакомый ландшафт Гражданки: пыльные стыки грязно-зеленой панельки и хрустально-белая вывеска шавермной, недвижимо тлеющая за тонированным стеклом. В голове крутился осадок мысли, которую он мучительно обдумывал во сне.
«Со мной всё понятно, я стучу, потому что у меня выбора нет. А эти почему стучат? Они ведь делают это добровольно…» - апатично подумал Матвей. Сидящий за рулем Гриша заметил его пробуждение и передал ему сначала теплую шаверму, а потом пол-литровую банку «рэд булла».
- Тебе, конечно, энергетики как слону дробина, но кокаин я тебе не дам, - сказал он, съезжая на дорогу, - Асфар Юнусович может разозлиться.
Матвей подметил еще один недобрый нюанс, но голод оказался сильнее: три дня в него совершенно не лезла калорийная пища, неприятно тяготя желудок. Отбросив сомнения, он принялся наедаться, пытаясь при этом хоть немного взбодриться. Свое состояние он мог описать одним словом – «удовлетворительное».
- Эх ты, горе луковое, - сочувственно произнес Гриша, качая головой, - тебя же так инсульт долбанет. Ты как вообще? Нормально?
- Нормально, - тихо ответил Матвей, поймав через зеркало его внимательный, даже заботливый взгляд.
Гриша, лично знакомый с побочными эффектами стимуляторов, предусмотрительно решил Матвея накормить, чтобы встреча с Асфаром Юнусовичем, который с самого утра был на взводе, прошла более-менее гладко. Нервозность Асфара Юнусовича проявлялась следующим образом: он молчал больше обычного, задумчиво ходил по кабинету из стороны в сторону, сложив руки за спиной, и с брезгливостью хмурился, подергивая уголком рта. Привычная витиеватость речи сменялась рубленой грубоватостью, которая обнажала глубинное родство Асфара Юнусовича с преступниками, которых он сажал.
- Он хороший торговец, но за пределы этой сферы его таланты не распространяются. Он в меру хитрый и быстро договаривается с собственной совестью, - отрывисто говорил он, меряя кабинет шагами и глядя в пустоту перед собой, - сначала, конечно, кричит, что ничего делать не будет. Зато успокаивается, когда видит материальные плоды своих стараний.
- Он был очень подавленным, когда вернулся от Щипцова, - опасливо напомнил Гриша, утирая платком кровь, бегущую из носа, по которому его пять минут назад ударил Асфар Юнусович, - даже плакал.
- Это еще ни о чем не говорит. «Не верь клятве наркомана, слезам проститутки и улыбке прокурора». Слышал такую фразу? Слезам наркоторговца тоже не верь. Это минутные порывы, и они быстро проходят.
Вскинув бровь, Гриша удивленно посмотрел на Асфара Юнусовича. В царские времена его считали бы инородцем; он овдовел, не успев обзавестись детьми, а теперь боялся строить семью вообще; он желал, но не мог воспитать гипотетического сына, передав ему свою бережливость и хватку. Чем дольше Гриша работал с Матвеем, тем чаще замечал сквозящее в его поведении прохладное равнодушие удильщика, обитающего в чернильной мгле океанского дна, пока еще глушимое юношескими всплесками нестабильного темперамента. Вместо религиозного интереса у него был философский, представляющий собой дикую смесь отечественной эзотерики, традиционализма и восточных религий. Ни в одно из трех он при этом не верил, оставаясь наблюдающим эстетом. Гриша курировал еще пятерых торговцев, работающих напрямую на Асфара Юнусовича, и все они были схожи между собой – характером и повадками они неуловимо напоминали молодого полицейского Жарова и были склонны к быстрому профессиональному очерствению, не сопровождаемому укорами совести. Их редкие эмоциональные всплески были слишком поверхностными и до укоров совести, откровенно говоря, не дотягивали.
Религиозные воззрения Асфара Юнусовича, внезапно обострившиеся после потери супруги, были весьма конкретными: он придерживался традиции Гелугпа, но толковал её, как это обычно бывает, по-своему. Он сострадал живым существам, поэтому терзал их, когда возникала служебная необходимость, с внутренним состраданием, а понравившихся живых существ пристраивал на хлебные должности. К логике его личного верования сложно было предъявить претензии: раз люди рождены для страданий, их неизбежно должен кто-то причинять, тоже при этом страдая, потому что страдать положено всем.
Вдруг Асфар Юнусович замер и покосился на Гришу искусственным глазом, в котором матово отсвечивал широкий зрачок.
- Привязанности отделяют человека от нераздельного единства блаженства и пустоты, - отчетливо проговорил он и добавил, - он очень боится глубины. И совершенно не умеет плавать.
Фраза прозвучала пространно, но сняла возникшие у Гриши вопросы: Асфар Юнусович собирался избавиться от Матвея, если тот вдруг начнет артачиться. Естественно, испытывая при этом положенное буддисту сострадание. Раньше торговцев было восемь, однако трое не оправдали ожиданий, и Гриша по приказу Асфара Юнусовича помог им переродиться, подвергнув медленной смерти и заставив встретиться лицом к лицу с их фобиями.
- Помнишь, по вам стреляли в августе? – наконец спросил Гриша у Матвея, посмотрев вдаль. Медленно разворачивалась лента пейзажа, вытягивающая из дальней точки перспективы газетные киоски, разрисованные маркерами хулиганов, купеческие дома депрессивно-желтого цвета, серебрящиеся размашистыми граффити, и ржавеющие трамвайные пути, лентой щебня рассекающие увядающий газон. На горизонте вырастала станция метро «Удельная» - реликт советской конструктивистской архитектуры, стыло искрящийся бирюзовыми стеклоблоками.
- Еще бы, - с досадой проговорил Матвей.
- Есть новости, Грязев. Исполнители русские, стволы китайские, а заказчик – азер.
- И что это значит в практическом плане? – напряженно спросил Матвей, подавшись вперед.
- Ничего хорошего, - скупо ответил Гриша. Когда «гелендваген» приблизился к ухоженному трехэтажному зданию девятнадцатого века, над парадным входом которого нависали обнаженные сирены с суровыми лицами областных судей, Гриша объехал его по узкой дороге и свернул во внутренний двор. Среди темных от сырости стен и узких окон выделялась новая железная дверь, над которой пестрела лазурно-желтым восточным орнаментом вывеска с надписью «Самарканд». Возле двери был припаркован хорошо знакомый Матвею черный «майбах», возле которого с хмурым видом бродили полицейские в серой униформе наркоконтроля и помятые жизнью здоровяки в спортивных костюмах. Асфальт под их ногами был обильно усеян плевочками свежих окурков. Чуть виднелся массивный внедорожник российского производства.
- Ты как зайдешь в чайхану, сразу поймешь, где он сидит, - сказал Гриша, указав рукой на железную дверь, - ты там не тушуйся, садись сразу на свое место. А я с тобой не пойду, мне ехать надо.
Сдержав замешательство, Матвей принял как можно более спокойный вид, хотя это далось ему нелегко, вышел из машины и направился к железной двери, вдыхая прокуренный воздух. Он позвонил в домофон, глядящий на него одиноким глазом камеры, и спустя несколько секунд дверь открылась автоматически, обнажив длинный полутемный коридор. Справа умещалась стойка администратора, за которой никого не было. Посомневавшись, Матвей притворил дверь до железного щелчка и направился вперед – к освещенному залу, по периметру которого висели тяжелые узорчатые пологи от потолка до пола – плотно задернутые и золотисто сверкающие кистями шнуров.
Возле одного из пологов, за которым горел свет, стояли полицейский в серой униформе, судя по фуражке, уже ставший офицером, и бывалого вида бык в кожаной куртке. Перед пологом виднелись черные форменные ботинки, начищенные до светлых переливов. Полицейский и бык оценивающе посмотрели на Матвея и сразу же успокоились, видимо, узнав его в лицо. Представив, что именно так всё и должно происходить, Матвей разулся, осторожно раздвинул шторы полога и нырнул в отделенный от зала кабинет.
В окружении чернильно-фиолетовых ковров, цветущих алыми бутонами, и подушек, расшитых до ряби в глазах, за низким круглым столом сидел, сложив ноги по-турецки, Асфар Юнусович, одетый в серый китель и фуражку с багровым околышем. Как и всегда, в его лице сложно было что-то прочесть. Оно напоминало безучастную маску, и живыми казались только глаза, отличающиеся друг от друга размером зрачков. Под самым потолком горела круглая люстра с множеством граней, которые отбрасывали на темные стены водянисто-прозрачные блики. В центре стола были разложены лакированные аналоговые нарды: готовые для игры шашки, пара игральных костей и ожидаемая гравировка – по розе ветров на каждой половине доски. Перед Асфаром Юнусовичем стояла пиала молочно-бежевого чая, точно такая же, как и на противоположной стороне стола. В натюрморт не вписывалась рюмка водки, накрытая коркой черного хлеба, расположенная справа, словно там должен был сидеть кто-то третий.
Стараясь не поддаваться легкой сюрреалистичности происходящего, Матвей скупо поздоровался, не забыв обратиться к Асфару Юнусовичу по имени-отчеству, и таким же манером сел напротив него.
- Мне нужно, чтобы Куртов набрал себе розничных продавцов, а мелкий опт взял на себя. Чтобы он занял твое место, а ты иногда за ним присматривал, - произнес Асфар Юнусович, будто продолжая прерванную прежде беседу, - помоги ему с этим делом. И скажи, чтобы не выбирал наркоманов, а то замучается расхлебывать. Пусть твоей клиентурой занимается Куртов. Твоя задача – продавать ему крупные партии и время от времени проверять, что у него происходит.
Матвей, настроившийся на обычную для Асфара Юнусовича вводную часть – долгую и слабо имеющую отношение к делу, широко раскрыл глаза от удивления. Сегодня Асфар Юнусович обошелся без длинных вступлений, его речь звучала непривычно, а оттого тревожно.
- А чем же тогда заниматься мне? – настороженно спросил он, слыша собственный голос как бы со стороны. Он смутно догадывался, к чему всё идет.
- Тебе? – усмехнулся Асфар Юнусович. – Героиновым складом.
Опешив еще сильнее, Матвей уставился на него – излишне пристально для установившегося формата общения двух неравных людей. В его взгляде читались немой вопрос и крайнее непонимание.
- Небольшим складом в Автово. Туда приходят небольшие партии из крупного склада. Заказываешь, принимаешь и рассылаешь дронами по продавцам. Словом, всё, чем ты уже занимался, но в больших масштабах, - объяснил Асфар Юнусович, сделал глоток из пиалы и добавил, - киберпанк наступил, а мы и не заметили. Или кали-юга. Тут уж кому как.
- Махакалой, значит, заниматься… - задумчиво пробормотал Матвей себе под нос.
- При чем здесь Махакала? – нахмурился Асфар Юнусович.
- Великий Черный… - замялся Матвей, втянув голову в плечи и ссутулившись еще сильнее. Он пожалел, что не сдержал нечаянную шутку. Однако Асфар Юнусович вдруг улыбнулся с несвойственной ему теплотой и издал серию сухих, как дерево, довольных смешков. Матвею невольно вспомнился алкогольный кошмар с хохочущим бурятом, который напоминал и Гришу, и Асфара Юнусовича одновременно, хотя в большей степени второго. Матвей представил Асфара Юнусовича в короне из пяти черепов и понял, что даже в таком виде тот смотрелся бы органично.
- А для кого рюмка стоит? – спросил он, осмелев.
- Сегодня с нами должен был обедать еще один человек, но вышло так, что он уже нигде присутствовать не может. Он, конечно, сам в этом виноват, но даже такого человека после смерти нужно хоть немного почтить.
Обрадовавшись, что к Асфару Юнусовичу вернулась привычная плавность и витиеватость речи, Матвей расслабился и деловито объяснил:
- Сначала я должен найти продавцов по хмурому. У меня их нет. У меня вообще другой контингент.
- Тебе не нужно никого искать, люди уже есть. Пять мордоворотов, восемь продавцов – таких, как ты сейчас. Очень хорошие, проверенные исполнители. Ты должен поставлять героин, следить за качеством их работы и при необходимости наставлять, как правильно себя вести. Тебе пригодится грубая сила, так что в помощники возьми Мишу, вы с ним неплохо сработались. Миша умеет вытягивать из людей информацию. У него своя методика – своеобразная, но действенная, - сообщил Асфар Юнусович и с усмешкой добавил, - можно даже сказать, что Миша гурман.
«Человечину, что ли, жрет?» - подумал Матвей, потому что этот вариант вполне мог быть правдой, но расспрашивать о явно неприятных подробностях не стал.
- Я ведь правильно понимаю, что должен кого-то заменить? – осведомился он. – От кого-то же осталось такое наследство?
- Правильно понимаешь. Был один поставщик, но он умер: то ли выпал из окна, то ли добровольно сбросился – сложно сказать. Он слишком много пил.
Матвей молча покосился на стоящую справа рюмку, которая предназначалась загадочному гостю, уже не способному с ними беседовать. Хрустальные грани рюмки искрились точками света, а поверх медного ободка лежала, подобно крышке гроба, заскорузлая черная краюшка.
- Сегодня поедешь со мной в Автово. Посвящу в детали, покажу склад и познакомлю с коллективом.
Матвей часто закивал. Ему не очень-то хотелось подниматься по карьерной лестнице, особенно учитывая вскрывшиеся обстоятельства, неразрывно связанные с неизвестными, но излишне конкретными и настоящими в бытийном плане азерами, однако страх перед Асфаром Юнусовичем оказался сильнее.
- Тебе знакомо имя Максима Булыгина? – спросил вдруг Асфар Юнусович, сделав скупой глоток чая. – У него был занятный сценический псевдоним, Yung Knife.
- Да, я знаю это имя, - кивнул Матвей, - слышал пару раз его песни, мне не понравилось. Знаю, что его убили за наркоту. То ли «Антидилер», то ли… наше ведомство.
- Да, ты прав, наше ведомство. Опосредованно, конечно, но факт остается фактом. Мое первое серьезное дело на нынешней должности. Булыгина выбрали не только из-за известности, не думай, что мы просто так разбрасываемся кадрами. Видишь ли, в какой-то момент он зазнался, возомнил себя большим начальником и стал вести себя неадекватно статусу. Как всё закончилось, ты наверняка знаешь.
Матвей знал историю смерти Булыгина слишком хорошо, потому что её в свое время подробно разобрали по косточкам всевозможные новостные издания, и с недавних пор она стала вызывать у него внутреннее содрогание. Он не сочувствовал Булыгину, но представлял на его месте себя и больше всего боялся умереть именно так. Воодушевленные таинственным обещанием ФСКН, активисты «Антидилера» забились в кредитную «тойоту» и для храбрости выпили, чтобы разухабисто выглядеть в кадре. Отыскав Булыгина в обещанном месте – на площади Трезини, они от души избили его на камеру. А потом прониклись новой идеей, выключили запись и за неимением в окрестностях безлюдного места увезли избитого Булыгина на берег реки Чухонка. Пытать и унижать его, записывая на камеру уже для себя, а не для общественности, они продолжили именно там, и длилось это полчаса – пока покрытый гематомами и кровью Булыгин не начал дергаться в судорогах, закатывать глаза и поминутно терять сознание. Часто поддающие активисты обратили внимание на его обморочное состояние лишь тогда, когда он потерял сознание надолго и перестал реагировать на пробуждающие пощечины. Приходить в себя Булыгин не мог, да и вряд ли уже хотел.
Унизительные издевательства потеряли в глазах активистов всякий смысл, потому что лишились ответной реакции. Решив, что Булыгин придет в себя позже, они привезли его обратно на площадь Трезини и выбросили перед бронзовым постаментом улыбающегося архитектора. Там Булыгин и скончался. В сознание, конечно же, он так и не пришел. На запястьях трупа обнаружили борозды от пластиковых стяжек.
Изъятые видеозаписи стали железным доказательством вины попавшихся на крючок активистов «Антидилера». Сопротивляющийся Булыгин сказал на камеру слишком много компрометирующих фактов, которые могли выдать лиц с высокими званиями, причастных к набирающему силу наркообороту, однако звук подчистили, наложив в нужных местах помехи, и предъявили жадной до зрелищ публике неоспоримое вещественное доказательство. «Антидилер» автоматически превратился в клуб любителей самосуда и жестокости, потому что наркосбыт Булыгина еще нужно было доказать, а вот их преступление было на поверхности.
Лукаво улыбнувшись, Асфар Юнусович посмотрел на помрачневшего Матвея:
- На Гришу, кстати, не злись. Он приболел и не отвечал за свое поведение. Конечно, он поступил с тобой слишком грубо, но ты и сам прекрасно знаешь, что нервная система не вечная. Особенно у тех, кто не может вовремя остановиться.
- Я сразу понял, что он на жесткую измену подсел, - пробормотал Матвей, приходя в себя.
- Еще бы ты этого не понял, - усмехнулся Асфар Юнусович и запустил руку в карман. Непринужденным жестом он положил слева от доски с шашками наручные часы. Рукав кителя немного задрался, и Матвей заметил резкую границу между бледной искусственной кистью и органической желтоватой рукой, покрытой черными волосами. Моргнув, он перевел взгляд на часы. В рельефном ремешке из черной кожи, металлическом ободке корпуса и застекленном черном циферблате с серовато-стальными насечками вместо цифр отражалось помертвелое сияние люстры, спотыкающееся об белую трещину, расположенную поверх предполагаемой восьмерки. Под утолщенной насечкой, которая заменяла полночь и полдень, серебрилась минималистичная «H» с изогнутой срединной дужкой.
- Титановый корпус, ремешок из крокодиловой кожи, сапфировое стекло, - произнес Асфар Юнусович со странной нежностью, - пылились в архиве с вещдоками. Дело об убийстве Булыгина давно закрыли, они нам больше не нужны. Сыграем на них в нарды. Если выиграешь, пожалуйста – забирай и носи на здоровье.
Сглотнув нервный ком, сотканный из холода погостов, Матвей молчаливым кивком принял приглашение. В Офтони он часто играл в нарды, и игра была ему знакома. Стараясь отвлечься от замогильных мыслей, он двигал выпавшие ему белые шашки с клина на клин и кидал кости. Кости часто выпадали парными числами, даря ему возможность удвоенных ходов. Увлекшись процессом, Матвей не заметил, как передвинул все белые шашки в надлежащую «хату».
- Любопытно… - задумчиво протянул Асфар Юнусович, рассматривая доску. – Впрочем, я предполагал, что поддаваться ты не будешь. Как и договаривались, часы теперь твои.
Встав на ноги, он возвысился над столиком, и его лицо скрылось за шаром люстры. Матвей нерешительно взял часы и осмотрел их со всех сторон. Задняя крышка оказалась стеклянной, за ней виднелись замершие шестерни, которые не заводили уже шесть лет. Опасаясь рассердить Асфара Юнусовича, Матвей натянуто улыбнулся и надел часы на левое запястье. Их вес тяготил руку и ассоциировался только с кабальной зависимостью. Обретя искаженное смертью прошлое, из атрибута богатства они превратились в мрачный атрибут принадлежности.
- Ты должен сделать выбор, очень важный выбор, Матюша… - задумчиво произнес Асфар Юнусович. – Но не этот. Другой.
Матвей не видел его лицо, затемненное ореолом неживого свечения, но по повороту головы догадывался, что Асфар Юнусович смотрит прямо на него. Свет слепил глаза, и Матвей невольно уткнулся взглядом в серый мундир, скрывающий человеческий корпус. Он разглядел в жестком сукне оттенок, который теперь был для него слишком знакомым, и понял, что при первой встрече зря счел его оттенком праха, оставшегося после кремации. Серый мундир Асфара Юнусовича повторял своим цветом не до конца очищенный афганский героин.
- Видел, видел… - Гриша с покровительственным смехом похлопал его по спине. – Ловко ты их.
- Уже? – спросил Матвей, кисло поморщившись.
- Миша тоже видел.
- Ага, - подтвердил тот с неизменной улыбкой, от широты которой делалось не по себе, - пиздец ты больной.
В устах любого другого человека эти слова прозвучали бы оскорбительно, но Миша вложил в них всю возможную похвалу, превратив их в комплимент. Матвей устало кивнул ему.
- Я три дня не спал, - умоляющим голосом пробормотал он, - только в бобике подремал немного…
- Вообще-то через семь часов ты должен быть у Асфара Юнусовича, - нахмурился Гриша, - ты нигде не накосячил, но дело очень срочное. Так что поспишь у меня в машине, а мы пока по делам прокатимся. Не бойся, мешать не будешь. Я разбужу тебя и отвезу в нужное место.
Матвей вскинул брови. Загадочное умолчание Гриши по поводу места, крайняя срочность дела и сам факт встречи с Асфаром Юнусовичем наводили исключительно на нехорошие догадки. Однако тон Гриши был таким веским, что предложение нельзя было не принять. Улегшись на заднее сиденье, он положил под голову свернутую толстовку и, опустив тяжелые веки, погрузился в сумеречную дрему. Сквозь сгущающийся сон до него доносился довольный голос Гриши, который постепенно терял громкость и отчетливость, будто владелец голоса уходил на далекое расстояние, и Мишины жизнелюбивые смешки. В багажнике то и дело раздавалось невнятное мычание, а Гриша с Мишей обсуждали свои автомобили. В сонной темноте грозила кулаком старуха, которую Матвей видел в отделе. Неоново-рыжие волосы колыхались в вязком воздухе, словно щупальца медуз, а вокруг старухи бегал румяный мальчик в буденовке, на которой горела алым пятиконечная звезда.
Когда Матвей проснулся, Миши уже не было. Небо налилось вечерней синевой, а в багажнике стало совсем тихо. Приподнявшись, он выглянул в окно и увидел знакомый ландшафт Гражданки: пыльные стыки грязно-зеленой панельки и хрустально-белая вывеска шавермной, недвижимо тлеющая за тонированным стеклом. В голове крутился осадок мысли, которую он мучительно обдумывал во сне.
«Со мной всё понятно, я стучу, потому что у меня выбора нет. А эти почему стучат? Они ведь делают это добровольно…» - апатично подумал Матвей. Сидящий за рулем Гриша заметил его пробуждение и передал ему сначала теплую шаверму, а потом пол-литровую банку «рэд булла».
- Тебе, конечно, энергетики как слону дробина, но кокаин я тебе не дам, - сказал он, съезжая на дорогу, - Асфар Юнусович может разозлиться.
Матвей подметил еще один недобрый нюанс, но голод оказался сильнее: три дня в него совершенно не лезла калорийная пища, неприятно тяготя желудок. Отбросив сомнения, он принялся наедаться, пытаясь при этом хоть немного взбодриться. Свое состояние он мог описать одним словом – «удовлетворительное».
- Эх ты, горе луковое, - сочувственно произнес Гриша, качая головой, - тебя же так инсульт долбанет. Ты как вообще? Нормально?
- Нормально, - тихо ответил Матвей, поймав через зеркало его внимательный, даже заботливый взгляд.
Гриша, лично знакомый с побочными эффектами стимуляторов, предусмотрительно решил Матвея накормить, чтобы встреча с Асфаром Юнусовичем, который с самого утра был на взводе, прошла более-менее гладко. Нервозность Асфара Юнусовича проявлялась следующим образом: он молчал больше обычного, задумчиво ходил по кабинету из стороны в сторону, сложив руки за спиной, и с брезгливостью хмурился, подергивая уголком рта. Привычная витиеватость речи сменялась рубленой грубоватостью, которая обнажала глубинное родство Асфара Юнусовича с преступниками, которых он сажал.
- Он хороший торговец, но за пределы этой сферы его таланты не распространяются. Он в меру хитрый и быстро договаривается с собственной совестью, - отрывисто говорил он, меряя кабинет шагами и глядя в пустоту перед собой, - сначала, конечно, кричит, что ничего делать не будет. Зато успокаивается, когда видит материальные плоды своих стараний.
- Он был очень подавленным, когда вернулся от Щипцова, - опасливо напомнил Гриша, утирая платком кровь, бегущую из носа, по которому его пять минут назад ударил Асфар Юнусович, - даже плакал.
- Это еще ни о чем не говорит. «Не верь клятве наркомана, слезам проститутки и улыбке прокурора». Слышал такую фразу? Слезам наркоторговца тоже не верь. Это минутные порывы, и они быстро проходят.
Вскинув бровь, Гриша удивленно посмотрел на Асфара Юнусовича. В царские времена его считали бы инородцем; он овдовел, не успев обзавестись детьми, а теперь боялся строить семью вообще; он желал, но не мог воспитать гипотетического сына, передав ему свою бережливость и хватку. Чем дольше Гриша работал с Матвеем, тем чаще замечал сквозящее в его поведении прохладное равнодушие удильщика, обитающего в чернильной мгле океанского дна, пока еще глушимое юношескими всплесками нестабильного темперамента. Вместо религиозного интереса у него был философский, представляющий собой дикую смесь отечественной эзотерики, традиционализма и восточных религий. Ни в одно из трех он при этом не верил, оставаясь наблюдающим эстетом. Гриша курировал еще пятерых торговцев, работающих напрямую на Асфара Юнусовича, и все они были схожи между собой – характером и повадками они неуловимо напоминали молодого полицейского Жарова и были склонны к быстрому профессиональному очерствению, не сопровождаемому укорами совести. Их редкие эмоциональные всплески были слишком поверхностными и до укоров совести, откровенно говоря, не дотягивали.
Религиозные воззрения Асфара Юнусовича, внезапно обострившиеся после потери супруги, были весьма конкретными: он придерживался традиции Гелугпа, но толковал её, как это обычно бывает, по-своему. Он сострадал живым существам, поэтому терзал их, когда возникала служебная необходимость, с внутренним состраданием, а понравившихся живых существ пристраивал на хлебные должности. К логике его личного верования сложно было предъявить претензии: раз люди рождены для страданий, их неизбежно должен кто-то причинять, тоже при этом страдая, потому что страдать положено всем.
Вдруг Асфар Юнусович замер и покосился на Гришу искусственным глазом, в котором матово отсвечивал широкий зрачок.
- Привязанности отделяют человека от нераздельного единства блаженства и пустоты, - отчетливо проговорил он и добавил, - он очень боится глубины. И совершенно не умеет плавать.
Фраза прозвучала пространно, но сняла возникшие у Гриши вопросы: Асфар Юнусович собирался избавиться от Матвея, если тот вдруг начнет артачиться. Естественно, испытывая при этом положенное буддисту сострадание. Раньше торговцев было восемь, однако трое не оправдали ожиданий, и Гриша по приказу Асфара Юнусовича помог им переродиться, подвергнув медленной смерти и заставив встретиться лицом к лицу с их фобиями.
- Помнишь, по вам стреляли в августе? – наконец спросил Гриша у Матвея, посмотрев вдаль. Медленно разворачивалась лента пейзажа, вытягивающая из дальней точки перспективы газетные киоски, разрисованные маркерами хулиганов, купеческие дома депрессивно-желтого цвета, серебрящиеся размашистыми граффити, и ржавеющие трамвайные пути, лентой щебня рассекающие увядающий газон. На горизонте вырастала станция метро «Удельная» - реликт советской конструктивистской архитектуры, стыло искрящийся бирюзовыми стеклоблоками.
- Еще бы, - с досадой проговорил Матвей.
- Есть новости, Грязев. Исполнители русские, стволы китайские, а заказчик – азер.
- И что это значит в практическом плане? – напряженно спросил Матвей, подавшись вперед.
- Ничего хорошего, - скупо ответил Гриша. Когда «гелендваген» приблизился к ухоженному трехэтажному зданию девятнадцатого века, над парадным входом которого нависали обнаженные сирены с суровыми лицами областных судей, Гриша объехал его по узкой дороге и свернул во внутренний двор. Среди темных от сырости стен и узких окон выделялась новая железная дверь, над которой пестрела лазурно-желтым восточным орнаментом вывеска с надписью «Самарканд». Возле двери был припаркован хорошо знакомый Матвею черный «майбах», возле которого с хмурым видом бродили полицейские в серой униформе наркоконтроля и помятые жизнью здоровяки в спортивных костюмах. Асфальт под их ногами был обильно усеян плевочками свежих окурков. Чуть виднелся массивный внедорожник российского производства.
- Ты как зайдешь в чайхану, сразу поймешь, где он сидит, - сказал Гриша, указав рукой на железную дверь, - ты там не тушуйся, садись сразу на свое место. А я с тобой не пойду, мне ехать надо.
Сдержав замешательство, Матвей принял как можно более спокойный вид, хотя это далось ему нелегко, вышел из машины и направился к железной двери, вдыхая прокуренный воздух. Он позвонил в домофон, глядящий на него одиноким глазом камеры, и спустя несколько секунд дверь открылась автоматически, обнажив длинный полутемный коридор. Справа умещалась стойка администратора, за которой никого не было. Посомневавшись, Матвей притворил дверь до железного щелчка и направился вперед – к освещенному залу, по периметру которого висели тяжелые узорчатые пологи от потолка до пола – плотно задернутые и золотисто сверкающие кистями шнуров.
Возле одного из пологов, за которым горел свет, стояли полицейский в серой униформе, судя по фуражке, уже ставший офицером, и бывалого вида бык в кожаной куртке. Перед пологом виднелись черные форменные ботинки, начищенные до светлых переливов. Полицейский и бык оценивающе посмотрели на Матвея и сразу же успокоились, видимо, узнав его в лицо. Представив, что именно так всё и должно происходить, Матвей разулся, осторожно раздвинул шторы полога и нырнул в отделенный от зала кабинет.
В окружении чернильно-фиолетовых ковров, цветущих алыми бутонами, и подушек, расшитых до ряби в глазах, за низким круглым столом сидел, сложив ноги по-турецки, Асфар Юнусович, одетый в серый китель и фуражку с багровым околышем. Как и всегда, в его лице сложно было что-то прочесть. Оно напоминало безучастную маску, и живыми казались только глаза, отличающиеся друг от друга размером зрачков. Под самым потолком горела круглая люстра с множеством граней, которые отбрасывали на темные стены водянисто-прозрачные блики. В центре стола были разложены лакированные аналоговые нарды: готовые для игры шашки, пара игральных костей и ожидаемая гравировка – по розе ветров на каждой половине доски. Перед Асфаром Юнусовичем стояла пиала молочно-бежевого чая, точно такая же, как и на противоположной стороне стола. В натюрморт не вписывалась рюмка водки, накрытая коркой черного хлеба, расположенная справа, словно там должен был сидеть кто-то третий.
Стараясь не поддаваться легкой сюрреалистичности происходящего, Матвей скупо поздоровался, не забыв обратиться к Асфару Юнусовичу по имени-отчеству, и таким же манером сел напротив него.
- Мне нужно, чтобы Куртов набрал себе розничных продавцов, а мелкий опт взял на себя. Чтобы он занял твое место, а ты иногда за ним присматривал, - произнес Асфар Юнусович, будто продолжая прерванную прежде беседу, - помоги ему с этим делом. И скажи, чтобы не выбирал наркоманов, а то замучается расхлебывать. Пусть твоей клиентурой занимается Куртов. Твоя задача – продавать ему крупные партии и время от времени проверять, что у него происходит.
Матвей, настроившийся на обычную для Асфара Юнусовича вводную часть – долгую и слабо имеющую отношение к делу, широко раскрыл глаза от удивления. Сегодня Асфар Юнусович обошелся без длинных вступлений, его речь звучала непривычно, а оттого тревожно.
- А чем же тогда заниматься мне? – настороженно спросил он, слыша собственный голос как бы со стороны. Он смутно догадывался, к чему всё идет.
- Тебе? – усмехнулся Асфар Юнусович. – Героиновым складом.
Опешив еще сильнее, Матвей уставился на него – излишне пристально для установившегося формата общения двух неравных людей. В его взгляде читались немой вопрос и крайнее непонимание.
- Небольшим складом в Автово. Туда приходят небольшие партии из крупного склада. Заказываешь, принимаешь и рассылаешь дронами по продавцам. Словом, всё, чем ты уже занимался, но в больших масштабах, - объяснил Асфар Юнусович, сделал глоток из пиалы и добавил, - киберпанк наступил, а мы и не заметили. Или кали-юга. Тут уж кому как.
- Махакалой, значит, заниматься… - задумчиво пробормотал Матвей себе под нос.
- При чем здесь Махакала? – нахмурился Асфар Юнусович.
- Великий Черный… - замялся Матвей, втянув голову в плечи и ссутулившись еще сильнее. Он пожалел, что не сдержал нечаянную шутку. Однако Асфар Юнусович вдруг улыбнулся с несвойственной ему теплотой и издал серию сухих, как дерево, довольных смешков. Матвею невольно вспомнился алкогольный кошмар с хохочущим бурятом, который напоминал и Гришу, и Асфара Юнусовича одновременно, хотя в большей степени второго. Матвей представил Асфара Юнусовича в короне из пяти черепов и понял, что даже в таком виде тот смотрелся бы органично.
- А для кого рюмка стоит? – спросил он, осмелев.
- Сегодня с нами должен был обедать еще один человек, но вышло так, что он уже нигде присутствовать не может. Он, конечно, сам в этом виноват, но даже такого человека после смерти нужно хоть немного почтить.
Обрадовавшись, что к Асфару Юнусовичу вернулась привычная плавность и витиеватость речи, Матвей расслабился и деловито объяснил:
- Сначала я должен найти продавцов по хмурому. У меня их нет. У меня вообще другой контингент.
- Тебе не нужно никого искать, люди уже есть. Пять мордоворотов, восемь продавцов – таких, как ты сейчас. Очень хорошие, проверенные исполнители. Ты должен поставлять героин, следить за качеством их работы и при необходимости наставлять, как правильно себя вести. Тебе пригодится грубая сила, так что в помощники возьми Мишу, вы с ним неплохо сработались. Миша умеет вытягивать из людей информацию. У него своя методика – своеобразная, но действенная, - сообщил Асфар Юнусович и с усмешкой добавил, - можно даже сказать, что Миша гурман.
«Человечину, что ли, жрет?» - подумал Матвей, потому что этот вариант вполне мог быть правдой, но расспрашивать о явно неприятных подробностях не стал.
- Я ведь правильно понимаю, что должен кого-то заменить? – осведомился он. – От кого-то же осталось такое наследство?
- Правильно понимаешь. Был один поставщик, но он умер: то ли выпал из окна, то ли добровольно сбросился – сложно сказать. Он слишком много пил.
Матвей молча покосился на стоящую справа рюмку, которая предназначалась загадочному гостю, уже не способному с ними беседовать. Хрустальные грани рюмки искрились точками света, а поверх медного ободка лежала, подобно крышке гроба, заскорузлая черная краюшка.
- Сегодня поедешь со мной в Автово. Посвящу в детали, покажу склад и познакомлю с коллективом.
Матвей часто закивал. Ему не очень-то хотелось подниматься по карьерной лестнице, особенно учитывая вскрывшиеся обстоятельства, неразрывно связанные с неизвестными, но излишне конкретными и настоящими в бытийном плане азерами, однако страх перед Асфаром Юнусовичем оказался сильнее.
- Тебе знакомо имя Максима Булыгина? – спросил вдруг Асфар Юнусович, сделав скупой глоток чая. – У него был занятный сценический псевдоним, Yung Knife.
- Да, я знаю это имя, - кивнул Матвей, - слышал пару раз его песни, мне не понравилось. Знаю, что его убили за наркоту. То ли «Антидилер», то ли… наше ведомство.
- Да, ты прав, наше ведомство. Опосредованно, конечно, но факт остается фактом. Мое первое серьезное дело на нынешней должности. Булыгина выбрали не только из-за известности, не думай, что мы просто так разбрасываемся кадрами. Видишь ли, в какой-то момент он зазнался, возомнил себя большим начальником и стал вести себя неадекватно статусу. Как всё закончилось, ты наверняка знаешь.
Матвей знал историю смерти Булыгина слишком хорошо, потому что её в свое время подробно разобрали по косточкам всевозможные новостные издания, и с недавних пор она стала вызывать у него внутреннее содрогание. Он не сочувствовал Булыгину, но представлял на его месте себя и больше всего боялся умереть именно так. Воодушевленные таинственным обещанием ФСКН, активисты «Антидилера» забились в кредитную «тойоту» и для храбрости выпили, чтобы разухабисто выглядеть в кадре. Отыскав Булыгина в обещанном месте – на площади Трезини, они от души избили его на камеру. А потом прониклись новой идеей, выключили запись и за неимением в окрестностях безлюдного места увезли избитого Булыгина на берег реки Чухонка. Пытать и унижать его, записывая на камеру уже для себя, а не для общественности, они продолжили именно там, и длилось это полчаса – пока покрытый гематомами и кровью Булыгин не начал дергаться в судорогах, закатывать глаза и поминутно терять сознание. Часто поддающие активисты обратили внимание на его обморочное состояние лишь тогда, когда он потерял сознание надолго и перестал реагировать на пробуждающие пощечины. Приходить в себя Булыгин не мог, да и вряд ли уже хотел.
Унизительные издевательства потеряли в глазах активистов всякий смысл, потому что лишились ответной реакции. Решив, что Булыгин придет в себя позже, они привезли его обратно на площадь Трезини и выбросили перед бронзовым постаментом улыбающегося архитектора. Там Булыгин и скончался. В сознание, конечно же, он так и не пришел. На запястьях трупа обнаружили борозды от пластиковых стяжек.
Изъятые видеозаписи стали железным доказательством вины попавшихся на крючок активистов «Антидилера». Сопротивляющийся Булыгин сказал на камеру слишком много компрометирующих фактов, которые могли выдать лиц с высокими званиями, причастных к набирающему силу наркообороту, однако звук подчистили, наложив в нужных местах помехи, и предъявили жадной до зрелищ публике неоспоримое вещественное доказательство. «Антидилер» автоматически превратился в клуб любителей самосуда и жестокости, потому что наркосбыт Булыгина еще нужно было доказать, а вот их преступление было на поверхности.
Лукаво улыбнувшись, Асфар Юнусович посмотрел на помрачневшего Матвея:
- На Гришу, кстати, не злись. Он приболел и не отвечал за свое поведение. Конечно, он поступил с тобой слишком грубо, но ты и сам прекрасно знаешь, что нервная система не вечная. Особенно у тех, кто не может вовремя остановиться.
- Я сразу понял, что он на жесткую измену подсел, - пробормотал Матвей, приходя в себя.
- Еще бы ты этого не понял, - усмехнулся Асфар Юнусович и запустил руку в карман. Непринужденным жестом он положил слева от доски с шашками наручные часы. Рукав кителя немного задрался, и Матвей заметил резкую границу между бледной искусственной кистью и органической желтоватой рукой, покрытой черными волосами. Моргнув, он перевел взгляд на часы. В рельефном ремешке из черной кожи, металлическом ободке корпуса и застекленном черном циферблате с серовато-стальными насечками вместо цифр отражалось помертвелое сияние люстры, спотыкающееся об белую трещину, расположенную поверх предполагаемой восьмерки. Под утолщенной насечкой, которая заменяла полночь и полдень, серебрилась минималистичная «H» с изогнутой срединной дужкой.
- Титановый корпус, ремешок из крокодиловой кожи, сапфировое стекло, - произнес Асфар Юнусович со странной нежностью, - пылились в архиве с вещдоками. Дело об убийстве Булыгина давно закрыли, они нам больше не нужны. Сыграем на них в нарды. Если выиграешь, пожалуйста – забирай и носи на здоровье.
Сглотнув нервный ком, сотканный из холода погостов, Матвей молчаливым кивком принял приглашение. В Офтони он часто играл в нарды, и игра была ему знакома. Стараясь отвлечься от замогильных мыслей, он двигал выпавшие ему белые шашки с клина на клин и кидал кости. Кости часто выпадали парными числами, даря ему возможность удвоенных ходов. Увлекшись процессом, Матвей не заметил, как передвинул все белые шашки в надлежащую «хату».
- Любопытно… - задумчиво протянул Асфар Юнусович, рассматривая доску. – Впрочем, я предполагал, что поддаваться ты не будешь. Как и договаривались, часы теперь твои.
Встав на ноги, он возвысился над столиком, и его лицо скрылось за шаром люстры. Матвей нерешительно взял часы и осмотрел их со всех сторон. Задняя крышка оказалась стеклянной, за ней виднелись замершие шестерни, которые не заводили уже шесть лет. Опасаясь рассердить Асфара Юнусовича, Матвей натянуто улыбнулся и надел часы на левое запястье. Их вес тяготил руку и ассоциировался только с кабальной зависимостью. Обретя искаженное смертью прошлое, из атрибута богатства они превратились в мрачный атрибут принадлежности.
- Ты должен сделать выбор, очень важный выбор, Матюша… - задумчиво произнес Асфар Юнусович. – Но не этот. Другой.
Матвей не видел его лицо, затемненное ореолом неживого свечения, но по повороту головы догадывался, что Асфар Юнусович смотрит прямо на него. Свет слепил глаза, и Матвей невольно уткнулся взглядом в серый мундир, скрывающий человеческий корпус. Он разглядел в жестком сукне оттенок, который теперь был для него слишком знакомым, и понял, что при первой встрече зря счел его оттенком праха, оставшегося после кремации. Серый мундир Асфара Юнусовича повторял своим цветом не до конца очищенный афганский героин.
КОНЕЦ ВТОРОЙ ЧАСТИ
Глава 15
Промежуточное состояние
Промежуточное состояние
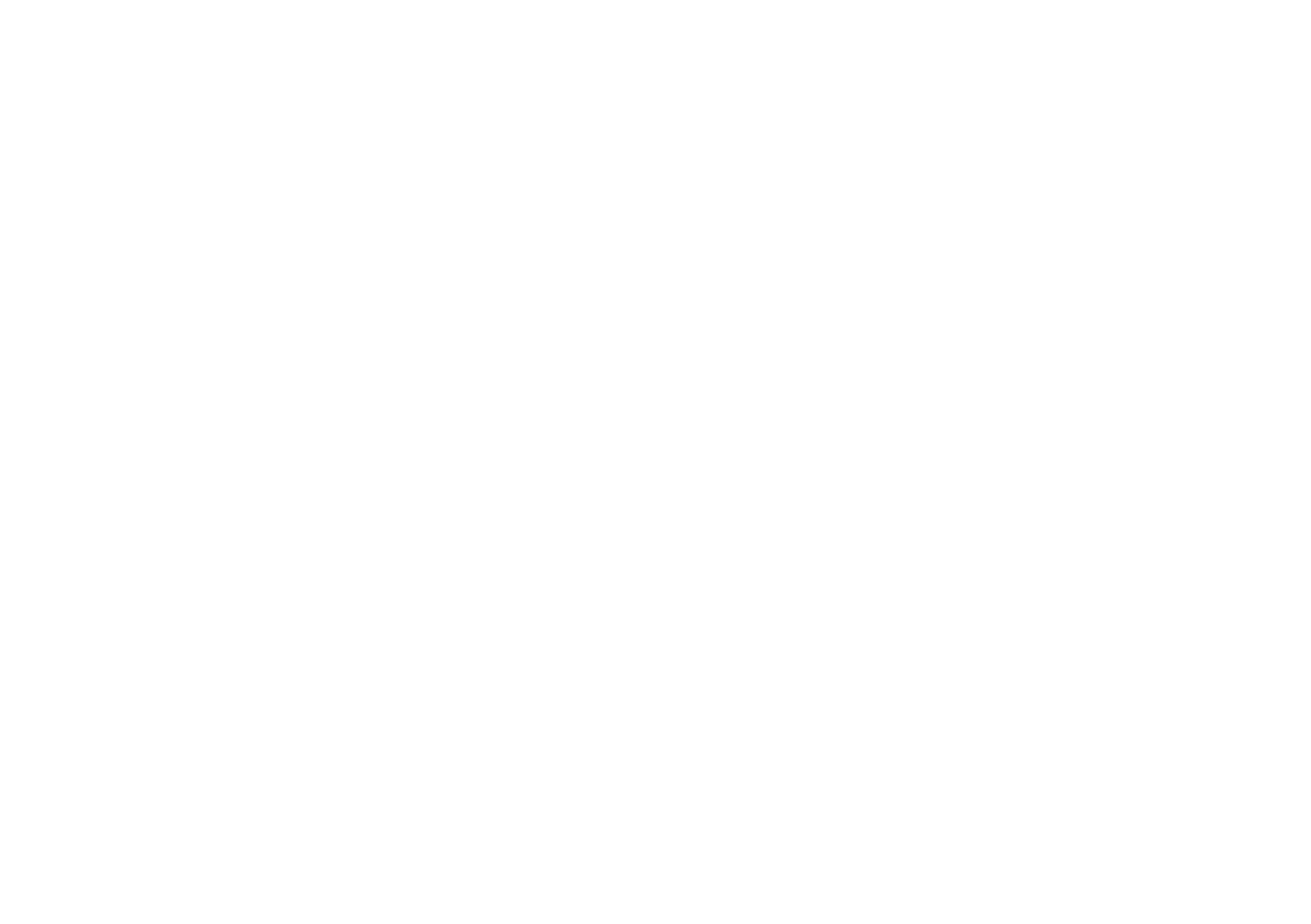
Какая жизнь коловращается в этих грязных чердаках и подвалах? Отчего эти голод и холод, эта нищета разъедающая, в самом центре промышленного богатого и элегантного города, рядом с палатами и самодовольно сытыми физиономиями? Как доходят люди до этого позора, порока, разврата и преступления? Как они нисходят на степень животного, скота, до притупления всего человеческого, всех не только нравственных чувств, но даже иногда физических ощущений страданий и боли? Отчего все это так совершается? Какие причины приводят человека к такой жизни? Сам ли он или другое что виной всего этого? Обвинить легко, очень легко — гораздо легче, чем вдуматься и вникнуть в причину вины, разыскать предшествовавшие "подготовительные и предрасполагающие" обстоятельства.
Всеволод Крестовский, «Петербургские трущобы»
Всеволод Крестовский, «Петербургские трущобы»
январь, 2032 год
С Александрой Сергеевной пришлось распрощаться. Обескураженный недавним нападением, Матвей присмотрел двухкомнатную квартиру на Большой Морской, неподалеку от которой располагалась платная парковка, отделенная от нужной парадной извилистой анфиладой сквозных дворов, и в назначенный день отправился на осмотр. Когда он вышел из машины, его глазам предстал серый четырехэтажный дом, на фасаде которого совсем не было лепнины.
Возле арки с ажурными воротами его встретила хозяйка квартиры – корпулентная женщина в белой шубке, по которой струились тяжелые светлые локоны. Вся её фигура, благоухающая цветочной свежестью, особенно губы, бюст и бедра, сквозила нарочитой искусственностью, а широкий лоб странным образом сочетался с изящным до хрупкости носом, который до ринопластики наверняка выглядел совсем иначе. Женщину звали Вероника Реми-Мартен, и звучал её псевдоним благородно, однако фамилия, копирующая название дорогого бухла, выдавала в женщине эскортницу. Судя по тому, какую квартиру она приобрела для сдачи, её услуги ценили очень высоко.
Проведя Матвея через замызганную арку, которая желтой буквой «Г» тянулась к двору-колодцу и была увита белыми змеями изолированных электропроводов, Вероника направилась к нужной парадной. Замедлив шаг, Матвей запрокинул голову и окинул взглядом тесную коробку двора, геометрия которого была близка к лавкрафтовской. В пасмурное небо врезались черные зубцы крыш, а желтые стены, испещренные грязными пятнами, напоминали кожу крокодильщика, и между ними металось ватное эхо ветра. По стенам змеились старые водосточные трубы, исковерканные вмятинами и ржавчиной, новые водосточные трубы, пока еще сверкающие свежестью железа, и толстые гофрированные трубы вытяжки. В центре двора виднелась чаша скромного фонтана, в котором совсем не было воды – мощеные голубой мозаикой стены покрывала грязь, а на дне желтели осенние листья.
Матвей поморщился. Фасад вновь оказался обманчивым.
Однако нутро было не в пример опрятнее. На каждую комнату приходилось по два контрастных тона, и светлая квартира с широкими окнами выглядела немного по-скандинавски: белая кухня с минимумом зеленой мебели, голубая с бледно-красным спальня и похожий на неё зал, расцветка которого была на порядок ярче.
Сотня квадратных метров располагалась на третьем этаже, и каждый месяц за нее нужно было выкладывать по восемьдесят тысяч. Выслушав Веронику, жесткая речь которой сопровождалась тягучим аканьем, Матвей еще раз прошелся по комнатам и задержался в зале.
Его внимание привлекла картина, которая не вписывалась в интерьер, тягостно с ним диссонируя, словно кто-то повесил её на стену в отсутствие хозяйки. Над диваном висела картина, написанная в теплых тонах. В русском поле, которое щетинилось деревянными крестами могил, сидели три козлоподобных существа, одно из которых было совсем ребенком. Существа рассматривали человеческий череп. Мраморно-смуглый козел, морда которого немного напоминала ослиную, таращил на череп удивленные глаза, лысое существо с вороньим клювом держалось со старческой задумчивостью, а существо-ребенок сидело, скрестив ноги под грузным пузом, изумленно глядя на Матвея и поглаживая себя по ломкому горлышку. Картина вызывала светлую печаль, смешанную с физическим отвращением.
Матвей покосился на румяную Веронику, от которой не ожидал чего-то подобного, однако она невозмутимо молчала, и он решил оставить вопросы при себе. Его устраивало всё: наличие видеонаблюдения на этажах, железная дверь с камерой, которая давала хороший обзор площадки, оставляя лишь две слепые зоны, и вместительный сейф. Придираться к такой надежной квартире всего лишь из-за картины было бы попросту глупо.
Именно за ней и скрывался объемный сейф с двумя отделениями, который сначала требовал код, потом отпечатки указательных пальцев и лишь затем с визгливым скрипом открывался. На верхней полке Матвей хранил наличные деньги, которые берег на тот случай, если вдруг потеряет доступ к счетам – внушительные пачки купюр, составляющие его месячный заработок. Нижнюю полку занимали наркотики. Килограммовые брикеты мефедрона и амфетамина, как и большие зиплоки, набитые экстази, покупал Куртов, уже отбросивший предубеждения и свыкшийся с новым статусом, который поначалу казался ему постыдным. Раз в неделю на нижней полке появлялись килограммовые брикеты героина, на которых жирно чернели печати: скорпионы, опийные маки, газели, львы… Печать зависела от места поставки.
Связующим звеном между прошлым и настоящим оставались лишь перламутрово-синий баян, на котором Матвей играл, когда ему становилось скучно, и золотое кольцо с аметистом, лежащее в прикроватном комоде – рядом с часами убитого Булыгина.
Ножи, купленные во время переезда на Большую Конюшенную, Матвей забрал на новую квартиру и точно так же распределил по комнатам, спрятав их в неприметных местах.
Перевезя на новую квартиру вещи, которые умещались в один чемодан, он стал обживаться. Со временем выяснилось, что этажные камеры фиксируют происходящее только при свете, а в квартире напротив живет глухая старуха с пепельно-седыми волосами, рассеянный вид которой наводил Матвея на мысли о деменции и газовых плитах.
К картине он со временем привык и даже перестал её замечать. Поддавшись любопытству, он выяснил, что это репродукция «Черепа предка», полотна ныне покойного Гелия Коржева, который до перестройки писал соцреалистические сюжеты, а потом стал то ли визионером, которому начали являться маслянисто-дородные бесы, то ли сумасшедшим и перешел на сценки из жизни тюрликов – людей будущего, выродившихся в чертей разной масти. Матвей находил в тюрликах, которых Коржев писал еще в двадцатом веке, сходство с партийными бонзами и верховными священнослужителями, которые до своей православной карьеры были братками, фээсбэшниками и красными во всех смыслах политруками, в молодости прошедшими полный курс научного атеизма.
Отметив в Стамбуле двадцать первый день рождения и встретив Новый год, Матвей вернулся домой к Рождеству. Дело было отнюдь не в празднике – его ждали совсем другие планы, и начаться им предстояло в полдень.
До назначенного срока оставалось полтора часа. Готовый к выходу Матвей, одетый в выглаженные до стрелок брюки и свежую белую рубашку, лежал на диване в зале – с закрытыми глазами, без единого движения. К левому запястью плотно прилегал ремешок часов, которые не останавливались с сентября, а сапфировое стекло циферблата мерцало белым червем трещины. На боковой стене поглаживал горлышко и беззвучно ворковал маленький тюрлик, застывший в вечном ребяческом изумлении. Плотные красные шторы были задернуты и не пропускали внутрь скудный свет зимнего дня.
Кофейный столик, длинный диван с двумя креслами и плоский телевизор с игровой приставкой тонули в мягком полумраке. Иногда Матвей приоткрывал глаза, но ярко-синие стены и блестящая люстра не переставали жечь сетчатку, усиливая головную боль, которая сдавливала череп. Матвей ждал, когда начнет действовать принятый кодеин, и надеялся, что к полудню он будет во вменяемом состоянии.
Головные боли лишали Матвея сил, делая его беззащитным, и вели к бездействию, которое в свою очередь волокло за собой неприятные размышления. Он не раз ловил себя на мысли, что нежелание иметь дело с опиатами, которое он четко осознавал еще в самом начале карьеры драгдилера, оказалось не таким уж и стойким – иначе он бы уже давно кормил рыб на дне Невы. Торговать героином ему, конечно, всё равно не нравилось, однако дело было совсем не в совести. Причиной была иррациональная брезгливость. Матвея мучили вопросы. Когда она успела в нем взойти? Почему он не заметил ее расцвета? И не он ли сам, неосознанно и загодя, заронил это семя в мозговой чернозем?
«Видимо, сам», - мрачно решил Матвей, не открывая глаз.
Конечно, он мог разбить аквариумное стекло хитиновым лбом и выйти за пределы стеклянного ящика, но сможет ли морской гад существовать за пределами стеклянного ящика? Выживет ли он на суше? Выхода не было. Точнее, все имеющиеся выходы были один хуже другого и неизбежно вели или к жалкому существованию, или к плачевному финалу. Оставалось лишь дрыгать лапками, плавая в затхлой мути застоявшейся воды, и стараться изо всех сил. Стеклянный ящик при любом раскладе был лучше деревянного.
Без пятнадцати полдень Матвей надел начищенные ботинки, обмотал вокруг шеи шарф и нырнул в серое полупальто. Кодеин уже дал о себе знать, отогнав основной массив боли и окутав Матвея легкой отстраненностью. Когда он вышел из парадной, резкий порыв ветра брызнул ему в лицо мелкими каплями дождя.
Матвей нахмурился. Он окинул взглядом двор, тонущий в сугробах, и пасмурный многоугольник неба, края которого щетинились длинными сосульками. Сугробы медленно поддавались дождю, теряя прохладный кокаиновый блеск, и скованная недавними морозами снежная корка становилась ноздреватой. У обветшалого фонтана курил молодой гопник, которого Матвей иногда видел через окна, выходящие во двор – сухощавый, косящий одним глазом и похожий сейчас на нахохлившегося голубя.
- Паршиво, да? – усмехнулся Миша, уже поджидающий его снаружи. Камуфляжная куртка с капюшоном визуально делала его крупнее, чем он был.
- Отвратительно, - согласился Матвей. Осторожно ступая по обманчиво мягкому слою снега, под которым прятался гололед, он медленно побрел в сторону парковки.
***
Санкт-Петербург переживал зимний коллапс. То ли коммунальные службы работали спустя рукава, то ли снега выпадало слишком много, то ли одно накладывалось на другое. Улицы сковало толстым слоем наледи, за высокими холмами сугробов, которые устилали обочины дорог, невозможно было разглядеть тротуар, а с крыш домов свисали ровные ряды сосулек – бугристых, прозрачных и угрожающе острых. Разноцветная муть старинных домов болезненно контрастировала со снежной белизной, тронутой выхлопными газами и реагентом. Гортанно завывал ветер, швыряя из стороны в сторону мелкие капли слепого дождя, а каналы дышали паром, клубы которого текуче перекатывались над водой.
Размазывая шинами коричневую слякоть, по Невскому проспекту неспешно ехал черный «гелендваген» не самого свежего вида, на правой двери которого красовалась белая наклейка в виде собачьей головы. За рулем сидел совсем юный, но уже злобно-радостный паренек, который иногда улыбался, демонстрируя миру крупные, как у хищника, зубы. Он был владельцем автомобиля, именно ему пришла в голову идея украсить его изображением собачьей головы. Сбоку от него сидел спокойный, даже сонный мужчина лет тридцати, однако это впечатление развеивал его внимательный взгляд. Движения были под стать взгляду – скупые и выверенные. Сзади ухмылялись два брата-погодка, поведение которых было пропитано развязностью. Все были здоровяками и носили негласную униформу ведомства – спортивные костюмы и кожаные куртки.
В нескольких метрах перед ними виднелся синий «порше», однако за рулем сидел не Матвей, а молодой веснушчатый бандит, которого звали Гена Черняк. Время от времени он косился то на сидящего рядом Мишу, который перебирал пальцами левой руки рубиновые четки, то на зеркало, где отражался его нынешний шеф – молодой, но хмурый координатор героинового потока, максимально непохожий на своего предшественника, который в начале осени при загадочных обстоятельствах выпал из окна и разбился насмерть. Новый шеф, Герыч, был умеренным кокаинщиком, иногда по-прокураторски страдал от головных болей и полагался в такие дни исключительно на медицинские опиаты. Образ жизни он вел замкнутый, а о личных делах распространяться не любил, так что Черняк не мог сказать о нем ничего определенного.
Внешне Герыч представлял собой худощавого блондина лет двадцати пяти и формально был даже привлекательным, однако впечатление производил неприятное – при виде его Черняку невольно вспоминалась мать, которая по выходным потрошила и готовила рыбу. Сначала она вспарывала рыбе брюхо, чтобы из него полезли петли кишок, а затем отрубала голову, прохладно глядящую на нее тусклой монеткой глаза.
Иногда Герыч нюхал кокаин или кололся, не стесняясь делать это на глазах у Черняка, и становился непривычно веселым, хоть и не откровенным. Шприцом он орудовал с непринужденностью бывалого торчка, что наталкивало на размышления, а разговаривал или сухо, или несдержанно – в зависимости от самочувствия. Но работников берег и на деньги их не кидал.
Судя по излишне узким зрачкам, сегодня ему нездоровилось. Он полулежал на заднем сиденье и рассеянно глядел в тонированное окно, за черным фильтром которого скользили снежные валы сугробов. На побледневшем лице особенно ярко проступили физические изъяны – бледно-фиолетовые синяки под глазами, редкая тускло-розовая сыпь и сухость щек.
- Давай я вместо тебя всё порешаю, - не выдержал Миша и повернулся к нему, - ты себя вообще видел? Ты же белый совсем.
- Может, я хочу лично поговорить с этим блинопеком, - раздраженно произнес Герыч, прервав бесцельное созерцание и покосившись на Мишу с видимым недовольством. Как и полагалось заядлым кокаинистам, говорил он с гнусавым прононсом.
- Да уж, крепко ты за него взялся…
- Потому что банчить надо нормально. Не понимаю, как он с такими мозгами дожил до своего возраста, - решительно сказал Герыч и сорвался на слабый вскрик, - крахмал он сыплет один к одному, ну что за даун!
- Сегодня ты его отпиздишь, допустим, - продолжил Миша, - а как потом его контролировать?
- Я купил тесты на чистоту геры. Запишу показатели сегодняшней партии, чтобы было с чем сравнивать.
- Как ты вообще узнал про крахмал?
- Как-то узнал, - ответил Герыч со злорадным смешком. Миша отвернулся. На фоне темного стекла, за которым плясали багряные отблески мигающего светофора, его мясистый профиль казался мучнисто-белым.
Когда Герычу нездоровилось, он по максимуму отстранялся от разговоров, и Миша, не до конца понимающий его планы, начинал мягко вытягивать разъяснения, но получал только скупые ответы. Иногда он в сердцах называл Герыча «нервным марафетчиком» или просто «наркотом», потому что считал это оскорблением – к наркоманам он относился с легкой настороженностью, которую на работе подавлял, ведь наркоманами была львиная доля его коллег. После этих слов он всегда поглядывал на Черняка, надеясь заручиться поддержкой точно такого же убежденного трезвенника, но Черняк тактично молчал, потому что Миша, будучи близким помощником Герыча и практически ему равным, мог выражаться в таком тоне, а вот Черняку нужно было соблюдать субординацию. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. В его обязанности входило водить машину и быть на подхвате. Герыч же на возмущения Миши реагировал без должной обиды – для него они были просто констатацией факта, и перепалка угасала сама по себе.
В тишине они доехали до первого пункта сегодняшнего маршрута - бледно-салатного купеческого дома с ветшающим мезонином, что находился на Лиговском проспекте. Миновав арку, кортеж из двух люксовых иномарок остановился в заснеженном дворе.
- Гена, ты идешь со мной, - нахмурился Герыч, принял угрюмый вид и вышел из машины. Утопая по колено в сугробах, он направился к ближайшей парадной, и Черняк молчаливой, но сосредоточенной тенью последовал за ним.
«Вот же каланча», - думал он, разглядывая узкую спину, обтянутую серым драпом. Дребезжащий ветер подбрасывал светлые вихры Герыча и сминал его выглаженные брюки.
В истрёпанной парадной пахло скисшим супом, а нужная квартира была ей под стать. Когда дверь открылась, первым делом Черняк увидел молодую женщину в цветастой олимпийке, глаза которой скрывались за темными очками в виде сердечек. На шее отливал бензиновым золотистый чокер, а на губах то и дело надувался алый пузырь жвачки. Это была Киса, содержательница свежевого притона и неплохая варщица.
- Твой метадон, - улыбнулась она и протянула Герычу увесистый зиплок, в котором было под сотню граммов. Герыч внимательно осмотрел зиплок и убрал его во внутренний карман, после чего вручил Кисе целлофановый пакет, в котором отчетливо просматривались блистеры таблеток
- Зачем тебе столько мяса, Герыч? – спросила Киса. – И откуда у тебя трам?
- Для больного раком, - угрюмо сказал он, ответив только на первый вопрос, - где этот козел?
- В спальне, - махнула рукой Киса, указав куда-то вглубь квартиры. Сложив руки за спиной, Герыч шагнул внутрь. Неотрывно следуя за ним, Черняк с брезгливостью разглядывал анфиладу просторных, но засаленных временем комнат, назначение которых сложно было определить. Широкие окна были занавешены голубовато-ртутными шторами, от которых несло застарелой пылью, а в одной из комнат обнаружилась этажерка, заставленная потертыми политическими книгами. Черняк успел прочесть несколько названий - «Рыцарь Белого дома», «Метафизика войны», «Красота и мизогиния», но ни одного не узнал. Комнаты полнились людьми разной степени перекрытости: кто курил, стряхивая пепел прямо на рассохшийся паркет, кто безуспешно брал контроль, копаясь шприцем в землистой руке, кто расхаживал из стороны в сторону, подергивая головой и поблескивая черными глазами. Опрятно одетый Герыч смотрелся в притоне чужеродно, однако держался так, будто подобные места были ему не в новинку. Скорее всего, так оно и было.
В спальне, которая оказалась самой последней в ряду комнат, напряженно кружились лопасти потолочного вентилятора, разгоняя спертый воздух, а на продавленной кушетке, под изгибом черного флага с суровым профилем Ельцина вальяжно сидел вышеупомянутый «козел» - молодой распространитель Сеня Кондрашов, окруженный тремя укуренными женщинами, от которых разило анашой.
Сеня был пасынком мелкого депутата и в свое время попался на сбыте. Депутат Кондрашов не стал его отмазывать и даже отказался от него публично, заявив, что честный слуга народа не может поддерживать сына, преступившего закон, чем заслужил безоговорочное доверие избирателей. Потом, правда, быстро его потерял, ввязавшись в сомнительную историю с особенно неэтичным распилом, которая стала известна широкой общественности.
Щеголеватый Сеня, из принципа не стригущийся коротко, жаловал мдма и стимуляторы вообще, поэтому был тощим, а двигался торопливо и резко. Его снежно-белый бомбер с бамбуковыми стеблями и золотистыми тиграми не сочетался с обстановкой, а свежий парфюм смешивался с тяжелым воздухом квартиры в неприятное амбре. А еще Сеня не видел берегов и был для Герыча досаждающей проблемой, с которой, однако, приходилось работать.
Заметив двух незнакомцев не самого приветливого вида, женщины молча вышли из комнаты, бросив Сеню одного. Предчувствуя недоброе, он натянуто улыбнулся, но оправдаться не успел. Хмурый Герыч схватил его левой рукой за волосы и вынудил встать. Улыбка сразу сбежала с лица Сени.
- Ты попутал? – резко спросил Герыч, дернув уголком рта. – Если тебе дают героин, ты его и должен продавать, а не крахмал голимый. Ты в «Теремке» работаешь, что ли?
- Я ничего не трогал, я не сыпал крахмал… - испуганно залепетал Сеня, и у него задрожали колени. – Может быть, кто-то до меня… Через множество рук…
Герыч отвесил Сене тяжелую оплеуху, и его голова с покрасневшей щекой опрокинулась набок. У него подгибались ноги, но Герыч не давал ему упасть.
- До тебя он был в моих руках, дегенерат. Хочешь сказать, что это я туда крахмал насыпал? А ты не охуел? – продолжил Герыч, грубо встряхивая его после каждого заданного вопроса.
- Кто-то до тебя, я же не говорю, что это был ты… - хныкал он, отрывисто задыхаясь.
- На склад крахмал не возят! – вдруг закричал Герыч, выйдя из себя. Он ударил Сеню кулаком по носу, и тот с жалобным вскриком рухнул на пол. Держась на расстоянии двух шагов, Черняк отстраненно наблюдал за происходящим. Он не раз проделывал подобное, когда работал коллектором и прессовал должников. Герыч нещадно пинал провинившегося Сеню, иногда попадая по лицу. Он даже покраснел от злости, и это придало его болезненному виду некоторую здоровость. Сеня в отчаянии пытался сгруппироваться, прикрывал голову руками и надсадно кричал, однако в спальню никто не входил.
Потратив на Сеню минуту, Герыч вздохнул и отошел назад. Сеня валялся перед кушеткой, плакал, вздрагивая от боли, и пытался подняться, но обессилевшее тело не слушалось. Из разбитого носа текла кровь, её капли расплывались на белой ткани бомбера, как чернильные кляксы на влажной бумаге, а кожа пестрела кровоточащими ссадинами от ботинок.
- Я не говорю, что ты вообще не должен его бодяжить, это уже какая-то фантастика. Но делай это хотя бы так, чтобы никто ничего не понял. Особенно я.
Издав невнятный стон, выражающий согласие, Сеня затрясся и сжался в комок, подтянув колени к лицу. Видимо, он решил, что его снова будут бить.
- Ты бы еще хлеба туда накрошил! – сорвался Герыч на крик, а потом спокойно добавил. – Теперь я каждый раз буду записывать, какой в гере процент бутора. И если после твоих рук он вдруг станет ощутимо выше, мы с тобой будем в другом месте разговаривать. И совсем иначе. Ты понял?
Зарыдав еще сильнее, Сеня часто закивал и принялся возить по окровавленному лицу руками. Утереться ему не удавалось: кровь не останавливалась и размазывалась по коже, по волосам, по белым манжетам. Давая знать, что разговор окончен, Герыч развернулся на каблуках и вышел из спальни. Черняку не оставалось ничего, кроме как пойти за ним.
Следующим пунктом маршрута был склад в Автово, располагающийся возле «Юноны» - старого рынка, который существовал уже больше тридцати лет. В закоулках «Юноны» можно было приобрести свежесть и тут же её употребить, отыскав укромный угол. Справа от рынка находился бывший гаражный кооператив, пять лет назад выкупленный у собственников неким ЗАО «Мунпром», деятельность которого была крайне неопределенной. Нужный склад, в действительности представляющий собой весьма просторный гараж, куда каждую неделю поступала партия героина, находился на отшибе выкупленной территории, и за бетонным забором теснились исполинские вышки электропередач. Наслаиваясь друг на друга, металлические конструкции складывались в ажурную сеть, при виде которой в глазах начинало рябить, а к югу от складской зоны лучилась синими волнами гавань – плавно перетекающая в Невскую губу, а затем и вовсе в Финский залив.
Формально склад сдавался в аренду малопонятному ТОО «Химфарм», и частично это даже было правдой. Раз в неделю сюда приезжали Герыч с охраной и курьер, для надежности сопровождаемый приставленным к нему амбалом. Забрав оплаченный героин, проштампованный печатями афганских картелей, Герыч увозил его домой и уже оттуда рассылал дронами по продавцам вроде Сени. Продавцов у него в подчинении было восемь.
Встреча на складе должна была состояться в два часа дня, и до оговоренного времени оставался час. Побеседовав с Сеней, Герыч заметно взбодрился и даже начал слабо улыбаться. Когда кортеж преодолел мост, ведущий через Обводной канал, он достал пискнувший смартфон и, судя по торопливым движениям пальцев, начал с кем-то переписываться. В удивлении вскинув брови, Герыч широко раскрыл глаза и закусил губу. Его пальцы на какое-то время замерли. Но он моргнул, собрался с мыслями, которые рассеялись явно под впечатлением диалога, и продолжил лихорадочно печатать – с заметно раздраженным, даже подавленным видом.
Наконец отбросив смартфон на сиденье, Герыч резко подался вперед и торопливо процедил сквозь зубы, уставившись на Мишу со странной тревогой:
- Связанного Куртова держат в каком-то подвале в Мурино.
- Кто? – тихо спросил Миша. Машина снова стояла на переходе, и на этот раз за тонированным окном мерцал зеленый глаз светофора, ежесекундно окружая бритую голову Миши мертвенным ореолом.
- Кретины охуевшие! – вскрикнул Герыч, поддаваясь отчаянию. – Откуда я знаю, Миша? Говорят, что Куртов их кинул, и хотят, чтобы я с ними встретился. Прямо сейчас.
- И что ты собираешься делать?
- Сказал, что подъеду.
- Но ты не подъедешь?
- Конечно, нет! Я что, на идиота похож? – в его голосе послышались истерические нотки, которые, впрочем, быстро исчезли. – Послал туда Егорова с ребятами. Они потом всех на склад привезут: и Куртова, и этих уродов. Хочу с ними поговорить.
Черняк удивился, но виду не подал. Впервые с сентября он видел шефа выбитым из колеи: тот балансировал между испугом и злобой, которые поминутно сменяли друг друга. Миша ответил Герычу молчанием и предвкушающей улыбкой мокрушника.
- Всё это очень странно… - задумчиво пробормотал Герыч и вернулся на свое место, приняв расслабленную позу. Закинув ногу на ногу, он сложил руки на груди и закрыл глаза. Складывалось впечатление, что он дремлет. Но когда за окном показались белые ребра фонарей, нависающие над узлом платной магистрали, он вдруг отчужденно произнес:
- Гена, опоздай на пятнадцать минут.
- Это легко, опоздаем, - отозвался Черняк и съехал с проложенного маршрута, намереваясь покружить по окрестностям. Над Автово плотными грядами нависали травянисто-серые панельные дома, на крышах которых чернели кривые, будто надломленные антенны, а в лабиринте дворов, прижимаясь к земле, ржавели аскетичные турники.
***
Зябко прячась в натянутой до самых глаз шапке и тяжелой куртке-аляске, Родя сидел на обледенелом бортике фонтана и курил. На его бледных щеках тлел бледный румянец болезни. Грея ладони в карманах, Родя сжимал сигарету зубами, среди которых выделялась металлическая коронка, и выдыхал дым, смешанный с теплым молочно-белым паром. Три дня назад он уже в который раз поссорился с Соней, добрался на электричке до Балтийского вокзала и вернулся в тихую гавань – к бабушке, которая жила в двухкомнатной квартире на Большой Морской, купленной еще при Ельцине. Полностью глухая Эмма Витальевна, последние двадцать лет ведущая жизнь отшельницы, погруженным внутрь взглядом зафиксировала присутствие Роди и вернулась к своим старческим делам, скрывшись в спальне, где удушливо пахло цветами, которые в изобилии украшали комнату, и аптечными лекарствами.
Родя намеревался пожить у Эммы Витальевны до среды, однако на этот раз Соня снизошла, решив не дожидаться переломного дня, когда он остынет и придет каяться добровольно.
- Вылезай из своей сычевальни, я жду тебя возле Исаакия, - с чувством произнесла Соня, и это было чувство затаенного злорадства, - сделаю тебе заманчивое предложение.
Безошибочно прочитав в её интонации, что злорадство направлено на кого-то другого, Родя для порядка поворчал, но согласился. Закутав горячее от температуры тело в зимнюю одежду, он вышел во двор и пристроился возле фонтана, чтобы вольготно покурить - Эмма Витальевна запрещала курить в квартире. У ступеней парадной терся мордастый мужик в камуфляжной парке, лицо которого было Роде незнакомо, и время от времени он кидал на мужика превентивно злобный взгляд, однако тот ничего не замечал, словно Родя был осенней мухой, на которую не стоило обращать внимания.
Когда догорала третья сигарета, железная дверь парадной, где жила Эмма Витальевна, медленно приоткрылась, и из-за неё выскользнул тот, кого так долго ждал незнакомец. Родя вскинул брови и чуть не выронил изо рта тлеющий окурок, но вовремя сдержал бушующие эмоции. Из парадной вышел Герыч, торгаш, которого он знал только по инстаграму и твиттеру, однако это не мешало Роде ненавидеть его всеми фибрами очерствелой души. Для ненависти было две причины. Во-первых, Родя считал, что зарабатывать на чужом здоровье – это верх непорядочности, а Герыч именно этим и занимался, задевая еще и Соню. Во-вторых, Родя терпеть не мог, когда о своем высоком статусе заявляли люди, внешне для этого совсем не подходящие. Одетый в приталенное пальтишко, стриженый слишком уж по-хипстерски, долговязый Герыч олицетворял всё то, что Родя так презирал, и был при этом наркобарыгой, которых Родя тоже недолюбливал.
«Ты что тут забыл, сука мусорская?» - хотелось спросить Роде, однако его останавливало присутствие незнакомца, который заговорил с Герычем весьма дружелюбным тоном. Обменявшись скупыми фразами, они направились в соседний двор. Родя успел заметить, как в кулаке Герыча мелькнула связка ключей с брелоком.
«И как это понимать?.. - думал Родя, волоча ноги к Исаакию. Он продолжал внутренний диалог. – Морду бы тебе расквасить. Радуйся, что у тебя хорошая крыша, а то бы я тебя надолго в больницу уложил. Спутаюсь с таким говном, потом еще и крайним останусь…»
Родя готов был поспорить, что Герыч, несмотря на угрюмый вид, являлся человеком слабохарактерным. Слишком уж знаком был Роде такой типаж: он не раз проявлял агрессию по отношению к дилерам, которых никто не мог защитить, и почти все поддавались, теряя достоинство и иногда даже начиная плакать, после чего отдавали требуемое. Однако к Герычу соваться явно не стоило.
Над монументальной громадой Исаакиевского собора, блистающей темным золотом куполов, нависало мутное небо, затянутое плотными тучами. Сквер, разбитый напротив собора, сверкал белизной снега, сквозь который коричневыми прожилками проглядывали узловатые стволы деревьев и тонкие ветви кустарников, которые в мае обсыпало гроздьями цветущей сирени. Закинув ногу на ногу, Соня вальяжно ожидала на скамье, по которой раскинулась тень векового дуба. Отростки тени криво ложились на заостренный силуэт Сони, размыто растекаясь по зеленому виниловому плащу, утепленному изнутри мехом.
Заметив подсевшего Родю, Соня резко повернула голову, качнув серебристыми серьгами в виде шахматных пешек, и он поежился под настойчивым взглядом её глаз, в которых брезжила искренняя, совсем не химическая радость. Родя слишком хорошо знал Соню, чтобы принять эту радость на свой счет.
- Зачем ты меня сюда вытащила? – с неохотой спросил он.
- Раз уж тебе так не нравится, что я сосу чужие члены… - с расстановкой начала Соня, напустив на себя таинственный вид. Роде невольно представилось, как она закатывает в глаза в манере переигрывающей провинциальной актрисы, изображая физиологический восторг, и он поморщился.
- Рожу не криви, у меня идея есть, - осадила его Соня, - как ты знаешь, в Грузии довольно дешево жить, а ты всё равно прячешься от коллекторов, и в Питере тебя ничто не держит…
- Ты заколебала со своей Грузией. Там тоже будешь с мужиками спать?
- При чем тут мужики, дурак? – отмахнулась Соня. – Я предлагаю тебе кого-нибудь ограбить. Добыть несколько миллионов и сбежать в Грузию.
Родя тоскливо покосился на собор. Фронтон с волхвами, позеленевший от дождей многих лет, не вызывал религиозных мыслей и ассоциировался лишь с рабочими, которые возводили собор, попирающий фундаментом вязкие топи болот, и кончили тем, что отравились парами ртути. Натужно выл ветер, качая голыми ветвями дубов, а влажный зимний воздух набивал нос сыростью.
- Предлагаешь барыг хлопать? – нахмурился Родя, прикидывая, сколько ограблений ему придется совершить. Его жертвы защиты не имели, соответственно, осторожничали и не могли позволить себе хороший оборот и солидную прибыль. А тех, кто ворочал крупным оптом и зарабатывал достаточно, трогать было себе дороже.
- Почему сразу барыг? Ты у них хоть когда-нибудь больше сотни забирал? – улыбнулась Соня. – Хлопнем одного из зажиточных китайцев, которые ездят сюда отдыхать, будто мы страна третьего мира.
- И где ты найдешь китайца?
- Китаец сам меня найдет. Точнее, уже нашел. Могу предложить тебе на выбор несколько кандидатур пожирнее. Всё очень просто, Родя. Я связываю клиента и впускаю тебя. Пытаем, убиваем и забираем деньги, а потом сразу же на пароме уплываем в Финку. А уже оттуда в Грузию.
Изложив план, Соня замолчала, и её голова расслабленно качнулась к левому плечу. В черноте волос забрезжила серебристая пешка. Родя поправил шапку и ничего не сказал. Ограбления были для него рутиной, однако раньше речь шла совсем о других суммах, совсем о других мишенях… Родя запугивал дилеров, но не убивал их. Ему в принципе не доводилось убивать, и он прекрасно понимал, что сможет решиться на убийство лишь в одном случае – если доберется до полковника Жарова. Ему недоставало силы духа, чтобы лишать жизни дилеров и просто незнакомцев, к которым он ничего не испытывал.
- И как ты его свяжешь? – скептически спросил он. – Ты же баба, он не даст себя связать.
- Не тупи, Романов. Он сам попросит, чтобы я его связала.
- Ты сейчас серьезно говоришь? – тихо спросил Родя, исподлобья уставившись на нее. Соня растянула в улыбке темно-малиновые губы:
- Да, зазноба моя, более чем серьезно.
- Я людей никогда не убивал, - тихо, но отчетливо проговорил Родя, - ты в курсе, что ты больная на всю голову? Я даже торгашей в живых оставляю, а ты так спокойно предлагаешь укокошить одного из твоих извращенцев?
- И всё же подумай, лапонька, - лукаво прищурилась Соня, продолжая ядовито улыбаться, - хороший план простаивает.
Родя вскочил на ноги и быстрым шагом направился прочь из сквера, на ходу выламывая сигарету из пачки. Утром он подумывал о примирении, однако жутковатая эскапада Сони отбила у него это желание.
С Александрой Сергеевной пришлось распрощаться. Обескураженный недавним нападением, Матвей присмотрел двухкомнатную квартиру на Большой Морской, неподалеку от которой располагалась платная парковка, отделенная от нужной парадной извилистой анфиладой сквозных дворов, и в назначенный день отправился на осмотр. Когда он вышел из машины, его глазам предстал серый четырехэтажный дом, на фасаде которого совсем не было лепнины.
Возле арки с ажурными воротами его встретила хозяйка квартиры – корпулентная женщина в белой шубке, по которой струились тяжелые светлые локоны. Вся её фигура, благоухающая цветочной свежестью, особенно губы, бюст и бедра, сквозила нарочитой искусственностью, а широкий лоб странным образом сочетался с изящным до хрупкости носом, который до ринопластики наверняка выглядел совсем иначе. Женщину звали Вероника Реми-Мартен, и звучал её псевдоним благородно, однако фамилия, копирующая название дорогого бухла, выдавала в женщине эскортницу. Судя по тому, какую квартиру она приобрела для сдачи, её услуги ценили очень высоко.
Проведя Матвея через замызганную арку, которая желтой буквой «Г» тянулась к двору-колодцу и была увита белыми змеями изолированных электропроводов, Вероника направилась к нужной парадной. Замедлив шаг, Матвей запрокинул голову и окинул взглядом тесную коробку двора, геометрия которого была близка к лавкрафтовской. В пасмурное небо врезались черные зубцы крыш, а желтые стены, испещренные грязными пятнами, напоминали кожу крокодильщика, и между ними металось ватное эхо ветра. По стенам змеились старые водосточные трубы, исковерканные вмятинами и ржавчиной, новые водосточные трубы, пока еще сверкающие свежестью железа, и толстые гофрированные трубы вытяжки. В центре двора виднелась чаша скромного фонтана, в котором совсем не было воды – мощеные голубой мозаикой стены покрывала грязь, а на дне желтели осенние листья.
Матвей поморщился. Фасад вновь оказался обманчивым.
Однако нутро было не в пример опрятнее. На каждую комнату приходилось по два контрастных тона, и светлая квартира с широкими окнами выглядела немного по-скандинавски: белая кухня с минимумом зеленой мебели, голубая с бледно-красным спальня и похожий на неё зал, расцветка которого была на порядок ярче.
Сотня квадратных метров располагалась на третьем этаже, и каждый месяц за нее нужно было выкладывать по восемьдесят тысяч. Выслушав Веронику, жесткая речь которой сопровождалась тягучим аканьем, Матвей еще раз прошелся по комнатам и задержался в зале.
Его внимание привлекла картина, которая не вписывалась в интерьер, тягостно с ним диссонируя, словно кто-то повесил её на стену в отсутствие хозяйки. Над диваном висела картина, написанная в теплых тонах. В русском поле, которое щетинилось деревянными крестами могил, сидели три козлоподобных существа, одно из которых было совсем ребенком. Существа рассматривали человеческий череп. Мраморно-смуглый козел, морда которого немного напоминала ослиную, таращил на череп удивленные глаза, лысое существо с вороньим клювом держалось со старческой задумчивостью, а существо-ребенок сидело, скрестив ноги под грузным пузом, изумленно глядя на Матвея и поглаживая себя по ломкому горлышку. Картина вызывала светлую печаль, смешанную с физическим отвращением.
Матвей покосился на румяную Веронику, от которой не ожидал чего-то подобного, однако она невозмутимо молчала, и он решил оставить вопросы при себе. Его устраивало всё: наличие видеонаблюдения на этажах, железная дверь с камерой, которая давала хороший обзор площадки, оставляя лишь две слепые зоны, и вместительный сейф. Придираться к такой надежной квартире всего лишь из-за картины было бы попросту глупо.
Именно за ней и скрывался объемный сейф с двумя отделениями, который сначала требовал код, потом отпечатки указательных пальцев и лишь затем с визгливым скрипом открывался. На верхней полке Матвей хранил наличные деньги, которые берег на тот случай, если вдруг потеряет доступ к счетам – внушительные пачки купюр, составляющие его месячный заработок. Нижнюю полку занимали наркотики. Килограммовые брикеты мефедрона и амфетамина, как и большие зиплоки, набитые экстази, покупал Куртов, уже отбросивший предубеждения и свыкшийся с новым статусом, который поначалу казался ему постыдным. Раз в неделю на нижней полке появлялись килограммовые брикеты героина, на которых жирно чернели печати: скорпионы, опийные маки, газели, львы… Печать зависела от места поставки.
Связующим звеном между прошлым и настоящим оставались лишь перламутрово-синий баян, на котором Матвей играл, когда ему становилось скучно, и золотое кольцо с аметистом, лежащее в прикроватном комоде – рядом с часами убитого Булыгина.
Ножи, купленные во время переезда на Большую Конюшенную, Матвей забрал на новую квартиру и точно так же распределил по комнатам, спрятав их в неприметных местах.
Перевезя на новую квартиру вещи, которые умещались в один чемодан, он стал обживаться. Со временем выяснилось, что этажные камеры фиксируют происходящее только при свете, а в квартире напротив живет глухая старуха с пепельно-седыми волосами, рассеянный вид которой наводил Матвея на мысли о деменции и газовых плитах.
К картине он со временем привык и даже перестал её замечать. Поддавшись любопытству, он выяснил, что это репродукция «Черепа предка», полотна ныне покойного Гелия Коржева, который до перестройки писал соцреалистические сюжеты, а потом стал то ли визионером, которому начали являться маслянисто-дородные бесы, то ли сумасшедшим и перешел на сценки из жизни тюрликов – людей будущего, выродившихся в чертей разной масти. Матвей находил в тюрликах, которых Коржев писал еще в двадцатом веке, сходство с партийными бонзами и верховными священнослужителями, которые до своей православной карьеры были братками, фээсбэшниками и красными во всех смыслах политруками, в молодости прошедшими полный курс научного атеизма.
Отметив в Стамбуле двадцать первый день рождения и встретив Новый год, Матвей вернулся домой к Рождеству. Дело было отнюдь не в празднике – его ждали совсем другие планы, и начаться им предстояло в полдень.
До назначенного срока оставалось полтора часа. Готовый к выходу Матвей, одетый в выглаженные до стрелок брюки и свежую белую рубашку, лежал на диване в зале – с закрытыми глазами, без единого движения. К левому запястью плотно прилегал ремешок часов, которые не останавливались с сентября, а сапфировое стекло циферблата мерцало белым червем трещины. На боковой стене поглаживал горлышко и беззвучно ворковал маленький тюрлик, застывший в вечном ребяческом изумлении. Плотные красные шторы были задернуты и не пропускали внутрь скудный свет зимнего дня.
Кофейный столик, длинный диван с двумя креслами и плоский телевизор с игровой приставкой тонули в мягком полумраке. Иногда Матвей приоткрывал глаза, но ярко-синие стены и блестящая люстра не переставали жечь сетчатку, усиливая головную боль, которая сдавливала череп. Матвей ждал, когда начнет действовать принятый кодеин, и надеялся, что к полудню он будет во вменяемом состоянии.
Головные боли лишали Матвея сил, делая его беззащитным, и вели к бездействию, которое в свою очередь волокло за собой неприятные размышления. Он не раз ловил себя на мысли, что нежелание иметь дело с опиатами, которое он четко осознавал еще в самом начале карьеры драгдилера, оказалось не таким уж и стойким – иначе он бы уже давно кормил рыб на дне Невы. Торговать героином ему, конечно, всё равно не нравилось, однако дело было совсем не в совести. Причиной была иррациональная брезгливость. Матвея мучили вопросы. Когда она успела в нем взойти? Почему он не заметил ее расцвета? И не он ли сам, неосознанно и загодя, заронил это семя в мозговой чернозем?
«Видимо, сам», - мрачно решил Матвей, не открывая глаз.
Конечно, он мог разбить аквариумное стекло хитиновым лбом и выйти за пределы стеклянного ящика, но сможет ли морской гад существовать за пределами стеклянного ящика? Выживет ли он на суше? Выхода не было. Точнее, все имеющиеся выходы были один хуже другого и неизбежно вели или к жалкому существованию, или к плачевному финалу. Оставалось лишь дрыгать лапками, плавая в затхлой мути застоявшейся воды, и стараться изо всех сил. Стеклянный ящик при любом раскладе был лучше деревянного.
Без пятнадцати полдень Матвей надел начищенные ботинки, обмотал вокруг шеи шарф и нырнул в серое полупальто. Кодеин уже дал о себе знать, отогнав основной массив боли и окутав Матвея легкой отстраненностью. Когда он вышел из парадной, резкий порыв ветра брызнул ему в лицо мелкими каплями дождя.
Матвей нахмурился. Он окинул взглядом двор, тонущий в сугробах, и пасмурный многоугольник неба, края которого щетинились длинными сосульками. Сугробы медленно поддавались дождю, теряя прохладный кокаиновый блеск, и скованная недавними морозами снежная корка становилась ноздреватой. У обветшалого фонтана курил молодой гопник, которого Матвей иногда видел через окна, выходящие во двор – сухощавый, косящий одним глазом и похожий сейчас на нахохлившегося голубя.
- Паршиво, да? – усмехнулся Миша, уже поджидающий его снаружи. Камуфляжная куртка с капюшоном визуально делала его крупнее, чем он был.
- Отвратительно, - согласился Матвей. Осторожно ступая по обманчиво мягкому слою снега, под которым прятался гололед, он медленно побрел в сторону парковки.
***
Санкт-Петербург переживал зимний коллапс. То ли коммунальные службы работали спустя рукава, то ли снега выпадало слишком много, то ли одно накладывалось на другое. Улицы сковало толстым слоем наледи, за высокими холмами сугробов, которые устилали обочины дорог, невозможно было разглядеть тротуар, а с крыш домов свисали ровные ряды сосулек – бугристых, прозрачных и угрожающе острых. Разноцветная муть старинных домов болезненно контрастировала со снежной белизной, тронутой выхлопными газами и реагентом. Гортанно завывал ветер, швыряя из стороны в сторону мелкие капли слепого дождя, а каналы дышали паром, клубы которого текуче перекатывались над водой.
Размазывая шинами коричневую слякоть, по Невскому проспекту неспешно ехал черный «гелендваген» не самого свежего вида, на правой двери которого красовалась белая наклейка в виде собачьей головы. За рулем сидел совсем юный, но уже злобно-радостный паренек, который иногда улыбался, демонстрируя миру крупные, как у хищника, зубы. Он был владельцем автомобиля, именно ему пришла в голову идея украсить его изображением собачьей головы. Сбоку от него сидел спокойный, даже сонный мужчина лет тридцати, однако это впечатление развеивал его внимательный взгляд. Движения были под стать взгляду – скупые и выверенные. Сзади ухмылялись два брата-погодка, поведение которых было пропитано развязностью. Все были здоровяками и носили негласную униформу ведомства – спортивные костюмы и кожаные куртки.
В нескольких метрах перед ними виднелся синий «порше», однако за рулем сидел не Матвей, а молодой веснушчатый бандит, которого звали Гена Черняк. Время от времени он косился то на сидящего рядом Мишу, который перебирал пальцами левой руки рубиновые четки, то на зеркало, где отражался его нынешний шеф – молодой, но хмурый координатор героинового потока, максимально непохожий на своего предшественника, который в начале осени при загадочных обстоятельствах выпал из окна и разбился насмерть. Новый шеф, Герыч, был умеренным кокаинщиком, иногда по-прокураторски страдал от головных болей и полагался в такие дни исключительно на медицинские опиаты. Образ жизни он вел замкнутый, а о личных делах распространяться не любил, так что Черняк не мог сказать о нем ничего определенного.
Внешне Герыч представлял собой худощавого блондина лет двадцати пяти и формально был даже привлекательным, однако впечатление производил неприятное – при виде его Черняку невольно вспоминалась мать, которая по выходным потрошила и готовила рыбу. Сначала она вспарывала рыбе брюхо, чтобы из него полезли петли кишок, а затем отрубала голову, прохладно глядящую на нее тусклой монеткой глаза.
Иногда Герыч нюхал кокаин или кололся, не стесняясь делать это на глазах у Черняка, и становился непривычно веселым, хоть и не откровенным. Шприцом он орудовал с непринужденностью бывалого торчка, что наталкивало на размышления, а разговаривал или сухо, или несдержанно – в зависимости от самочувствия. Но работников берег и на деньги их не кидал.
Судя по излишне узким зрачкам, сегодня ему нездоровилось. Он полулежал на заднем сиденье и рассеянно глядел в тонированное окно, за черным фильтром которого скользили снежные валы сугробов. На побледневшем лице особенно ярко проступили физические изъяны – бледно-фиолетовые синяки под глазами, редкая тускло-розовая сыпь и сухость щек.
- Давай я вместо тебя всё порешаю, - не выдержал Миша и повернулся к нему, - ты себя вообще видел? Ты же белый совсем.
- Может, я хочу лично поговорить с этим блинопеком, - раздраженно произнес Герыч, прервав бесцельное созерцание и покосившись на Мишу с видимым недовольством. Как и полагалось заядлым кокаинистам, говорил он с гнусавым прононсом.
- Да уж, крепко ты за него взялся…
- Потому что банчить надо нормально. Не понимаю, как он с такими мозгами дожил до своего возраста, - решительно сказал Герыч и сорвался на слабый вскрик, - крахмал он сыплет один к одному, ну что за даун!
- Сегодня ты его отпиздишь, допустим, - продолжил Миша, - а как потом его контролировать?
- Я купил тесты на чистоту геры. Запишу показатели сегодняшней партии, чтобы было с чем сравнивать.
- Как ты вообще узнал про крахмал?
- Как-то узнал, - ответил Герыч со злорадным смешком. Миша отвернулся. На фоне темного стекла, за которым плясали багряные отблески мигающего светофора, его мясистый профиль казался мучнисто-белым.
Когда Герычу нездоровилось, он по максимуму отстранялся от разговоров, и Миша, не до конца понимающий его планы, начинал мягко вытягивать разъяснения, но получал только скупые ответы. Иногда он в сердцах называл Герыча «нервным марафетчиком» или просто «наркотом», потому что считал это оскорблением – к наркоманам он относился с легкой настороженностью, которую на работе подавлял, ведь наркоманами была львиная доля его коллег. После этих слов он всегда поглядывал на Черняка, надеясь заручиться поддержкой точно такого же убежденного трезвенника, но Черняк тактично молчал, потому что Миша, будучи близким помощником Герыча и практически ему равным, мог выражаться в таком тоне, а вот Черняку нужно было соблюдать субординацию. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. В его обязанности входило водить машину и быть на подхвате. Герыч же на возмущения Миши реагировал без должной обиды – для него они были просто констатацией факта, и перепалка угасала сама по себе.
В тишине они доехали до первого пункта сегодняшнего маршрута - бледно-салатного купеческого дома с ветшающим мезонином, что находился на Лиговском проспекте. Миновав арку, кортеж из двух люксовых иномарок остановился в заснеженном дворе.
- Гена, ты идешь со мной, - нахмурился Герыч, принял угрюмый вид и вышел из машины. Утопая по колено в сугробах, он направился к ближайшей парадной, и Черняк молчаливой, но сосредоточенной тенью последовал за ним.
«Вот же каланча», - думал он, разглядывая узкую спину, обтянутую серым драпом. Дребезжащий ветер подбрасывал светлые вихры Герыча и сминал его выглаженные брюки.
В истрёпанной парадной пахло скисшим супом, а нужная квартира была ей под стать. Когда дверь открылась, первым делом Черняк увидел молодую женщину в цветастой олимпийке, глаза которой скрывались за темными очками в виде сердечек. На шее отливал бензиновым золотистый чокер, а на губах то и дело надувался алый пузырь жвачки. Это была Киса, содержательница свежевого притона и неплохая варщица.
- Твой метадон, - улыбнулась она и протянула Герычу увесистый зиплок, в котором было под сотню граммов. Герыч внимательно осмотрел зиплок и убрал его во внутренний карман, после чего вручил Кисе целлофановый пакет, в котором отчетливо просматривались блистеры таблеток
- Зачем тебе столько мяса, Герыч? – спросила Киса. – И откуда у тебя трам?
- Для больного раком, - угрюмо сказал он, ответив только на первый вопрос, - где этот козел?
- В спальне, - махнула рукой Киса, указав куда-то вглубь квартиры. Сложив руки за спиной, Герыч шагнул внутрь. Неотрывно следуя за ним, Черняк с брезгливостью разглядывал анфиладу просторных, но засаленных временем комнат, назначение которых сложно было определить. Широкие окна были занавешены голубовато-ртутными шторами, от которых несло застарелой пылью, а в одной из комнат обнаружилась этажерка, заставленная потертыми политическими книгами. Черняк успел прочесть несколько названий - «Рыцарь Белого дома», «Метафизика войны», «Красота и мизогиния», но ни одного не узнал. Комнаты полнились людьми разной степени перекрытости: кто курил, стряхивая пепел прямо на рассохшийся паркет, кто безуспешно брал контроль, копаясь шприцем в землистой руке, кто расхаживал из стороны в сторону, подергивая головой и поблескивая черными глазами. Опрятно одетый Герыч смотрелся в притоне чужеродно, однако держался так, будто подобные места были ему не в новинку. Скорее всего, так оно и было.
В спальне, которая оказалась самой последней в ряду комнат, напряженно кружились лопасти потолочного вентилятора, разгоняя спертый воздух, а на продавленной кушетке, под изгибом черного флага с суровым профилем Ельцина вальяжно сидел вышеупомянутый «козел» - молодой распространитель Сеня Кондрашов, окруженный тремя укуренными женщинами, от которых разило анашой.
Сеня был пасынком мелкого депутата и в свое время попался на сбыте. Депутат Кондрашов не стал его отмазывать и даже отказался от него публично, заявив, что честный слуга народа не может поддерживать сына, преступившего закон, чем заслужил безоговорочное доверие избирателей. Потом, правда, быстро его потерял, ввязавшись в сомнительную историю с особенно неэтичным распилом, которая стала известна широкой общественности.
Щеголеватый Сеня, из принципа не стригущийся коротко, жаловал мдма и стимуляторы вообще, поэтому был тощим, а двигался торопливо и резко. Его снежно-белый бомбер с бамбуковыми стеблями и золотистыми тиграми не сочетался с обстановкой, а свежий парфюм смешивался с тяжелым воздухом квартиры в неприятное амбре. А еще Сеня не видел берегов и был для Герыча досаждающей проблемой, с которой, однако, приходилось работать.
Заметив двух незнакомцев не самого приветливого вида, женщины молча вышли из комнаты, бросив Сеню одного. Предчувствуя недоброе, он натянуто улыбнулся, но оправдаться не успел. Хмурый Герыч схватил его левой рукой за волосы и вынудил встать. Улыбка сразу сбежала с лица Сени.
- Ты попутал? – резко спросил Герыч, дернув уголком рта. – Если тебе дают героин, ты его и должен продавать, а не крахмал голимый. Ты в «Теремке» работаешь, что ли?
- Я ничего не трогал, я не сыпал крахмал… - испуганно залепетал Сеня, и у него задрожали колени. – Может быть, кто-то до меня… Через множество рук…
Герыч отвесил Сене тяжелую оплеуху, и его голова с покрасневшей щекой опрокинулась набок. У него подгибались ноги, но Герыч не давал ему упасть.
- До тебя он был в моих руках, дегенерат. Хочешь сказать, что это я туда крахмал насыпал? А ты не охуел? – продолжил Герыч, грубо встряхивая его после каждого заданного вопроса.
- Кто-то до тебя, я же не говорю, что это был ты… - хныкал он, отрывисто задыхаясь.
- На склад крахмал не возят! – вдруг закричал Герыч, выйдя из себя. Он ударил Сеню кулаком по носу, и тот с жалобным вскриком рухнул на пол. Держась на расстоянии двух шагов, Черняк отстраненно наблюдал за происходящим. Он не раз проделывал подобное, когда работал коллектором и прессовал должников. Герыч нещадно пинал провинившегося Сеню, иногда попадая по лицу. Он даже покраснел от злости, и это придало его болезненному виду некоторую здоровость. Сеня в отчаянии пытался сгруппироваться, прикрывал голову руками и надсадно кричал, однако в спальню никто не входил.
Потратив на Сеню минуту, Герыч вздохнул и отошел назад. Сеня валялся перед кушеткой, плакал, вздрагивая от боли, и пытался подняться, но обессилевшее тело не слушалось. Из разбитого носа текла кровь, её капли расплывались на белой ткани бомбера, как чернильные кляксы на влажной бумаге, а кожа пестрела кровоточащими ссадинами от ботинок.
- Я не говорю, что ты вообще не должен его бодяжить, это уже какая-то фантастика. Но делай это хотя бы так, чтобы никто ничего не понял. Особенно я.
Издав невнятный стон, выражающий согласие, Сеня затрясся и сжался в комок, подтянув колени к лицу. Видимо, он решил, что его снова будут бить.
- Ты бы еще хлеба туда накрошил! – сорвался Герыч на крик, а потом спокойно добавил. – Теперь я каждый раз буду записывать, какой в гере процент бутора. И если после твоих рук он вдруг станет ощутимо выше, мы с тобой будем в другом месте разговаривать. И совсем иначе. Ты понял?
Зарыдав еще сильнее, Сеня часто закивал и принялся возить по окровавленному лицу руками. Утереться ему не удавалось: кровь не останавливалась и размазывалась по коже, по волосам, по белым манжетам. Давая знать, что разговор окончен, Герыч развернулся на каблуках и вышел из спальни. Черняку не оставалось ничего, кроме как пойти за ним.
Следующим пунктом маршрута был склад в Автово, располагающийся возле «Юноны» - старого рынка, который существовал уже больше тридцати лет. В закоулках «Юноны» можно было приобрести свежесть и тут же её употребить, отыскав укромный угол. Справа от рынка находился бывший гаражный кооператив, пять лет назад выкупленный у собственников неким ЗАО «Мунпром», деятельность которого была крайне неопределенной. Нужный склад, в действительности представляющий собой весьма просторный гараж, куда каждую неделю поступала партия героина, находился на отшибе выкупленной территории, и за бетонным забором теснились исполинские вышки электропередач. Наслаиваясь друг на друга, металлические конструкции складывались в ажурную сеть, при виде которой в глазах начинало рябить, а к югу от складской зоны лучилась синими волнами гавань – плавно перетекающая в Невскую губу, а затем и вовсе в Финский залив.
Формально склад сдавался в аренду малопонятному ТОО «Химфарм», и частично это даже было правдой. Раз в неделю сюда приезжали Герыч с охраной и курьер, для надежности сопровождаемый приставленным к нему амбалом. Забрав оплаченный героин, проштампованный печатями афганских картелей, Герыч увозил его домой и уже оттуда рассылал дронами по продавцам вроде Сени. Продавцов у него в подчинении было восемь.
Встреча на складе должна была состояться в два часа дня, и до оговоренного времени оставался час. Побеседовав с Сеней, Герыч заметно взбодрился и даже начал слабо улыбаться. Когда кортеж преодолел мост, ведущий через Обводной канал, он достал пискнувший смартфон и, судя по торопливым движениям пальцев, начал с кем-то переписываться. В удивлении вскинув брови, Герыч широко раскрыл глаза и закусил губу. Его пальцы на какое-то время замерли. Но он моргнул, собрался с мыслями, которые рассеялись явно под впечатлением диалога, и продолжил лихорадочно печатать – с заметно раздраженным, даже подавленным видом.
Наконец отбросив смартфон на сиденье, Герыч резко подался вперед и торопливо процедил сквозь зубы, уставившись на Мишу со странной тревогой:
- Связанного Куртова держат в каком-то подвале в Мурино.
- Кто? – тихо спросил Миша. Машина снова стояла на переходе, и на этот раз за тонированным окном мерцал зеленый глаз светофора, ежесекундно окружая бритую голову Миши мертвенным ореолом.
- Кретины охуевшие! – вскрикнул Герыч, поддаваясь отчаянию. – Откуда я знаю, Миша? Говорят, что Куртов их кинул, и хотят, чтобы я с ними встретился. Прямо сейчас.
- И что ты собираешься делать?
- Сказал, что подъеду.
- Но ты не подъедешь?
- Конечно, нет! Я что, на идиота похож? – в его голосе послышались истерические нотки, которые, впрочем, быстро исчезли. – Послал туда Егорова с ребятами. Они потом всех на склад привезут: и Куртова, и этих уродов. Хочу с ними поговорить.
Черняк удивился, но виду не подал. Впервые с сентября он видел шефа выбитым из колеи: тот балансировал между испугом и злобой, которые поминутно сменяли друг друга. Миша ответил Герычу молчанием и предвкушающей улыбкой мокрушника.
- Всё это очень странно… - задумчиво пробормотал Герыч и вернулся на свое место, приняв расслабленную позу. Закинув ногу на ногу, он сложил руки на груди и закрыл глаза. Складывалось впечатление, что он дремлет. Но когда за окном показались белые ребра фонарей, нависающие над узлом платной магистрали, он вдруг отчужденно произнес:
- Гена, опоздай на пятнадцать минут.
- Это легко, опоздаем, - отозвался Черняк и съехал с проложенного маршрута, намереваясь покружить по окрестностям. Над Автово плотными грядами нависали травянисто-серые панельные дома, на крышах которых чернели кривые, будто надломленные антенны, а в лабиринте дворов, прижимаясь к земле, ржавели аскетичные турники.
***
Зябко прячась в натянутой до самых глаз шапке и тяжелой куртке-аляске, Родя сидел на обледенелом бортике фонтана и курил. На его бледных щеках тлел бледный румянец болезни. Грея ладони в карманах, Родя сжимал сигарету зубами, среди которых выделялась металлическая коронка, и выдыхал дым, смешанный с теплым молочно-белым паром. Три дня назад он уже в который раз поссорился с Соней, добрался на электричке до Балтийского вокзала и вернулся в тихую гавань – к бабушке, которая жила в двухкомнатной квартире на Большой Морской, купленной еще при Ельцине. Полностью глухая Эмма Витальевна, последние двадцать лет ведущая жизнь отшельницы, погруженным внутрь взглядом зафиксировала присутствие Роди и вернулась к своим старческим делам, скрывшись в спальне, где удушливо пахло цветами, которые в изобилии украшали комнату, и аптечными лекарствами.
Родя намеревался пожить у Эммы Витальевны до среды, однако на этот раз Соня снизошла, решив не дожидаться переломного дня, когда он остынет и придет каяться добровольно.
- Вылезай из своей сычевальни, я жду тебя возле Исаакия, - с чувством произнесла Соня, и это было чувство затаенного злорадства, - сделаю тебе заманчивое предложение.
Безошибочно прочитав в её интонации, что злорадство направлено на кого-то другого, Родя для порядка поворчал, но согласился. Закутав горячее от температуры тело в зимнюю одежду, он вышел во двор и пристроился возле фонтана, чтобы вольготно покурить - Эмма Витальевна запрещала курить в квартире. У ступеней парадной терся мордастый мужик в камуфляжной парке, лицо которого было Роде незнакомо, и время от времени он кидал на мужика превентивно злобный взгляд, однако тот ничего не замечал, словно Родя был осенней мухой, на которую не стоило обращать внимания.
Когда догорала третья сигарета, железная дверь парадной, где жила Эмма Витальевна, медленно приоткрылась, и из-за неё выскользнул тот, кого так долго ждал незнакомец. Родя вскинул брови и чуть не выронил изо рта тлеющий окурок, но вовремя сдержал бушующие эмоции. Из парадной вышел Герыч, торгаш, которого он знал только по инстаграму и твиттеру, однако это не мешало Роде ненавидеть его всеми фибрами очерствелой души. Для ненависти было две причины. Во-первых, Родя считал, что зарабатывать на чужом здоровье – это верх непорядочности, а Герыч именно этим и занимался, задевая еще и Соню. Во-вторых, Родя терпеть не мог, когда о своем высоком статусе заявляли люди, внешне для этого совсем не подходящие. Одетый в приталенное пальтишко, стриженый слишком уж по-хипстерски, долговязый Герыч олицетворял всё то, что Родя так презирал, и был при этом наркобарыгой, которых Родя тоже недолюбливал.
«Ты что тут забыл, сука мусорская?» - хотелось спросить Роде, однако его останавливало присутствие незнакомца, который заговорил с Герычем весьма дружелюбным тоном. Обменявшись скупыми фразами, они направились в соседний двор. Родя успел заметить, как в кулаке Герыча мелькнула связка ключей с брелоком.
«И как это понимать?.. - думал Родя, волоча ноги к Исаакию. Он продолжал внутренний диалог. – Морду бы тебе расквасить. Радуйся, что у тебя хорошая крыша, а то бы я тебя надолго в больницу уложил. Спутаюсь с таким говном, потом еще и крайним останусь…»
Родя готов был поспорить, что Герыч, несмотря на угрюмый вид, являлся человеком слабохарактерным. Слишком уж знаком был Роде такой типаж: он не раз проявлял агрессию по отношению к дилерам, которых никто не мог защитить, и почти все поддавались, теряя достоинство и иногда даже начиная плакать, после чего отдавали требуемое. Однако к Герычу соваться явно не стоило.
Над монументальной громадой Исаакиевского собора, блистающей темным золотом куполов, нависало мутное небо, затянутое плотными тучами. Сквер, разбитый напротив собора, сверкал белизной снега, сквозь который коричневыми прожилками проглядывали узловатые стволы деревьев и тонкие ветви кустарников, которые в мае обсыпало гроздьями цветущей сирени. Закинув ногу на ногу, Соня вальяжно ожидала на скамье, по которой раскинулась тень векового дуба. Отростки тени криво ложились на заостренный силуэт Сони, размыто растекаясь по зеленому виниловому плащу, утепленному изнутри мехом.
Заметив подсевшего Родю, Соня резко повернула голову, качнув серебристыми серьгами в виде шахматных пешек, и он поежился под настойчивым взглядом её глаз, в которых брезжила искренняя, совсем не химическая радость. Родя слишком хорошо знал Соню, чтобы принять эту радость на свой счет.
- Зачем ты меня сюда вытащила? – с неохотой спросил он.
- Раз уж тебе так не нравится, что я сосу чужие члены… - с расстановкой начала Соня, напустив на себя таинственный вид. Роде невольно представилось, как она закатывает в глаза в манере переигрывающей провинциальной актрисы, изображая физиологический восторг, и он поморщился.
- Рожу не криви, у меня идея есть, - осадила его Соня, - как ты знаешь, в Грузии довольно дешево жить, а ты всё равно прячешься от коллекторов, и в Питере тебя ничто не держит…
- Ты заколебала со своей Грузией. Там тоже будешь с мужиками спать?
- При чем тут мужики, дурак? – отмахнулась Соня. – Я предлагаю тебе кого-нибудь ограбить. Добыть несколько миллионов и сбежать в Грузию.
Родя тоскливо покосился на собор. Фронтон с волхвами, позеленевший от дождей многих лет, не вызывал религиозных мыслей и ассоциировался лишь с рабочими, которые возводили собор, попирающий фундаментом вязкие топи болот, и кончили тем, что отравились парами ртути. Натужно выл ветер, качая голыми ветвями дубов, а влажный зимний воздух набивал нос сыростью.
- Предлагаешь барыг хлопать? – нахмурился Родя, прикидывая, сколько ограблений ему придется совершить. Его жертвы защиты не имели, соответственно, осторожничали и не могли позволить себе хороший оборот и солидную прибыль. А тех, кто ворочал крупным оптом и зарабатывал достаточно, трогать было себе дороже.
- Почему сразу барыг? Ты у них хоть когда-нибудь больше сотни забирал? – улыбнулась Соня. – Хлопнем одного из зажиточных китайцев, которые ездят сюда отдыхать, будто мы страна третьего мира.
- И где ты найдешь китайца?
- Китаец сам меня найдет. Точнее, уже нашел. Могу предложить тебе на выбор несколько кандидатур пожирнее. Всё очень просто, Родя. Я связываю клиента и впускаю тебя. Пытаем, убиваем и забираем деньги, а потом сразу же на пароме уплываем в Финку. А уже оттуда в Грузию.
Изложив план, Соня замолчала, и её голова расслабленно качнулась к левому плечу. В черноте волос забрезжила серебристая пешка. Родя поправил шапку и ничего не сказал. Ограбления были для него рутиной, однако раньше речь шла совсем о других суммах, совсем о других мишенях… Родя запугивал дилеров, но не убивал их. Ему в принципе не доводилось убивать, и он прекрасно понимал, что сможет решиться на убийство лишь в одном случае – если доберется до полковника Жарова. Ему недоставало силы духа, чтобы лишать жизни дилеров и просто незнакомцев, к которым он ничего не испытывал.
- И как ты его свяжешь? – скептически спросил он. – Ты же баба, он не даст себя связать.
- Не тупи, Романов. Он сам попросит, чтобы я его связала.
- Ты сейчас серьезно говоришь? – тихо спросил Родя, исподлобья уставившись на нее. Соня растянула в улыбке темно-малиновые губы:
- Да, зазноба моя, более чем серьезно.
- Я людей никогда не убивал, - тихо, но отчетливо проговорил Родя, - ты в курсе, что ты больная на всю голову? Я даже торгашей в живых оставляю, а ты так спокойно предлагаешь укокошить одного из твоих извращенцев?
- И всё же подумай, лапонька, - лукаво прищурилась Соня, продолжая ядовито улыбаться, - хороший план простаивает.
Родя вскочил на ноги и быстрым шагом направился прочь из сквера, на ходу выламывая сигарету из пачки. Утром он подумывал о примирении, однако жутковатая эскапада Сони отбила у него это желание.
☸
- Вы должны были приехать в два! - надрывно произнес курьер и поправил очки в квадратной оправе, хотя в этом не было надобности. Курьер носил черное пальто, в которое сейчас впитывался моросящий дождь, расчесывал темные волосы на косой пробор и походил на школьного учителя. На плече у него висел тяжелый рюкзак. Электрическая «хонда» курьера была припаркована возле запертых ворот склада, а вокруг неё неспешно расхаживал крепко сложенный мужчина - приставленный к нему охранник. Ожидая ответа, курьер снова поправил очки.
- Нормально всё, Вадик, - мрачно посмотрел на него Герыч, - почему ты так нервничаешь?
Лязгнув замком, он отпер узкую дверь, вмонтированную в ворота, пригнулся и нырнул в полумрак. Черняк пропустил Мишу и лишь потом зашел сам. Курьер, косясь на бандита, который массивным силуэтом маячил у него за спиной, нерешительно направился к складу. Самыми последними зашли ухмыляющиеся братья-погодки, коллеги которых остались снаружи.
Щелкнул выключатель, и промерзшая утроба склада наполнилась бледным светом, который ровным слоем лег на цинковый стол с промышленными весами лабораторного вида и стоящие вдоль стены пластиковые стулья. Потолок белел длинными ребрами люминесцентных ламп, а за редкими вкраплениями желтых стеклоблоков, хаотично разбросанных по бетонным стенам, поблескивали мелкие точки дополнительного освещения.
Черняк перетащил поближе к столу два стула и встал за одним из них. Мрачно вздохнув, Герыч сел на стул и закинул ногу на ногу. Миша расположился рядом, а братья-погодки встали у входа. Сосредоточенно глядя перед собой, курьер расстегнул рюкзак и начал выкладывать на стол килограммовые брикеты, запаянные в плотный белый пластик. Каждый брикет был отмечен черной печатью в виде скорпиона, окруженного жирной овальной рамкой.
Герыч вел себя странно. Он молчал, будто присутствовал на особенно тяжких для него похоронах, и сверлил курьера ненавидящим взглядом, который из-за узких зрачков казался пожухлым. Естественно, тот замечал нарочитое внимание и пытался не подавать виду, но его выдавала прикушенная губа. Опустошив рюкзак, курьер положил его возле ножки стола и сделал резкий шаг назад.
Неторопливо подойдя к столу, Герыч наклонился над брикетами и осмотрел их выпуклые швы. Потом выбрал один из брикетов, положил его на железный лоток весов и вгляделся в табло с цифрами. Весы показали килограмм. Однако Герыч посмотрел на курьера с еще большей ненавистью:
- Ты нервничаешь, Вадик.
- Немного, - с задержкой ответил тот, напряженно ссутулившись.
- Почему? – спросил Герыч, принимая протянутый Черняком нож.
- Семейные проблемы… - тихо произнес курьер.
Герыч сдержанно полоснул лезвием по белому пластику, и края надреза разошлись в стороны, обнажив беловато-желтый порошок, спрессованный в плотный кирпич. Курьер натянуто улыбнулся. Герыч извлек из нагрудного кармана стеклянную ампулу размером с мизинец, в которой плескалась прозрачная жидкость, продемонстрировал побелевшему курьеру и улыбнулся в ответ.
Этого курьер вынести уже не мог. В нем словно разжалась тугая пружина. Он сбил с ног охранника и бегом рванулся к выходу, хлопая длинными полами пальто. Братья-погодки кинулись наперерез, опрокинули его на пол и заломили руки. Дернувшись, курьер жалобно вскрикнул, и его тут же уткнули лицом в бетон.
- Может, объяснишь уже, что всё это значит? А, Гера? – глухо спросил Миша, не выдержав.
- Вадик объяснит, - криво усмехнулся Герыч, не отрывая взгляда от вскрытого брикета. Надломив горлышко ампулы, он запустил лезвие ножа как можно глубже в порошок, разворошил его и зачерпнул острием щедрую щепоть. Герыч осторожно ссыпал порошок в ампулу и поднес её к глазам. На дно ампулы осела светлая пыль. Жидкость осталась прозрачной.
Искривившись, Герыч швырнул ампулу на пол. Тихо звякнули мелкие осколки, на бетоне расплылось мокрое пятно. Злобно поглядывая на сопротивляющегося курьера, которого связывали скотчем братья-погодки, Герыч проделал такую же операцию со всеми брикетами.
- Здесь ничего нет… - повернулся он к Мише, и Черняк заметил резкую бледность его перекошенного лица. – Здесь вообще ничего нет… Ноль, Миша…
Угловато оскалившись, Миша посмотрел на связанного курьера. Курьер крупно трясся от холода, и черное пальто, которым его накрыли с головой, ходило буграми. Виднелись только ноги в ботинках, отрывисто постукивающие по полу. Его стерег охранник, приставленный к нему на случай форс-мажоров.
- Нас кинули на полтора ляма, Миша… - произнес Герыч тихим, дрожащим от волнения голосом.
- Может, я тогда…
- Нет, сначала я, - упрямо возразил Герыч, размотав шарф, и тот повис двумя темными штрихами, скрыв под собой драповые лацканы. Подойдя к курьеру, Герыч мыском ботинка подцепил пальто, которым тот был накрыт, сдвинул его в сторону, и взглядам собравшихся предстало окровавленное лицо, на котором косо сидели очки с треснувшей линзой. Курьер лежал на боку и дергал связанными за спиной руками, отрывисто дыша и пытаясь перекатиться на спину. Ворот его свитера был чуть замаран красным. Герыч извлек из кармана компактный электрошокер.
- Здесь нет ни грамма героина, - с напускным дружелюбием обратился он к курьеру, рассматривая электрошокер, - что это за херня? Ты что мне привез, друг мой?
- Не надо… - едва слышным голосом проговорил курьер, постукивая зубами. За линзами очков широко распахнулись глаза.
- Где мой героин? – мрачно спросил Герыч, наклонившись к нему с высоты своего роста. Он поднес электрошокер к плечу курьера, и между зубцами треснула синяя искра. Курьер заорал во все горло и рефлекторно дернулся, надеясь оказаться подальше от источника боли, но Герыч поставил ногу в начищенном ботинке ему на грудь.
- Не слышу ответа, Вадик.
- Я ничего не брал, я не вскрывал пакеты… - срывающимся голосом пробормотал курьер. У него на глазах выступили первые слезы, а лицо некрасиво искривилось. Взгляд стал совсем стеклянным от оправданного страха.
- Где мой героин? – спросил Герыч строго и с расстановкой, показывая всем своим видом, что такие объяснения его не устраивают.
- Но я правда не знаю! – испуганно воскликнул курьер и получил еще один удар током. На этот раз искра трещала чуть дольше.
- Будь поразговорчивее, паскуда, - пристально посмотрел на него Герыч, - он может пять минут без перерыва работать, пока не сядет.
Допрос длился пятнадцать минут, и его монотонность пробудила в Черняке легкое чувство ирреальности происходящего, будто он оказался в неприятном зацикленном сне, из которого было тяжело просыпаться. Герыч с невозмутимым видом задавал один и тот же сакраментальный вопрос, который уже на второй минуте стал звучать, как коан, а курьер, неизменно дающий не те ответы, получал удар током. Его крики постепенно перешли в стонущий плач, а потом он и вовсе зарыдал.
- Его цыгане перекупили и заменили стрихнином! – наконец взвыл беспомощный курьер, заливаясь слезами. Его колотило дрожью, а растрепавшиеся волосы в беспорядке прилипли к влажному лбу. Герыч осознал смысл его ответа, и у него дернулось лицо. Ничего не говоря, он впился в курьера пристальным, пьяно-тяжелым взглядом.
- Гера, держи себя в руках… - деликатно начал Миша, словно психиатр, и покосился на рыдающего курьера с предвкушающей улыбкой.
- В смысле?! У меня чуть клиенты не передохли! – вдруг закричал Герыч, запинаясь от бешенства. – У меня бы продажи просели до самого днища! Ты вообще представляешь, сколько я мог потерять?! Мне бы Асфар Юнусович башку открутил!
Черняк невольно поежился. Он еще ни разу не видел Герыча в таком состоянии. Обычно кодеин делал его несколько апатичным, и даже если Герыч из-за чего-то возмущался, то делал это без особой экспрессии, будто бы по инерции. Однако осознание того, что непоправимое проскользнуло совсем близко, и явный страх перед полковником Жаровым резко его взвинтили.
- Сколько тебе заплатили? – процедил он сквозь зубы, уставившись на курьера. – Тебе хоть заплатили, а?
- Пятьсот тысяч… - промямлил тот, болезненно дрожа всем телом, и зарыдал еще сильнее, до хрипа в голосе.
- Пятьсот?! – замахнулся на него Герыч, снова сорвавшись на крик. – Из-за тебя я потерял шесть миллионов, а не полтора! А ты так спокойно согласился на пятьсот косарей?!
Отскочив от курьера, как ошпаренный, он вернулся на свой стул. Он попытался закурить, но палец соскакивал, и зажигалка не давала огня. Не говоря ни слова, Черняк тактично перехватил зажигалку, и Герычу наконец-то удалось затянуться.
- Займись им сам, иначе я его прибью, - устало произнес Герыч, обратившись к Мише, но глядя прямо перед собой, словно у него кончился завод, - я, блядь, не могу, нахуй, даже смотреть на этого мудака! Он не просто крыса, он еще и тупой!
Расплывшись в особенно широкой улыбке, Миша с вкрадчивостью хищника подошел к беззащитному курьеру, который лежал с закрытыми глазами и тихо подвывал.
- Алло, Гриша? – заговорил Герыч в смартфон, игнорируя стоны курьера. – Тут один хер героин подменил… На стрихнин. Говорит, ему цыгане заплатили! Не хочешь подъехать? Ага, все десять кило.
Черняк не вслушивался в разговор. Его внимание притягивало кое-что другое. Миша, про сирийское прошлое и садистские замашки которого было известно всем, расстегнул куртку, а потом извлек из карманов десантный нож в кожаном чехле, солонку и перечницу. Чтобы курьер проникся, Миша аккуратно выложил их в ряд возле его головы.
- Пожалуйста… - простонал курьер, тяжело ворочая тусклым взглядом. Его подбородок мелко затрясся.
- Ничего, всё будет в порядке, - ласково пообещал Миша и вспорол ножом рукав его свитера, обнажив и без того пострадавшее плечо. Зажав курьеру рот широкой ладонью, Миша вдавил лезвие ножа в раздраженную током кожу, и глубокий надрез набух чередой кровавых потеков. Раздался приглушенный вопль, и Миша идиллически засмеялся. Он посолил свежую рану, и курьер истошно замычал ему в руку, забившись, как загнанный зверь.
- Вечером точно вмажусь… - пробормотал себе под нос Герыч, вытаращив глаза. Видимо, для него методика Миши тоже оказалась неожиданностью.
Как ни странно, спас курьера Гриша, который прибыл через двадцать минут в сопровождении двух капитанов полиции, одетых в серую униформу ФСКН. Заметив его, Миша с довольной улыбкой собрал инструментарий и отошел от курьера. Гриша в ответ обошел Мишу по дуге, покосившись на него с ощутимой неприязнью, и остановился возле Герыча, под стулом которого скопились измятые зубами окурки.
- Вы что тут устроили? Филиал Дахау? – спросил он, смерив Герыча недовольным взглядом.
- Прошу вас, помогите! – слезно застонал курьер. – Спасите меня от них, пожалуйста! Я всё расскажу, только не давайте им меня мучить!
- Страшные люди, правда? – сочувственно поинтересовался Гриша, и прозвучало это весьма искренне. Курьер судорожно закивал, продолжая слабо извиваться – глубокие порезы на плече, покрытые корками из запекшейся крови и присохших специй, до сих пор горели огнем.
- И кто страшнее?
- Я не знаю! – воскликнул отчаявшийся курьер, заплакав с новой силой. – Пожалуйста, помогите мне! Я всё расскажу!
- Помягче нельзя было, гестаповцы? – нахмурился Гриша, повернувшись к Герычу. Тот лишь хмыкнул в ответ.
- А с первого раза до тебя не доходит, гнида? – угрожающе наклонился над ним Гриша. Неожиданно для всех схватив Герыча за запястье, он поволок его в дальний угол. Черняк вскинул брови: слов теперь слышно не было, но действия говорили сами за себя. Гриша отвесил Герычу унизительную оплеуху, тот вскинулся, но получил еще одну оплеуху и сразу стал как шелковый. По-собачьи заглядывая Грише в глаза, он долго что-то излагал. С каждым его словом Гриша лишь мрачнел. Напоследок ударив его кулаком по лицу, Гриша направился к курьеру, а сконфуженный Герыч вернулся на прежнее место.
Гриша был сама учтивость. Он посетовал на глупость подчиненных, у которых на уме лишь желание самоутвердиться за чужой счет, бережно вытер платком лицо курьера, покрытое запекшейся кровью, и стал задавать вопросы, поднося к его глазам экран смартфона. Поплывший от такого сочувствия, курьер принялся звонко всхлипывать и опознал все лица, которые Гриша ему продемонстрировал. Он даже охотно выложил подробности, о которых его не спрашивали.
- Не бойся, всё будет хорошо, - сказал Гриша. Достав из-за пояса пистолет, он выстрелил курьеру в лоб. Не успев ничего понять, тот мертвенно обмяк, а из отверстия во лбу тонкой струйкой побежала кровь. Перечеркнув рельеф лица, струйка скрылась в темных волосах. Под развороченным затылком расползалась в стороны вишнево-темная лужа, в которой дрожали янтарно-желтые отсветы боковых ламп.
- А ты мог со всей дури не лупить? – хмуро спросил Герыч. К нему вернулся прежний самоуверенный вид, и он больше не напоминал пристыженную собаку.
- И как бы он тогда поверил, что я тут самый добрый? – осклабился Гриша.
Два капитана принесли из машины сложенный брезент и хирургическую пилу, на широком лезвии которой поблескивали заточенные зубцы. Расстелив брезент, они подхватили труп курьера, на лице которого навсегда застыло немое удивление, за плечи и ноги и поволокли. Труп плюхнулся на посмертный саван, уткнувшись в него простреленным лбом.
- Башку цыганятам отправлю, - объяснил Гриша, когда один из капитанов, надев поверх формы дождевик, вооружился пилой и склонился над трупом.
- Не нравится мне это, - странным тоном произнес Герыч. Гриша вопросительно посмотрел на него.
- Они никогда в наши дела не лезли.
- Не забывай, что когда-то это были их дела, - поморщился Гриша.
- Я понимаю. Но раньше они так нагло не вмешивались. Или у них нет чувства самосохранения, или они заручились поддержкой, которая…
- Хочешь сказать, что это был акт предупреждения?
- Да. Они намекают нам, что с ними теперь придется договариваться, - рассудительно сказал Герыч, - и с азерами, наверное, тоже придется.
Он хотел что-то добавить, но слабо скрипнула дверь, и через металлический порог неуклюже переступил Куртов, кутающийся в фиолетовый автомобильный плед. Черняку доводилось его видеть, когда Герыч ездил по делам, и Куртов всегда производил впечатление флегматика, которого мало что может сбить с толку. В том, что Герыч передал быструю клиентуру именно ему, не было ничего удивительного. Даже сейчас Куртов не выглядел жертвой подставы. На припухшем от побоев лице блестели ошалевшие глаза, в которых, впрочем, совсем не было испуга.
Машинально окинув собравшихся бесцветным взглядом, Куртов побрел в сторону Герыча и без особых эмоций обошел брезентовый квадрат, над которым склонялся капитан в дождевике, работающий пилой. Пила со стылым звуком погружалась в шею трупа, медленно отделяя голову от туловища. Вскочив на ноги, Герыч подошел к Куртову, заботливо взял его за плечи и усадил на свое место.
- Всё хорошо? – участливо спросил Герыч, наклонившись к нему.
- Ага, вроде, - слабо ответил Куртов, попытавшись встать, но его мягким нажимом вернули на место, - лучше не буду спрашивать, что тут происходит.
- Правильно, не спрашивай. Сложно объяснить в двух словах, зачем мы здесь собрались.
- Ну что, Гера, принимай гостей! – вошел с улицы лейтенант Егоров, скрипнув железной дверью. По природе он был жилистым, даже суховатым, из-за чего напоминал растиражированный кинообраз циничного эсэсовца из концлагерной администрации, а серая полицейская униформа лишь подчеркивала это впечатление.
Следовавшие за ним сержанты вволокли двух мужчин, головы которых были укутаны в плотные черные мешки, так что определить их возраст и национальность Черняк пока не мог. Скованные наручниками запястья были неподвижно-бессильными – оба были без сознания и никак не отреагировали, когда их швырнули на пол.
- Не день, а праздник какой-то! – устремился Гриша в их сторону, приветственно разведя руки в стороны. – Именины сердца!
Следующие полчаса Черняк не знал, куда себя деть. Для него работы не было совсем. Герыч и Куртов курили возле стола со вскрытыми брикетами и вели тихий приятельский разговор, в котором явно не было места третьему. Гриша вышагивал из стороны в сторону, пока его капитаны обрабатывали двух похитителей, которые, как выяснилось, когда с них сняли мешки, не обладали восточной внешностью и выглядели как типичные питерские наркоманы. Иногда Гриша задавал вопросы, но в этом даже не было надобности: наркоманы сдавали друг друга, заказчиков и вообще всех причастных, словно один пытался перегнать другого, чтобы заслужить Гришину благосклонность. Труп уже давно завернули в брезент и унесли в багажник. На забрызганном полу осталась лежать только голова, на носу у которой до сих пор криво сидели треснутые очки. Обескровев, она приобрела мраморно-белый цвет. Спутавшиеся волосы успели высохнуть, налипнув на лоб и виски неряшливыми завитками. Неподалеку от нее подстреленной птицей валялось пальто.
Словом, волнение прошедшего часа ощутимо спало, и все фигуранты встречи вернули себе самообладание. Создавалось даже впечатление, что ничего критичного не произошло, а случившееся было всего лишь досадным недоразумением.
- …да, Асфар Юнусович, - оживленно говорил Гриша, прижимая к уху смартфон, - надо бы их снова зачистить, а то они забыли, как мы тогда…
- …со мной похожая херня была, - размеренно рассказывал Герыч, затягиваясь, а Куртов с интересом его слушал, - меня в лес хотели вывезти, а меня в дороге клинануло, и я их машину…
- …визжал, как поросенок, - улыбался Миша, пристально глядя на капитана Егорова поблескивающими глазами. Егоров в ответ бледно усмехался:
- Это общее место, Миш. Все они рано или поздно ломаются.
Гриша разговаривал уже совсем с другим собеседником, и тот, судя по его мимике, негодовал. Гриша упруго играл желваками и даже покраснел от досады, но почему-то сдерживался, отвечая тихо и тактично. Наконец сбросив вызов, он подошел к Герычу и положил руку ему на правое плечо.
- У тебя с собой кокса случайно нет? – вкрадчиво спросил он.
- Конечно, три грамма, - удивленно повернулся к нему Герыч, - ты же вроде в завязке, зачем тебе?
- Не мне. До одного депутата дилер не доехал, - так же вкрадчиво, но уже с явным нажимом объяснил Гриша, - можешь заскочить в «Марриотт», на Васильевский? Ему нужно два прямо сейчас.
- Все говорят, что им нужно прямо сейчас, - буркнул Герыч, - это физически невозможно, отсюда ехать минут тридцать. И почему ты вообще просишь меня? Почему бы не послать Ваню?
Озадаченный Куртов, до сих пор кутающийся в плед, переступил с ноги на ногу и опустил взгляд, потому что речь шла именно о нем. Черняк догадывался, что Герыч, изъявивший ранее желание вмазаться, уже настроился на расслабленный рождественский вечер, и никакие депутаты в его планы не входили.
- Ваня мне еще здесь понадобится, так что дуй в «Марриотт» и не выебывайся, – ухмыльнулся Гриша, вдавив пальцы ему в плечо, – помнишь ведь? Готов поспорить, что помнишь.
Прикосновение почему-то оказалось для Герыча особенно неприятным. Он горько поморщился, резким жестом стряхнул с себя грубую ладонь, словно это был тарантул, и пробормотал:
- Ладно, ладно… Я тебя понял.
- Нормально всё, Вадик, - мрачно посмотрел на него Герыч, - почему ты так нервничаешь?
Лязгнув замком, он отпер узкую дверь, вмонтированную в ворота, пригнулся и нырнул в полумрак. Черняк пропустил Мишу и лишь потом зашел сам. Курьер, косясь на бандита, который массивным силуэтом маячил у него за спиной, нерешительно направился к складу. Самыми последними зашли ухмыляющиеся братья-погодки, коллеги которых остались снаружи.
Щелкнул выключатель, и промерзшая утроба склада наполнилась бледным светом, который ровным слоем лег на цинковый стол с промышленными весами лабораторного вида и стоящие вдоль стены пластиковые стулья. Потолок белел длинными ребрами люминесцентных ламп, а за редкими вкраплениями желтых стеклоблоков, хаотично разбросанных по бетонным стенам, поблескивали мелкие точки дополнительного освещения.
Черняк перетащил поближе к столу два стула и встал за одним из них. Мрачно вздохнув, Герыч сел на стул и закинул ногу на ногу. Миша расположился рядом, а братья-погодки встали у входа. Сосредоточенно глядя перед собой, курьер расстегнул рюкзак и начал выкладывать на стол килограммовые брикеты, запаянные в плотный белый пластик. Каждый брикет был отмечен черной печатью в виде скорпиона, окруженного жирной овальной рамкой.
Герыч вел себя странно. Он молчал, будто присутствовал на особенно тяжких для него похоронах, и сверлил курьера ненавидящим взглядом, который из-за узких зрачков казался пожухлым. Естественно, тот замечал нарочитое внимание и пытался не подавать виду, но его выдавала прикушенная губа. Опустошив рюкзак, курьер положил его возле ножки стола и сделал резкий шаг назад.
Неторопливо подойдя к столу, Герыч наклонился над брикетами и осмотрел их выпуклые швы. Потом выбрал один из брикетов, положил его на железный лоток весов и вгляделся в табло с цифрами. Весы показали килограмм. Однако Герыч посмотрел на курьера с еще большей ненавистью:
- Ты нервничаешь, Вадик.
- Немного, - с задержкой ответил тот, напряженно ссутулившись.
- Почему? – спросил Герыч, принимая протянутый Черняком нож.
- Семейные проблемы… - тихо произнес курьер.
Герыч сдержанно полоснул лезвием по белому пластику, и края надреза разошлись в стороны, обнажив беловато-желтый порошок, спрессованный в плотный кирпич. Курьер натянуто улыбнулся. Герыч извлек из нагрудного кармана стеклянную ампулу размером с мизинец, в которой плескалась прозрачная жидкость, продемонстрировал побелевшему курьеру и улыбнулся в ответ.
Этого курьер вынести уже не мог. В нем словно разжалась тугая пружина. Он сбил с ног охранника и бегом рванулся к выходу, хлопая длинными полами пальто. Братья-погодки кинулись наперерез, опрокинули его на пол и заломили руки. Дернувшись, курьер жалобно вскрикнул, и его тут же уткнули лицом в бетон.
- Может, объяснишь уже, что всё это значит? А, Гера? – глухо спросил Миша, не выдержав.
- Вадик объяснит, - криво усмехнулся Герыч, не отрывая взгляда от вскрытого брикета. Надломив горлышко ампулы, он запустил лезвие ножа как можно глубже в порошок, разворошил его и зачерпнул острием щедрую щепоть. Герыч осторожно ссыпал порошок в ампулу и поднес её к глазам. На дно ампулы осела светлая пыль. Жидкость осталась прозрачной.
Искривившись, Герыч швырнул ампулу на пол. Тихо звякнули мелкие осколки, на бетоне расплылось мокрое пятно. Злобно поглядывая на сопротивляющегося курьера, которого связывали скотчем братья-погодки, Герыч проделал такую же операцию со всеми брикетами.
- Здесь ничего нет… - повернулся он к Мише, и Черняк заметил резкую бледность его перекошенного лица. – Здесь вообще ничего нет… Ноль, Миша…
Угловато оскалившись, Миша посмотрел на связанного курьера. Курьер крупно трясся от холода, и черное пальто, которым его накрыли с головой, ходило буграми. Виднелись только ноги в ботинках, отрывисто постукивающие по полу. Его стерег охранник, приставленный к нему на случай форс-мажоров.
- Нас кинули на полтора ляма, Миша… - произнес Герыч тихим, дрожащим от волнения голосом.
- Может, я тогда…
- Нет, сначала я, - упрямо возразил Герыч, размотав шарф, и тот повис двумя темными штрихами, скрыв под собой драповые лацканы. Подойдя к курьеру, Герыч мыском ботинка подцепил пальто, которым тот был накрыт, сдвинул его в сторону, и взглядам собравшихся предстало окровавленное лицо, на котором косо сидели очки с треснувшей линзой. Курьер лежал на боку и дергал связанными за спиной руками, отрывисто дыша и пытаясь перекатиться на спину. Ворот его свитера был чуть замаран красным. Герыч извлек из кармана компактный электрошокер.
- Здесь нет ни грамма героина, - с напускным дружелюбием обратился он к курьеру, рассматривая электрошокер, - что это за херня? Ты что мне привез, друг мой?
- Не надо… - едва слышным голосом проговорил курьер, постукивая зубами. За линзами очков широко распахнулись глаза.
- Где мой героин? – мрачно спросил Герыч, наклонившись к нему с высоты своего роста. Он поднес электрошокер к плечу курьера, и между зубцами треснула синяя искра. Курьер заорал во все горло и рефлекторно дернулся, надеясь оказаться подальше от источника боли, но Герыч поставил ногу в начищенном ботинке ему на грудь.
- Не слышу ответа, Вадик.
- Я ничего не брал, я не вскрывал пакеты… - срывающимся голосом пробормотал курьер. У него на глазах выступили первые слезы, а лицо некрасиво искривилось. Взгляд стал совсем стеклянным от оправданного страха.
- Где мой героин? – спросил Герыч строго и с расстановкой, показывая всем своим видом, что такие объяснения его не устраивают.
- Но я правда не знаю! – испуганно воскликнул курьер и получил еще один удар током. На этот раз искра трещала чуть дольше.
- Будь поразговорчивее, паскуда, - пристально посмотрел на него Герыч, - он может пять минут без перерыва работать, пока не сядет.
Допрос длился пятнадцать минут, и его монотонность пробудила в Черняке легкое чувство ирреальности происходящего, будто он оказался в неприятном зацикленном сне, из которого было тяжело просыпаться. Герыч с невозмутимым видом задавал один и тот же сакраментальный вопрос, который уже на второй минуте стал звучать, как коан, а курьер, неизменно дающий не те ответы, получал удар током. Его крики постепенно перешли в стонущий плач, а потом он и вовсе зарыдал.
- Его цыгане перекупили и заменили стрихнином! – наконец взвыл беспомощный курьер, заливаясь слезами. Его колотило дрожью, а растрепавшиеся волосы в беспорядке прилипли к влажному лбу. Герыч осознал смысл его ответа, и у него дернулось лицо. Ничего не говоря, он впился в курьера пристальным, пьяно-тяжелым взглядом.
- Гера, держи себя в руках… - деликатно начал Миша, словно психиатр, и покосился на рыдающего курьера с предвкушающей улыбкой.
- В смысле?! У меня чуть клиенты не передохли! – вдруг закричал Герыч, запинаясь от бешенства. – У меня бы продажи просели до самого днища! Ты вообще представляешь, сколько я мог потерять?! Мне бы Асфар Юнусович башку открутил!
Черняк невольно поежился. Он еще ни разу не видел Герыча в таком состоянии. Обычно кодеин делал его несколько апатичным, и даже если Герыч из-за чего-то возмущался, то делал это без особой экспрессии, будто бы по инерции. Однако осознание того, что непоправимое проскользнуло совсем близко, и явный страх перед полковником Жаровым резко его взвинтили.
- Сколько тебе заплатили? – процедил он сквозь зубы, уставившись на курьера. – Тебе хоть заплатили, а?
- Пятьсот тысяч… - промямлил тот, болезненно дрожа всем телом, и зарыдал еще сильнее, до хрипа в голосе.
- Пятьсот?! – замахнулся на него Герыч, снова сорвавшись на крик. – Из-за тебя я потерял шесть миллионов, а не полтора! А ты так спокойно согласился на пятьсот косарей?!
Отскочив от курьера, как ошпаренный, он вернулся на свой стул. Он попытался закурить, но палец соскакивал, и зажигалка не давала огня. Не говоря ни слова, Черняк тактично перехватил зажигалку, и Герычу наконец-то удалось затянуться.
- Займись им сам, иначе я его прибью, - устало произнес Герыч, обратившись к Мише, но глядя прямо перед собой, словно у него кончился завод, - я, блядь, не могу, нахуй, даже смотреть на этого мудака! Он не просто крыса, он еще и тупой!
Расплывшись в особенно широкой улыбке, Миша с вкрадчивостью хищника подошел к беззащитному курьеру, который лежал с закрытыми глазами и тихо подвывал.
- Алло, Гриша? – заговорил Герыч в смартфон, игнорируя стоны курьера. – Тут один хер героин подменил… На стрихнин. Говорит, ему цыгане заплатили! Не хочешь подъехать? Ага, все десять кило.
Черняк не вслушивался в разговор. Его внимание притягивало кое-что другое. Миша, про сирийское прошлое и садистские замашки которого было известно всем, расстегнул куртку, а потом извлек из карманов десантный нож в кожаном чехле, солонку и перечницу. Чтобы курьер проникся, Миша аккуратно выложил их в ряд возле его головы.
- Пожалуйста… - простонал курьер, тяжело ворочая тусклым взглядом. Его подбородок мелко затрясся.
- Ничего, всё будет в порядке, - ласково пообещал Миша и вспорол ножом рукав его свитера, обнажив и без того пострадавшее плечо. Зажав курьеру рот широкой ладонью, Миша вдавил лезвие ножа в раздраженную током кожу, и глубокий надрез набух чередой кровавых потеков. Раздался приглушенный вопль, и Миша идиллически засмеялся. Он посолил свежую рану, и курьер истошно замычал ему в руку, забившись, как загнанный зверь.
- Вечером точно вмажусь… - пробормотал себе под нос Герыч, вытаращив глаза. Видимо, для него методика Миши тоже оказалась неожиданностью.
Как ни странно, спас курьера Гриша, который прибыл через двадцать минут в сопровождении двух капитанов полиции, одетых в серую униформу ФСКН. Заметив его, Миша с довольной улыбкой собрал инструментарий и отошел от курьера. Гриша в ответ обошел Мишу по дуге, покосившись на него с ощутимой неприязнью, и остановился возле Герыча, под стулом которого скопились измятые зубами окурки.
- Вы что тут устроили? Филиал Дахау? – спросил он, смерив Герыча недовольным взглядом.
- Прошу вас, помогите! – слезно застонал курьер. – Спасите меня от них, пожалуйста! Я всё расскажу, только не давайте им меня мучить!
- Страшные люди, правда? – сочувственно поинтересовался Гриша, и прозвучало это весьма искренне. Курьер судорожно закивал, продолжая слабо извиваться – глубокие порезы на плече, покрытые корками из запекшейся крови и присохших специй, до сих пор горели огнем.
- И кто страшнее?
- Я не знаю! – воскликнул отчаявшийся курьер, заплакав с новой силой. – Пожалуйста, помогите мне! Я всё расскажу!
- Помягче нельзя было, гестаповцы? – нахмурился Гриша, повернувшись к Герычу. Тот лишь хмыкнул в ответ.
- А с первого раза до тебя не доходит, гнида? – угрожающе наклонился над ним Гриша. Неожиданно для всех схватив Герыча за запястье, он поволок его в дальний угол. Черняк вскинул брови: слов теперь слышно не было, но действия говорили сами за себя. Гриша отвесил Герычу унизительную оплеуху, тот вскинулся, но получил еще одну оплеуху и сразу стал как шелковый. По-собачьи заглядывая Грише в глаза, он долго что-то излагал. С каждым его словом Гриша лишь мрачнел. Напоследок ударив его кулаком по лицу, Гриша направился к курьеру, а сконфуженный Герыч вернулся на прежнее место.
Гриша был сама учтивость. Он посетовал на глупость подчиненных, у которых на уме лишь желание самоутвердиться за чужой счет, бережно вытер платком лицо курьера, покрытое запекшейся кровью, и стал задавать вопросы, поднося к его глазам экран смартфона. Поплывший от такого сочувствия, курьер принялся звонко всхлипывать и опознал все лица, которые Гриша ему продемонстрировал. Он даже охотно выложил подробности, о которых его не спрашивали.
- Не бойся, всё будет хорошо, - сказал Гриша. Достав из-за пояса пистолет, он выстрелил курьеру в лоб. Не успев ничего понять, тот мертвенно обмяк, а из отверстия во лбу тонкой струйкой побежала кровь. Перечеркнув рельеф лица, струйка скрылась в темных волосах. Под развороченным затылком расползалась в стороны вишнево-темная лужа, в которой дрожали янтарно-желтые отсветы боковых ламп.
- А ты мог со всей дури не лупить? – хмуро спросил Герыч. К нему вернулся прежний самоуверенный вид, и он больше не напоминал пристыженную собаку.
- И как бы он тогда поверил, что я тут самый добрый? – осклабился Гриша.
Два капитана принесли из машины сложенный брезент и хирургическую пилу, на широком лезвии которой поблескивали заточенные зубцы. Расстелив брезент, они подхватили труп курьера, на лице которого навсегда застыло немое удивление, за плечи и ноги и поволокли. Труп плюхнулся на посмертный саван, уткнувшись в него простреленным лбом.
- Башку цыганятам отправлю, - объяснил Гриша, когда один из капитанов, надев поверх формы дождевик, вооружился пилой и склонился над трупом.
- Не нравится мне это, - странным тоном произнес Герыч. Гриша вопросительно посмотрел на него.
- Они никогда в наши дела не лезли.
- Не забывай, что когда-то это были их дела, - поморщился Гриша.
- Я понимаю. Но раньше они так нагло не вмешивались. Или у них нет чувства самосохранения, или они заручились поддержкой, которая…
- Хочешь сказать, что это был акт предупреждения?
- Да. Они намекают нам, что с ними теперь придется договариваться, - рассудительно сказал Герыч, - и с азерами, наверное, тоже придется.
Он хотел что-то добавить, но слабо скрипнула дверь, и через металлический порог неуклюже переступил Куртов, кутающийся в фиолетовый автомобильный плед. Черняку доводилось его видеть, когда Герыч ездил по делам, и Куртов всегда производил впечатление флегматика, которого мало что может сбить с толку. В том, что Герыч передал быструю клиентуру именно ему, не было ничего удивительного. Даже сейчас Куртов не выглядел жертвой подставы. На припухшем от побоев лице блестели ошалевшие глаза, в которых, впрочем, совсем не было испуга.
Машинально окинув собравшихся бесцветным взглядом, Куртов побрел в сторону Герыча и без особых эмоций обошел брезентовый квадрат, над которым склонялся капитан в дождевике, работающий пилой. Пила со стылым звуком погружалась в шею трупа, медленно отделяя голову от туловища. Вскочив на ноги, Герыч подошел к Куртову, заботливо взял его за плечи и усадил на свое место.
- Всё хорошо? – участливо спросил Герыч, наклонившись к нему.
- Ага, вроде, - слабо ответил Куртов, попытавшись встать, но его мягким нажимом вернули на место, - лучше не буду спрашивать, что тут происходит.
- Правильно, не спрашивай. Сложно объяснить в двух словах, зачем мы здесь собрались.
- Ну что, Гера, принимай гостей! – вошел с улицы лейтенант Егоров, скрипнув железной дверью. По природе он был жилистым, даже суховатым, из-за чего напоминал растиражированный кинообраз циничного эсэсовца из концлагерной администрации, а серая полицейская униформа лишь подчеркивала это впечатление.
Следовавшие за ним сержанты вволокли двух мужчин, головы которых были укутаны в плотные черные мешки, так что определить их возраст и национальность Черняк пока не мог. Скованные наручниками запястья были неподвижно-бессильными – оба были без сознания и никак не отреагировали, когда их швырнули на пол.
- Не день, а праздник какой-то! – устремился Гриша в их сторону, приветственно разведя руки в стороны. – Именины сердца!
Следующие полчаса Черняк не знал, куда себя деть. Для него работы не было совсем. Герыч и Куртов курили возле стола со вскрытыми брикетами и вели тихий приятельский разговор, в котором явно не было места третьему. Гриша вышагивал из стороны в сторону, пока его капитаны обрабатывали двух похитителей, которые, как выяснилось, когда с них сняли мешки, не обладали восточной внешностью и выглядели как типичные питерские наркоманы. Иногда Гриша задавал вопросы, но в этом даже не было надобности: наркоманы сдавали друг друга, заказчиков и вообще всех причастных, словно один пытался перегнать другого, чтобы заслужить Гришину благосклонность. Труп уже давно завернули в брезент и унесли в багажник. На забрызганном полу осталась лежать только голова, на носу у которой до сих пор криво сидели треснутые очки. Обескровев, она приобрела мраморно-белый цвет. Спутавшиеся волосы успели высохнуть, налипнув на лоб и виски неряшливыми завитками. Неподалеку от нее подстреленной птицей валялось пальто.
Словом, волнение прошедшего часа ощутимо спало, и все фигуранты встречи вернули себе самообладание. Создавалось даже впечатление, что ничего критичного не произошло, а случившееся было всего лишь досадным недоразумением.
- …да, Асфар Юнусович, - оживленно говорил Гриша, прижимая к уху смартфон, - надо бы их снова зачистить, а то они забыли, как мы тогда…
- …со мной похожая херня была, - размеренно рассказывал Герыч, затягиваясь, а Куртов с интересом его слушал, - меня в лес хотели вывезти, а меня в дороге клинануло, и я их машину…
- …визжал, как поросенок, - улыбался Миша, пристально глядя на капитана Егорова поблескивающими глазами. Егоров в ответ бледно усмехался:
- Это общее место, Миш. Все они рано или поздно ломаются.
Гриша разговаривал уже совсем с другим собеседником, и тот, судя по его мимике, негодовал. Гриша упруго играл желваками и даже покраснел от досады, но почему-то сдерживался, отвечая тихо и тактично. Наконец сбросив вызов, он подошел к Герычу и положил руку ему на правое плечо.
- У тебя с собой кокса случайно нет? – вкрадчиво спросил он.
- Конечно, три грамма, - удивленно повернулся к нему Герыч, - ты же вроде в завязке, зачем тебе?
- Не мне. До одного депутата дилер не доехал, - так же вкрадчиво, но уже с явным нажимом объяснил Гриша, - можешь заскочить в «Марриотт», на Васильевский? Ему нужно два прямо сейчас.
- Все говорят, что им нужно прямо сейчас, - буркнул Герыч, - это физически невозможно, отсюда ехать минут тридцать. И почему ты вообще просишь меня? Почему бы не послать Ваню?
Озадаченный Куртов, до сих пор кутающийся в плед, переступил с ноги на ногу и опустил взгляд, потому что речь шла именно о нем. Черняк догадывался, что Герыч, изъявивший ранее желание вмазаться, уже настроился на расслабленный рождественский вечер, и никакие депутаты в его планы не входили.
- Ваня мне еще здесь понадобится, так что дуй в «Марриотт» и не выебывайся, – ухмыльнулся Гриша, вдавив пальцы ему в плечо, – помнишь ведь? Готов поспорить, что помнишь.
Прикосновение почему-то оказалось для Герыча особенно неприятным. Он горько поморщился, резким жестом стряхнул с себя грубую ладонь, словно это был тарантул, и пробормотал:
- Ладно, ладно… Я тебя понял.
☸
В сгущающихся сумерках, которые неумолимо наливались тьмой, переливалась неоновой подсветкой сочно-желтая громада отеля «Марриотт». Размышляя, чем бы сегодня вмазаться и в какой обстановке это сделать, Матвей поднимался на четвертый этаж и пытался скрыть гримасу негодования, чтобы как можно скорее разделаться с ненавистным поручением. Зеркальные стены лифта сверкали белым, отражая потолочный свет. Вмазаться хотелось неумолимо. Матвей поймал себя на том, что он невольно постукивает зубами, и нервно мнет пальцами кончик шарфа. Возникла даже мысль, что неплохо было бы спуститься к машине, вытащить из бардачка шприц и сладко ширнуться, открапалив заодно от доли неизвестного депутата – просто из чувства классовой ненависти.
«Отдать кокс и свалить, а потом уже все остальное…» - решил про себя Матвей, выйдя из лифта, двери которого открылись с мягким механическим звоном. Нужный номер он опознал еще до того, как прочел номер на табличке: в темно-красном коридоре, загораживая дверь, недвижимо стояли секьюрити в серых костюмах. Лица были ненормально обычными и даже не успели отпечататься в памяти.
Расспросив Матвея о цели визита, его пропустили в номер, состоящий из двух просторных комнат. Гостиная была оформлена в светло-серых тонах, а на круглом столе, накрытом скатертью, стояли ваза с букетом кумачовых гербер и открытая бутылка шампанского, которые уравновешивали друг друга и складывались в симметричный натюрморт.
- Сколько можно ждать! – с шумом распахнув дверь, из спальни выскочил всклокоченный мужчина в белом халате на голое тело. – Это невыносимо, это какой-то беспредел!
Матвей нахмурился. Рыжий мужчина, носящий очки в тонкой золотистой оправе, сильно картавил и был чревоугодно-толстым – он вполне мог бы дополнить галерею тюрликов, то ли выдуманных, то ли срисованных с натуры почившим в бозе Коржевым. Впрочем, сейчас Матвей находил более правдоподобной вторую версию. Лицо депутата показалось ему знакомым, и он даже умудрился вспомнить, что это Валентин Сильванов, имеющий отношение к петербургскому Заксобранию. Однажды ему попался на глаза отрывок из заведомо бесплодных дебатов. Сильванов выкладывался со всем возможным фанатизмом и убеждал бутафорских оппонентов в том, что Россия окружена врагами, которые хотят разграбить её национальные богатства, сгноить всех россиян в лагерях, а детей сгноенных россиян отдать на усыновление европейским семьям, состоящим из геев-педофилов. Как и у многих его коллег, речь Сильванова была шизофазической. Бутафорские оппоненты, конечно же, позорно проигрывали провластному кокаинисту.
«Это тебя еще не посылали с координатами в лесополосу, чтобы ты там час в говне копался», - подумал Матвей, стиснув зубы, и пожалел, что все-таки не открапалил.
Решив не отвечать, он молча отдал зиплок с кокаином и собрался уходить, однако из спальни донесся хриплый кашель, и взгляд Матвея невольно переполз на второй план – за спину Сильванова, который уже зачерпывал кокаин единственным длинным ногтем, украшающим правый мизинец. Дверь, ведущая в спальню, была открыта – в спешке Сильванов совсем про неё забыл. В прохладном полумраке смятой кровати бледными пятнами выделялись молодой профиль с длинным носом, тонкая шея и сутуловатый юношеский торс, обтянутый черной кожаной портупеей.
«Пидарас духа», - с отвращением подумал Матвей и, развернувшись на месте, поспешно покинул номер. Про Сильванова действительно ходили подобные слухи, но особый оттенок им добавляло то, что Сильванов в свое время был одним из лоббистов законопроекта о гей-пропаганде, за которую предлагалось принимать даже нейтральные упоминания фактов. Финал оказался предсказуемым: алогичный законопроект породил очередную статью, по которой можно было упекать неугодных оппозиционеров.
Матвей вышел на улицу. Новогодняя иллюминация расползалась по снежно-белым сугробам жуткими пестрыми пятнами, а поверх тонкой пленкой ложился гниловато-желтый неоновый свет, исходящий от отеля «Марриотт». Холодный воздух омывал голографические изображения реклам, по другую сторону дороги пробиралась сквозь окрепшую тьму зеленая тройка казачьего патруля, а в вечерней панораме чернел пыльный гранит набережной, скрывающий под собой допетровские болота.
Желание вмазаться переродилось в идею, и идея эта была действительно многообещающей – не больше и не меньше.
- Куда едем, шеф? – невозмутимо спросил Черняк, когда Матвей вернулся в машину.
- На Апрашку, - приказал Матвей, - и шприц дай, они в бардачке лежат.
Когда обе машины припарковались на Садовой, Матвей вытащил из портмоне купюры помельче, переложил их в карман и с проворством исчез в полукруглой арке, за которой начиналась сутолока рынка.
«Апраксия, - думал он, протискиваясь сквозь толпу, залитую оранжево-желтым светом фонарей, нависающих над тесным лабиринтом торговых рядов, - не могу собраться, не могу сдвинуться с места, не понимаю, куда мне идти…»
Порывистый ветер бил по пятнистым от времени зданиям, окружающим рынок, трепал гибкие навесы, под которыми переступали с ноги на ногу зябнущие азиаты, колыхал вывешенный для продажи дешевый текстиль. Взгляд Матвея бегал из стороны в сторону, надеясь выцепить в шевелящейся толпе одного из выжидающих людей, которые обычно стояли на периферии людского коловращения и тоже высматривали сосредоточенных на поиске покупателей.
Первый же успех принес с собой узнавание и сильное удивление. Возле обшарпанной стены, неподалеку от входа в обменник подпрыгивал на месте Юша. За его спиной светилось красными цифрами табло с курсами валют. То и дело дыша теплом на стынущие пальцы и откусывая от завернутого в салфетку беляша, он бойко оглядывал толпу. Его одержимый взгляд неизбежно встретился с взглядом Матвея, и Юша, который за время пребывания на зоне сильно осунулся, расплылся в фанатичной улыбке. Вид у него был диковатый. Пожалуй, теперь он еще больше напоминал столь любимых им персонажей Мамлеева.
- Какими судьбами, Мотя? – экстатически воскликнул Юша, устремившись ему навстречу. – Что ты здесь делаешь и почему ты такой?
- Какой? – замялся Матвей. В поведении Юши сквозило нечто нездоровое, сидевшее в нем с рождения, но во время тюремного срока набравшее силу. Эзотерический кружок оказался для Юши лишь репетицией будущей бездны.
- Представительный! – тем же тоном продолжил Юша и покраснел, как рак.
- Да так, работу новую нашел… - скупо ответил нахлобученный Матвей, в нервном предвкушении постукивая зубами. – А ты что тут делаешь?
- В сентябре вышел по удо. Тоже работаю. Так зачем ты здесь?
- Свежесть ищу. Может, ты знаешь кого-нибудь, раз уж ты тут стоишь?
- Ты? Свежесть? Чего это так? Когда меня посадили, ты только нюхал, – вскинул брови Юша.
- Акт трансгрессии, - усмехнулся Матвей и убрал руки в карманы, чтобы спрятать трепещущие пальцы, - я больше года кололся, а потом на год завязал. Теперь вот сорваться решил.
- Я могу тебе помочь, - заговорщицки прошептал он, понизив голос до свистящего шороха, и сладко прищурился, - знаю одну женщину, она сегодня здесь.
«Или сумасшедший, или объебанный», - тоскливо подумал Матвей, но решил не расспрашивать. Сжевав последний кусок беляша, Юша скомкал жирную салфетку и бросил её на притоптанный снег, а потом оживленно устремился к одному из зданий, где китайцы вели оптовую торговлю аляповатой одеждой. Наркоманское чутье и накопленный опыт уличных муток не подвели – Юша действительно оказался бегунком.
Под козырьком крыши блестели фонари, разбрасывающие по грязно-голубой стене желтые потеки, а в двустворчатых дверях складского типа, за иллюминаторами окошек дышал теплом кафельно-белый коридор. Матвей задумался о том, что происходило всего два часа назад. Когда он торговал розницей, у него часто покупал молодой филолог из департамента образования, живущий на правительственные гранты. Он предпочитал мефедрон и изящно нюхал его с крохотной ложки. В одну из встреч изрядно нанюханный филолог, которому срочно нужен был собеседник, готовый послушать про его научные изыскания, торопливо и сквозь зубы рассказал Матвею про истинный смысл игры в жмурки, согласно которому слепота в народном сознании равнялась состоянию посмертного небытия, а водящий, соответственно, самой смерти.
- Почему, думаешь, покойников называют жмурами? – пристально смотрел на него филолог, рассыпаясь вкрадчивой скороговоркой. - Поэтому и называют.
«Не убежал, - подумал Матвей, вспомнив отпиленную голову курьера, лежащую на бетонном полу, - а я пока бегаю…»
- Знаешь, Юша, а ведь вы были правы, - вдруг произнес он, остановившись и прикрыв глаза. Два окошка отпечатывались на грязном снегу лимонно-бледными эллипсами. Юша тоже остановился и заинтересованно посмотрел на него:
- Ты всё-таки поверил в Бездну?
- Нет. К метафизике я по-прежнему равнодушен, - тихо сказал Матвей, - просто я случайно познал вашу тайну.
- Какую тайну? – так же тихо спросил Юша.
- Извечную тайну смерти, - мрачно произнес Матвей, - познал её эмпирически. Она до ужаса проста, в ней нет красоты. Только уродство и предельная физиологичность. Ужас тайны в том, что ничего тайного в ней нет. Такой вот парадокс. Это очень простая мысль, но её невозможно прочувствовать, пока не столкнешься с ней наяву.
Юша широко улыбнулся, и провал рта слился с тенью, косо лежащей на его лице. Горячо блеснув глазами, Юша издал придушенный смешок.
- Как ты убивал? – спросил он восторженным шепотом некрофетишиста. – Твоя жертва умирала медленно? Ты заглядывал в глаза?
- Что ты, Юша, в такие моменты я не вижу их глаз, - усмехнулся Матвей, - я их вообще почти не вижу. Раньше видел, теперь вот… Теперь совсем по-другому. Знаешь, в чем измеряется смерть? В килограммах.
- Слушай, я, конечно, не удивлен, что тайна смерти открылась тебе, не верящему в метафизику. Я еще тогда говорил, что ты ближе к Бездне, чем мы все, и тебе, в общем-то, необязательно в неё верить, чтобы осознавать её. Если хочешь знать, я смотрел на тебя, как на духовного учителя, хотя со стороны казалось, что всё наоборот. Ты очень спокойно воспринимал то, к чему мы относились с такой серьезностью, и не придавал этому никакого значения, словно для тебя это была рутина. Я смотрел на тебя, желая научиться этой легкости, - осторожно произнес Юша, снова вспыхнув румянцем, - но ответь на один вопрос… Ты чем вообще по жизни занимаешься?
- Героином, - глухо произнес Матвей, пристально заглядывая ему в глаза.
- Я же говорил! – упоенно воскликнул Юша, резким движением взял его за руки, и Матвей ощутил болезненный холод его сдавливающих пальцев. – Если честно, ты так интересовался серийными убийцами, что я не удивился бы, прочитав в новостях о серии убийств. Твоей серии убийств. А ты превзошел мои надежды. Героин – это гораздо масштабнее!
Матвей поневоле нахмурился. Да, Юша ни капли не изменился. Его тяга к нигредо лишь обострилась. Еще в старые времена у Матвея порой складывалось ощущение, что стоит вроде бы гетеросексуальному Юше застать его врасплох над расчлененным трупом жертвы, с окровавленными руками - и его бесполое обожание тут же приобретет исключительно эротический окрас.
Заметив недовольство собеседника, Юша с неловкостью отдернул руки. То ли из-за излишней тактильности жеста, то ли из-за появившегося между ним и Матвеем онтологического разрыва. Кажется, Юша очень боялся его обидеть.
Проведя его через три этажа и кавардак узких коридоров, мигающих неоновыми иероглифами вывесок и шелестящих русско-китайской речью, Юша свернул на боковую лестницу и остановился в закутке, стены которого шелушились серо-зеленой краской. На широком подоконнике сидела хрупкая, но серьезная женщина в оверсайз-куртке с леопардовым принтом и черных ботинках с пряжками. Колено над правым ботинком было сдавлено жестким ортезом.
- Почему он с тобой, а не внизу ждет? – возмутилась женщина, увидев Матвея. - Ты совсем дурак?
- Не ругайся, Геля, это мой старый друг… - виновато произнес Юша. Она осмотрела Матвея с головы до ног, с подозрением прищурилась и настороженно спросила:
- Чего хочешь, душа моя?
- Свежатины навернуть, - жадно пробормотал Матвей. Сдерживаться было невмоготу: он неприкрыто полязгивал зубами и комкал дрожащими пальцами кончик шарфа. В желудке странно тянуло. Матвей опасался, что ему может стать дурно прямо на лестнице.
- Дороговато одет для свежатины, - усмехнулась женщина.
- Сколько сейчас куб стоит? – спросил Матвей, напряженно облизнув губы. – Пятьсот?
- Ха, это очень старая цена, - тихо засмеялась она, наконец разглядев в нем наркомана в ремиссии, - две штуки давай.
- Нихера себе, - буркнул Матвей и торопливо достал из кармана хрустящие купюры.
- Рука рынка. Препарат перевели на строгий учет, цены поднялись, - пожала плечами женщина и пересчитала протянутые деньги. Запустив руку куда-то под подоконник, она сунула Матвею в ладонь стеклянный фурик.
- Отведи своего друга в туалет, - деловито сказала она, посмотрев на выжидающего Юшу, который наблюдал за сделкой с деликатным молчанием, - ему невтерпеж, он аж трясется…
«Неужели я действительно так плохо выгляжу?» - рассеянно думал Матвей, поднимаясь вслед за Юшей по темной боковой лестнице.
Туалет оказался в разы хуже, чем на Балтийском вокзале. Дымно-фиолетовое стекло в квадратах потолочных ламп было частично разбито, и сквозь угловатые дыры прорывался мертвенно-белый свет, который дрябло отражался в потрескавшемся кафеле. В приоткрытой форточке простуженно гудел ветер.
Неуклюже скользнув в первую же кабинку, Матвей заперся и рухнул на сиденье унитаза. Его взгляд уткнулся в мешанину надписей, которая покрывала внутреннюю сторону двери: размашистый мат, предложения отсосать, сопровождаемые номерами телефонов, и Адамова глава, увенчанная лозунгом «православие или смерть».
Сдернув со шприца шуршащий целлофан, Матвей выбросил упаковку себе под ноги. Туда же полетел пластиковый колпачок. Сжав шприц в зубах, словно пес, не желающий расставаться с глодаемой костью, Матвей осторожно открыл холодный фурик. На его донце плескалась бледно-желтая свежесть. Косым штрихом в фурик погрузилась металлическая игла, окунулась канюлей в свежесть, и Матвей, до белизны закусив губу, сдерживая подталкивающий его порыв, медленно потянул поршень.
Преодолев десять черных делений, свежесть ушла в шприц до последней капли. Шумно сглотнув, Матвей дернул рукав вверх и подставил бело-сиреневому свету изможденную руку. Возле запястья виднелась выпуклая черточка миниатюрной вены. Продавив кожу, острие иглы проникло внутрь, с хрустом пробило стенку вены и нырнуло в кровоток. Матвей замер и облизнул пересохшие губы. Звуки мира и мир вообще перестали для него существовать. Он чуть потянул поршень. В бледно-желтой свежести расползлась алая вуаль контроля.
Матвей облегченно выдохнул и надавил на поршень, доведя его до конца. Сердце сорвалось с места, набрав частоту ударов, в ушах зарокотала кровь, а зрачки превратились в черные пятна, почти затмившие радужку. Матвей ощутил, как против его воли крепко стиснулись челюсти, уронил голову на прохладный фаянс бачка, обмякнув всем телом, и оргазмически простонал. Руки повисли, чуть не доставая до пола, опустевший шприц упал на грязный кафель, а ноги разъехались, косолапо вывернувшись под несколько неестественным углом. Фиолетовое стекло ламп обрело четкий рельеф, налилось ядовито-розовым, и его грани расцвели ярко-сиреневыми искрами. Прорехи белого света раздулись, обзаведясь размытым ореолом, а вой зимнего ветра явил свою скрытую глубину, обнажив звенящие нотки, перебиваемые тягучим свистом. Мир вернулся, обретя лучшее качество.
Волна прихода оказалась такой сильной, что в первую минуту Матвею было тяжело дышать: он делал поверхностные, формальные вдохи, но не замечал этого, оглушенный открывшимся ему великолепием. Качали перекрестьями сиреневые искры, разгорячившиеся лоб и виски покрылись крупинками пота. Вернулись ясность и отчетливость очертаний, которую Матвей не видел почти год. Он ошалело смотрел перед собой, восстанавливая дыхание и блаженно улыбаясь. Его морозило, но в случае со свежестью это был хороший признак.
Обретя чувство времени и придя в себя, Матвей вскочил на ноги и вышел из кабинки. Краем сознания он отметил, что Юша никуда не ушел. Юша до сих пор был здесь. Он ждал возле раковины – побледневший, потемневший глазами, а его черные волосы отливали вороньей синевой. Сердце Матвея стучало, как барабан, а во рту стремительно пересыхало. Выбитое из колеи тело пыталось привыкнуть к новому и давно забытому состоянию. Сознание стало рассеянным, но при этом очень сфокусированным: часть реальности неизбежно ускользала от понимания, зато другая часть превратилась в одинаковые мысли, сменяющие друг друга в бесконечном цикле.
Матвея Грязева заочно ненавидели люди, которые считали его убийцей, хотя никогда не видели его лица и не слышали имени. Юша тоже считал его убийцей, вот только реагировал на это совсем иначе. Сметливый Юша, понимающий, что есть правильно сваренная свежесть, глядя на упоротого в подходящей степени Матвея, который после долгого воздержания вколол себе привычный куб, а не рекомендуемую для новичков и ремиссионеров половину, прекрасно осознавал, что оказался в нужном месте и в нужное время.
За аккаунтами Матвея он следил с сентября и не понимал, что произошло. Фотографии стали отображать лучшую жизнь, и Юша ломал голову, пытаясь понять, откуда у Матвея столько денег. Не изменились только две вещи: Матвей до сих пор курил красный «Честерфилд», который Юша находил похожим на химозное сено, и угрюмо смотрел на мир. Он даже помрачнел и теперь еще сильнее напоминал Федора Соннова из «Шатунов».
- Я тут рядом живу, возле вашей точки, - выдохнул Юша, пристально глядя на Матвея немигающими глазами, - у тебя сейчас есть время? Я приглашаю тебя в гости. Посидим немного. Часик. Тут совсем недалеко, на Ломоносова…
Лицо Матвея перекосила ненатурально-кривая улыбка, за которой белели стиснутые зубы. От янтарно-карей радужки остались лишь хрупкие, тонкие ободки, еле сдерживающие подрагивающую черноту. Дернувшись всем телом, Матвей издал тихий смешок.
- Пошли-пошли, машину надо перепарковать, а то я обратно через Апрашку идти не хочу, - оживленно затараторил он сквозь зубы и скрылся в темноте боковой лестницы, оставив после себя лишь удаляющийся голос, - слишком много людей, меня это всегда раздражает, даже когда я под кокаином, а свежесть это более мощная штука. Под кодеином, впрочем, мне всё равно, я его сегодня днем принимал, был как сонная муха…
Пытаясь не отставать от энергично шагающего Матвея, который на ходу расстегивал полупальто, потому что ему стало жарко, Юша лавировал между барахольщиками. Матвей покачивался при ходьбе, поминутно погружаясь в неоновые снопы темно-вишневого свечения, которое окрашивало его светлые волосы красным, создавая впечатление разбитой головы. Каблуки его ботинок чеканно били об пол, пока не утонули в хрустящем снегу.
Пройдя сквозь лабиринт Апраксина двора, Матвей вышел к обочине Садовой, где был припаркован синий автомобиль, который Юша пару раз замечал в его инстаграме. Он редко попадал в кадр полностью, но даже эти скудные детали помогли Юше опознать марку и в очередной раз удивиться. Махнув рукой черному внедорожнику, на дверце которого была схематично изображена белая собачья голова, Матвей исчез в машине. Помявшись снаружи, Юша последовал его примеру и сел на заднее сиденье. Они оказались рядом.
Мельком заметив двух людей преступной наружности, один из которых сидел за рулем, а второй перебирал рубиновые четки, глухо стучащие бусинами по двум протезам пальцев, Юша потупился. От такого количества признаков, косвенно указывающих на власть, ему стало немного не по себе.
Многословно приказав подъехать к рынку со стороны Ломоносова, Матвей уставился блестящими глазами в темное окно. То и дело вздрагивая всем телом, он посмеивался себе под нос и курил, совсем не стряхивая пепел. Пепел опадал на брюки, оседал на мягкое кожаное сиденье, на резиновый коврик…
- Знатный у тебя кортеж, - ляпнул Юша, чтобы сказать хоть что-нибудь, и прикусил язык. Но Матвею оказалось достаточно и этого, чтобы возобновить прервавшийся поток речи.
- Ага, как у моего предка-опричника, - весело процедил он сквозь сжатые зубы. Выглядел он крайне сконцентрированным и целеустремленным, но непонятно на чем и непонятно куда, - видел собачью голову на машине, которая за нами едет? Это Руслан придумал, он любит хорошо пошутить, и конкретно эту шутку я оценил, да…
- Точно, ты же рассказывал про опричников… - пробормотал Юша, избегая его деятельного взгляда, и снова замолчал.
В нужный двор они приехали за пять минут. Опережая Матвея, Юша направился к грязно-желтому доходному дому, который в девяностые и нулевые был гостиницей. Теперь он частично вернулся в исходное состояние: номера на первых двух этажах сдавались почасово – обычно проституткам, которые приводили сюда клиентов, а номера третьего этажа превратились в скромные студии, цены на которые тоже были скромными, хоть и из-за неблагоприятного окружения.
Первые два этажа Матвей прошел наравне с Юшей, осоловело пошатываясь. Его лицо утратило жесткую упругость мимики, приобрело пьяный вид, а веки поползли вниз, как у присыпающих. Кое-как преодолев последний лестничный пролет, Матвей обмяк и неумолимо устремился всем телом к полу, но рухнул на Юшино плечо. Чертыхнувшись, тот чуть не упал сам, но удержался на ногах. Обхватив Матвея за талию и закинув его расслабленную руку себе на плечо, Юша нахмурился: «Этого еще не хватало…»
Матвей был в полусознании, но стремительно из него уходил, блаженно бормоча себе под нос - настолько тихо, что нельзя было вычленить даже отдельные звуки. Дотащив его до двери, Юша нашарил в кармане ключи и исчез вместе с добычей в темной квартирке.
Он хлопнул ладонью по выключателю, под потолком забрезжила люстра, и желтовато-синюшный свет вырвал из полумрака серые стены, длинный диван, над которым в ряд висели портреты Мамлеева, Дугина и Сперанской, а потом и широкий письменный стол, на котором стояло неказистое кошачье чучело – уродливое детище неопытного таксидермиста. Над столом виднелся увесистый коровий череп, добела выдержанный в перекиси водорода и напоминающий репродуктивную систему женского организма.
Юша горестно вздохнул, в его лице проступила гримаса неподдельного страдания, и он аккуратно уложил заснувшего Матвея на диван. Руки вытянулись вдоль тела, а одна нога свесилась вниз, стукнув ботинком об пол. Свежесть оказалась скорее эйфоричной, нежели стимулирующей. Матвей пребывал в крепкой дреме и беззвучно шевелил губами, явно созерцая нечто неземное.
- Ну твою мать… – прошипел Юша то ли себе, то ли мерно вздыхающему Матвею, то ли кому-то третьему и невидимому. Он стянул куртку и швырнул её на кресло. На такое Юша не рассчитывал. Матвей поддался безбрежной эйфории и заснул на ходу. Он уже не мог сделать того, чего так хотелось Юше, а хотелось ему активных действий со стороны Матвея, который неожиданно и для него, и для себя превратился в спящее тело.
Когда они только познакомились, Юша разглядел в нем Федора Соннова и проявил свое желание, как ему казалось, деликатно, но достаточно красноречиво. Однако Матвей то ли не понимал его намеков, то ли делал вид, что не понимал, оставаясь угрюмым и задумчивым, погруженным внутрь себя.
С момента их последней встречи прошло два года. Юша подметил, что за это время Матвей приобрел новое глубинное свойство, которое придало его движениям несвойственную прежде жесткость, утяжелило взгляд и наполнило голос уверенностью. Внутреннее наполнение несколько диссонировало с ухоженной, но все же наркоманской наружностью и курносым профилем, создавая легкое ощущение неправильности, пробуждая в Юше странную смесь страха и желания пострадать.
Осторожно подступив к дивану, Юша наклонился над Матвеем, который уже ничего не бормотал, представляя собой совершенно беззащитного человека. При желании его вполне можно было убить, перерезав горло, но убивать его Юша не хотел. Опасливо протянув руку, он коснулся пальцами костистого колена, выступающего под брючной тканью. Пальцы медленно съехали ниже, скользнув по берцовой кости. Юша беззвучно выдохнул и уже с меньшим страхом, откинув край полупальто, переложил руку на бедро Матвея и нащупал сквозь рубашку остов таза. Юша влажно моргнул и улыбнулся. Подрагивающая ладонь мягко коснулась жестких волос, откинув со лба спутавшиеся пряди, скользнула по сухой скуле и легла на острый кадык.
«Надо было прямо в туалете предлагать, пока его крыло… - огорченно подумал Юша. – Теперь он уже ничего не может. Ничего не поделаешь. Придется довольствоваться тем, что есть».
Минет, впрочем, тоже не удался, хотя Юша старался. Свежесть оказалась слишком хорошей: об этом говорили бессознательное состояние Матвея и крайне невразумительный стояк. Скуксившись, Юша застегнул молнию на его брюках и удалился к столу с кошачьим чучелом. Устроившись на стуле, он сложил на столе руки, уронил на них голову и закрыл глаза. Прошло несколько минут, и глубокие вздохи сменились размеренным сопением.
Морок цветастых видений рассеивался, уступая место упорядоченным мыслям и неприятному тусклому свету, который проникал под сомкнутые веки. Матвей открыл глаза, медленно сел, покачивая туловищем, как сомнамбула, и непонимающе осмотрелся. Ему в спину загадочно глядели Мамлеев в желтых очках, бородатый Дугин и улыбающаяся красными губами Сперанская. Возле стола виднелся согбенный, недвижимый силуэт, рядом с которым таращилось в пустоту кошачье чучело. Его морда выражала вполне человеческое недоумение. Над спящим силуэтом Юши белел в полумраке коровий череп.
Матвей задумался, склонив голову вбок. Прищурившись, он злобно уставился на спящего Юшу. Стараясь ступать беззвучно, крадясь, как паук, он преодолел три метра линолеума, которые отделяли его от Юши, и замер над его беззащитным затылком. А потом схватил его за волосы и с силой ударил головой об стол. Слабо вскрикнув, Юша проснулся и вскинул ошарашенное лицо, по которому побежала кровь из носа.
- Больной любитель мертвечины, - процедил Матвей с долей злорадства, вцепившись Юше в волосы и оттянув его голову назад, чтобы тот не мог отвернуться, - ты же мог нормально, как человек, спросить меня, пока я был трезвый. Что тебе мешало так поступить? За неимением смерти любишь ее суррогаты?
- Трезвым ты бы не согласился… - пробормотал Юша дрожащими губами.
- Да, я бы отказал, зато были бы соблюдены нормы приличия. Ты прекрасно знаешь, что мне нравятся женщины, и за два года ничего не изменилось.
Юша моргнул и вдруг улыбнулся окровавленным ртом:
- Мне редко встречаются убийцы вроде тебя. Я не мог упустить такой шанс.
- Да полный Питер таких убийц, выбирай любого, - тихо засмеялся Матвей, и это был недобрый смех, - чего ты на мне зациклился? До сих пор ничего не остыло?
- Почему ты так грубо со мной разговариваешь? – отчаянным полушепотом спросил Юша, вздрогнув всем телом. Он снова моргнул и плаксиво искривился.
- Ты в тюрьме совсем башкой поехал, тебя к живым людям подпускать нельзя. К мертвым, наверное, тоже.
- Чего ты так взъелся? – распахнул глаза Юша в искреннем удивлении. – Все равно анатомически не было никакой разницы!
- Федор Соннов, говоришь… - протянул Матвей, из последних сил сдерживая гнев, приберегая его для последнего порыва. – Будет тебе Федор Соннов. Прямо сейчас.
Юша машинально рванулся со стула, но отскочить не успел. Стащив его на пол, Матвей навалился сверху и сдавил его горло пальцами. Юша нечленораздельно хрипел, хаотично размахивал руками и пытался выползти из-под Матвея, но глаза закатывались всё сильнее, а хрип терял остроту и силу. Матвей видел прямо перед собой краснеющее от удушья лицо и глаза, из которых уходила осознанность. До него дошло, что он делает.
Разжав пальцы, он рывком вскочил и отшатнулся. Надрывно откашливаясь, Юша попытался встать, но не устоял на подкосившихся ногах и бессильно рухнул на колени. Бледный ужас на его лице сменился несмелой улыбкой, и Юша издал смешок, полный искренней радости. Сбитый с толку его неадекватными реакциями, Матвей не мог сдвинуться с места. Юша схватил его за запястье и силой поцеловал ему руку. Матвей дернулся назад и вырвал руку – так резко, словно её ошпарило кипятком.
- Скажи спасибо, что я не убил тебя, поехавший маньяк! – сдавленно выкрикнул Матвей, проворно отступая к двери. Он принял не самое мужественное, но единственно верное решение - спастись из нехорошей квартиры бегством. В свое время он читал много историй про сталкеров и знал, что фанатичная преданность, встретившая отказ, имеет свойство обращаться в настолько же фанатичную ненависть.
Бегом спустившись по лестнице, он выскочил из парадной – в холодные вихри белой вьюги, усилившегося дождя и невыносимого ветра, за мельтешением которых проступала страшная, густая тьма. Матвей скорым шагом направлялся к машине, а ужасный, невыносимый ветер дул в спину и с жуткой силой подталкивал вперед. Ему было нехорошо. Хотелось упасть в снег и никуда не идти. Но Матвей шел, не разбирая дороги, ступая по луже, в которой отражалась вывеска алкомаркета. За широкой белой полосой, подрагивающей на поверхности воды, следовала красная, а дальше начиналась чернота.
Ботинок неудачно скользнул по наледи, и Матвей, не удержав равновесие, рухнул на бок. Белое, красное и черное содрогнулось, рассыпавшись на подрагивающие сегменты отраженного света. Быстро поднявшись, будто за ним кто-то гнался, Матвей наконец добрался до машины и ввалился в ее теплое нутро.
- Всё в порядке? – повернулся к нему Миша. Вопрос прозвучал риторически: сложно было не догадаться, что произошло нечто нехорошее.
- У меня был тяжелый день, - сбивчиво ответил Матвей, - мне плохо, я хочу домой. Гена, вези меня домой. У меня нервы не выдерживают, я очень устал…
За черным фильтром окна скользили бурые сугробы, свистящие вихри, которые подбрасывали снежную крупу и стылые капли, а острые сосульки неприятно мерцали в темноте новогодней иллюминации. Матвей молчал. Что-то зрело в нём.
«Кого я изображаю? – потерянно размышлял он, глядя сквозь промозглый петербургский пейзаж. – Точнее, кого я изображаю? Матвея Грязева или Герыча? И кто из них первичен теперь?»
«Отдать кокс и свалить, а потом уже все остальное…» - решил про себя Матвей, выйдя из лифта, двери которого открылись с мягким механическим звоном. Нужный номер он опознал еще до того, как прочел номер на табличке: в темно-красном коридоре, загораживая дверь, недвижимо стояли секьюрити в серых костюмах. Лица были ненормально обычными и даже не успели отпечататься в памяти.
Расспросив Матвея о цели визита, его пропустили в номер, состоящий из двух просторных комнат. Гостиная была оформлена в светло-серых тонах, а на круглом столе, накрытом скатертью, стояли ваза с букетом кумачовых гербер и открытая бутылка шампанского, которые уравновешивали друг друга и складывались в симметричный натюрморт.
- Сколько можно ждать! – с шумом распахнув дверь, из спальни выскочил всклокоченный мужчина в белом халате на голое тело. – Это невыносимо, это какой-то беспредел!
Матвей нахмурился. Рыжий мужчина, носящий очки в тонкой золотистой оправе, сильно картавил и был чревоугодно-толстым – он вполне мог бы дополнить галерею тюрликов, то ли выдуманных, то ли срисованных с натуры почившим в бозе Коржевым. Впрочем, сейчас Матвей находил более правдоподобной вторую версию. Лицо депутата показалось ему знакомым, и он даже умудрился вспомнить, что это Валентин Сильванов, имеющий отношение к петербургскому Заксобранию. Однажды ему попался на глаза отрывок из заведомо бесплодных дебатов. Сильванов выкладывался со всем возможным фанатизмом и убеждал бутафорских оппонентов в том, что Россия окружена врагами, которые хотят разграбить её национальные богатства, сгноить всех россиян в лагерях, а детей сгноенных россиян отдать на усыновление европейским семьям, состоящим из геев-педофилов. Как и у многих его коллег, речь Сильванова была шизофазической. Бутафорские оппоненты, конечно же, позорно проигрывали провластному кокаинисту.
«Это тебя еще не посылали с координатами в лесополосу, чтобы ты там час в говне копался», - подумал Матвей, стиснув зубы, и пожалел, что все-таки не открапалил.
Решив не отвечать, он молча отдал зиплок с кокаином и собрался уходить, однако из спальни донесся хриплый кашель, и взгляд Матвея невольно переполз на второй план – за спину Сильванова, который уже зачерпывал кокаин единственным длинным ногтем, украшающим правый мизинец. Дверь, ведущая в спальню, была открыта – в спешке Сильванов совсем про неё забыл. В прохладном полумраке смятой кровати бледными пятнами выделялись молодой профиль с длинным носом, тонкая шея и сутуловатый юношеский торс, обтянутый черной кожаной портупеей.
«Пидарас духа», - с отвращением подумал Матвей и, развернувшись на месте, поспешно покинул номер. Про Сильванова действительно ходили подобные слухи, но особый оттенок им добавляло то, что Сильванов в свое время был одним из лоббистов законопроекта о гей-пропаганде, за которую предлагалось принимать даже нейтральные упоминания фактов. Финал оказался предсказуемым: алогичный законопроект породил очередную статью, по которой можно было упекать неугодных оппозиционеров.
Матвей вышел на улицу. Новогодняя иллюминация расползалась по снежно-белым сугробам жуткими пестрыми пятнами, а поверх тонкой пленкой ложился гниловато-желтый неоновый свет, исходящий от отеля «Марриотт». Холодный воздух омывал голографические изображения реклам, по другую сторону дороги пробиралась сквозь окрепшую тьму зеленая тройка казачьего патруля, а в вечерней панораме чернел пыльный гранит набережной, скрывающий под собой допетровские болота.
Желание вмазаться переродилось в идею, и идея эта была действительно многообещающей – не больше и не меньше.
- Куда едем, шеф? – невозмутимо спросил Черняк, когда Матвей вернулся в машину.
- На Апрашку, - приказал Матвей, - и шприц дай, они в бардачке лежат.
Когда обе машины припарковались на Садовой, Матвей вытащил из портмоне купюры помельче, переложил их в карман и с проворством исчез в полукруглой арке, за которой начиналась сутолока рынка.
«Апраксия, - думал он, протискиваясь сквозь толпу, залитую оранжево-желтым светом фонарей, нависающих над тесным лабиринтом торговых рядов, - не могу собраться, не могу сдвинуться с места, не понимаю, куда мне идти…»
Порывистый ветер бил по пятнистым от времени зданиям, окружающим рынок, трепал гибкие навесы, под которыми переступали с ноги на ногу зябнущие азиаты, колыхал вывешенный для продажи дешевый текстиль. Взгляд Матвея бегал из стороны в сторону, надеясь выцепить в шевелящейся толпе одного из выжидающих людей, которые обычно стояли на периферии людского коловращения и тоже высматривали сосредоточенных на поиске покупателей.
Первый же успех принес с собой узнавание и сильное удивление. Возле обшарпанной стены, неподалеку от входа в обменник подпрыгивал на месте Юша. За его спиной светилось красными цифрами табло с курсами валют. То и дело дыша теплом на стынущие пальцы и откусывая от завернутого в салфетку беляша, он бойко оглядывал толпу. Его одержимый взгляд неизбежно встретился с взглядом Матвея, и Юша, который за время пребывания на зоне сильно осунулся, расплылся в фанатичной улыбке. Вид у него был диковатый. Пожалуй, теперь он еще больше напоминал столь любимых им персонажей Мамлеева.
- Какими судьбами, Мотя? – экстатически воскликнул Юша, устремившись ему навстречу. – Что ты здесь делаешь и почему ты такой?
- Какой? – замялся Матвей. В поведении Юши сквозило нечто нездоровое, сидевшее в нем с рождения, но во время тюремного срока набравшее силу. Эзотерический кружок оказался для Юши лишь репетицией будущей бездны.
- Представительный! – тем же тоном продолжил Юша и покраснел, как рак.
- Да так, работу новую нашел… - скупо ответил нахлобученный Матвей, в нервном предвкушении постукивая зубами. – А ты что тут делаешь?
- В сентябре вышел по удо. Тоже работаю. Так зачем ты здесь?
- Свежесть ищу. Может, ты знаешь кого-нибудь, раз уж ты тут стоишь?
- Ты? Свежесть? Чего это так? Когда меня посадили, ты только нюхал, – вскинул брови Юша.
- Акт трансгрессии, - усмехнулся Матвей и убрал руки в карманы, чтобы спрятать трепещущие пальцы, - я больше года кололся, а потом на год завязал. Теперь вот сорваться решил.
- Я могу тебе помочь, - заговорщицки прошептал он, понизив голос до свистящего шороха, и сладко прищурился, - знаю одну женщину, она сегодня здесь.
«Или сумасшедший, или объебанный», - тоскливо подумал Матвей, но решил не расспрашивать. Сжевав последний кусок беляша, Юша скомкал жирную салфетку и бросил её на притоптанный снег, а потом оживленно устремился к одному из зданий, где китайцы вели оптовую торговлю аляповатой одеждой. Наркоманское чутье и накопленный опыт уличных муток не подвели – Юша действительно оказался бегунком.
Под козырьком крыши блестели фонари, разбрасывающие по грязно-голубой стене желтые потеки, а в двустворчатых дверях складского типа, за иллюминаторами окошек дышал теплом кафельно-белый коридор. Матвей задумался о том, что происходило всего два часа назад. Когда он торговал розницей, у него часто покупал молодой филолог из департамента образования, живущий на правительственные гранты. Он предпочитал мефедрон и изящно нюхал его с крохотной ложки. В одну из встреч изрядно нанюханный филолог, которому срочно нужен был собеседник, готовый послушать про его научные изыскания, торопливо и сквозь зубы рассказал Матвею про истинный смысл игры в жмурки, согласно которому слепота в народном сознании равнялась состоянию посмертного небытия, а водящий, соответственно, самой смерти.
- Почему, думаешь, покойников называют жмурами? – пристально смотрел на него филолог, рассыпаясь вкрадчивой скороговоркой. - Поэтому и называют.
«Не убежал, - подумал Матвей, вспомнив отпиленную голову курьера, лежащую на бетонном полу, - а я пока бегаю…»
- Знаешь, Юша, а ведь вы были правы, - вдруг произнес он, остановившись и прикрыв глаза. Два окошка отпечатывались на грязном снегу лимонно-бледными эллипсами. Юша тоже остановился и заинтересованно посмотрел на него:
- Ты всё-таки поверил в Бездну?
- Нет. К метафизике я по-прежнему равнодушен, - тихо сказал Матвей, - просто я случайно познал вашу тайну.
- Какую тайну? – так же тихо спросил Юша.
- Извечную тайну смерти, - мрачно произнес Матвей, - познал её эмпирически. Она до ужаса проста, в ней нет красоты. Только уродство и предельная физиологичность. Ужас тайны в том, что ничего тайного в ней нет. Такой вот парадокс. Это очень простая мысль, но её невозможно прочувствовать, пока не столкнешься с ней наяву.
Юша широко улыбнулся, и провал рта слился с тенью, косо лежащей на его лице. Горячо блеснув глазами, Юша издал придушенный смешок.
- Как ты убивал? – спросил он восторженным шепотом некрофетишиста. – Твоя жертва умирала медленно? Ты заглядывал в глаза?
- Что ты, Юша, в такие моменты я не вижу их глаз, - усмехнулся Матвей, - я их вообще почти не вижу. Раньше видел, теперь вот… Теперь совсем по-другому. Знаешь, в чем измеряется смерть? В килограммах.
- Слушай, я, конечно, не удивлен, что тайна смерти открылась тебе, не верящему в метафизику. Я еще тогда говорил, что ты ближе к Бездне, чем мы все, и тебе, в общем-то, необязательно в неё верить, чтобы осознавать её. Если хочешь знать, я смотрел на тебя, как на духовного учителя, хотя со стороны казалось, что всё наоборот. Ты очень спокойно воспринимал то, к чему мы относились с такой серьезностью, и не придавал этому никакого значения, словно для тебя это была рутина. Я смотрел на тебя, желая научиться этой легкости, - осторожно произнес Юша, снова вспыхнув румянцем, - но ответь на один вопрос… Ты чем вообще по жизни занимаешься?
- Героином, - глухо произнес Матвей, пристально заглядывая ему в глаза.
- Я же говорил! – упоенно воскликнул Юша, резким движением взял его за руки, и Матвей ощутил болезненный холод его сдавливающих пальцев. – Если честно, ты так интересовался серийными убийцами, что я не удивился бы, прочитав в новостях о серии убийств. Твоей серии убийств. А ты превзошел мои надежды. Героин – это гораздо масштабнее!
Матвей поневоле нахмурился. Да, Юша ни капли не изменился. Его тяга к нигредо лишь обострилась. Еще в старые времена у Матвея порой складывалось ощущение, что стоит вроде бы гетеросексуальному Юше застать его врасплох над расчлененным трупом жертвы, с окровавленными руками - и его бесполое обожание тут же приобретет исключительно эротический окрас.
Заметив недовольство собеседника, Юша с неловкостью отдернул руки. То ли из-за излишней тактильности жеста, то ли из-за появившегося между ним и Матвеем онтологического разрыва. Кажется, Юша очень боялся его обидеть.
Проведя его через три этажа и кавардак узких коридоров, мигающих неоновыми иероглифами вывесок и шелестящих русско-китайской речью, Юша свернул на боковую лестницу и остановился в закутке, стены которого шелушились серо-зеленой краской. На широком подоконнике сидела хрупкая, но серьезная женщина в оверсайз-куртке с леопардовым принтом и черных ботинках с пряжками. Колено над правым ботинком было сдавлено жестким ортезом.
- Почему он с тобой, а не внизу ждет? – возмутилась женщина, увидев Матвея. - Ты совсем дурак?
- Не ругайся, Геля, это мой старый друг… - виновато произнес Юша. Она осмотрела Матвея с головы до ног, с подозрением прищурилась и настороженно спросила:
- Чего хочешь, душа моя?
- Свежатины навернуть, - жадно пробормотал Матвей. Сдерживаться было невмоготу: он неприкрыто полязгивал зубами и комкал дрожащими пальцами кончик шарфа. В желудке странно тянуло. Матвей опасался, что ему может стать дурно прямо на лестнице.
- Дороговато одет для свежатины, - усмехнулась женщина.
- Сколько сейчас куб стоит? – спросил Матвей, напряженно облизнув губы. – Пятьсот?
- Ха, это очень старая цена, - тихо засмеялась она, наконец разглядев в нем наркомана в ремиссии, - две штуки давай.
- Нихера себе, - буркнул Матвей и торопливо достал из кармана хрустящие купюры.
- Рука рынка. Препарат перевели на строгий учет, цены поднялись, - пожала плечами женщина и пересчитала протянутые деньги. Запустив руку куда-то под подоконник, она сунула Матвею в ладонь стеклянный фурик.
- Отведи своего друга в туалет, - деловито сказала она, посмотрев на выжидающего Юшу, который наблюдал за сделкой с деликатным молчанием, - ему невтерпеж, он аж трясется…
«Неужели я действительно так плохо выгляжу?» - рассеянно думал Матвей, поднимаясь вслед за Юшей по темной боковой лестнице.
Туалет оказался в разы хуже, чем на Балтийском вокзале. Дымно-фиолетовое стекло в квадратах потолочных ламп было частично разбито, и сквозь угловатые дыры прорывался мертвенно-белый свет, который дрябло отражался в потрескавшемся кафеле. В приоткрытой форточке простуженно гудел ветер.
Неуклюже скользнув в первую же кабинку, Матвей заперся и рухнул на сиденье унитаза. Его взгляд уткнулся в мешанину надписей, которая покрывала внутреннюю сторону двери: размашистый мат, предложения отсосать, сопровождаемые номерами телефонов, и Адамова глава, увенчанная лозунгом «православие или смерть».
Сдернув со шприца шуршащий целлофан, Матвей выбросил упаковку себе под ноги. Туда же полетел пластиковый колпачок. Сжав шприц в зубах, словно пес, не желающий расставаться с глодаемой костью, Матвей осторожно открыл холодный фурик. На его донце плескалась бледно-желтая свежесть. Косым штрихом в фурик погрузилась металлическая игла, окунулась канюлей в свежесть, и Матвей, до белизны закусив губу, сдерживая подталкивающий его порыв, медленно потянул поршень.
Преодолев десять черных делений, свежесть ушла в шприц до последней капли. Шумно сглотнув, Матвей дернул рукав вверх и подставил бело-сиреневому свету изможденную руку. Возле запястья виднелась выпуклая черточка миниатюрной вены. Продавив кожу, острие иглы проникло внутрь, с хрустом пробило стенку вены и нырнуло в кровоток. Матвей замер и облизнул пересохшие губы. Звуки мира и мир вообще перестали для него существовать. Он чуть потянул поршень. В бледно-желтой свежести расползлась алая вуаль контроля.
Матвей облегченно выдохнул и надавил на поршень, доведя его до конца. Сердце сорвалось с места, набрав частоту ударов, в ушах зарокотала кровь, а зрачки превратились в черные пятна, почти затмившие радужку. Матвей ощутил, как против его воли крепко стиснулись челюсти, уронил голову на прохладный фаянс бачка, обмякнув всем телом, и оргазмически простонал. Руки повисли, чуть не доставая до пола, опустевший шприц упал на грязный кафель, а ноги разъехались, косолапо вывернувшись под несколько неестественным углом. Фиолетовое стекло ламп обрело четкий рельеф, налилось ядовито-розовым, и его грани расцвели ярко-сиреневыми искрами. Прорехи белого света раздулись, обзаведясь размытым ореолом, а вой зимнего ветра явил свою скрытую глубину, обнажив звенящие нотки, перебиваемые тягучим свистом. Мир вернулся, обретя лучшее качество.
Волна прихода оказалась такой сильной, что в первую минуту Матвею было тяжело дышать: он делал поверхностные, формальные вдохи, но не замечал этого, оглушенный открывшимся ему великолепием. Качали перекрестьями сиреневые искры, разгорячившиеся лоб и виски покрылись крупинками пота. Вернулись ясность и отчетливость очертаний, которую Матвей не видел почти год. Он ошалело смотрел перед собой, восстанавливая дыхание и блаженно улыбаясь. Его морозило, но в случае со свежестью это был хороший признак.
Обретя чувство времени и придя в себя, Матвей вскочил на ноги и вышел из кабинки. Краем сознания он отметил, что Юша никуда не ушел. Юша до сих пор был здесь. Он ждал возле раковины – побледневший, потемневший глазами, а его черные волосы отливали вороньей синевой. Сердце Матвея стучало, как барабан, а во рту стремительно пересыхало. Выбитое из колеи тело пыталось привыкнуть к новому и давно забытому состоянию. Сознание стало рассеянным, но при этом очень сфокусированным: часть реальности неизбежно ускользала от понимания, зато другая часть превратилась в одинаковые мысли, сменяющие друг друга в бесконечном цикле.
Матвея Грязева заочно ненавидели люди, которые считали его убийцей, хотя никогда не видели его лица и не слышали имени. Юша тоже считал его убийцей, вот только реагировал на это совсем иначе. Сметливый Юша, понимающий, что есть правильно сваренная свежесть, глядя на упоротого в подходящей степени Матвея, который после долгого воздержания вколол себе привычный куб, а не рекомендуемую для новичков и ремиссионеров половину, прекрасно осознавал, что оказался в нужном месте и в нужное время.
За аккаунтами Матвея он следил с сентября и не понимал, что произошло. Фотографии стали отображать лучшую жизнь, и Юша ломал голову, пытаясь понять, откуда у Матвея столько денег. Не изменились только две вещи: Матвей до сих пор курил красный «Честерфилд», который Юша находил похожим на химозное сено, и угрюмо смотрел на мир. Он даже помрачнел и теперь еще сильнее напоминал Федора Соннова из «Шатунов».
- Я тут рядом живу, возле вашей точки, - выдохнул Юша, пристально глядя на Матвея немигающими глазами, - у тебя сейчас есть время? Я приглашаю тебя в гости. Посидим немного. Часик. Тут совсем недалеко, на Ломоносова…
Лицо Матвея перекосила ненатурально-кривая улыбка, за которой белели стиснутые зубы. От янтарно-карей радужки остались лишь хрупкие, тонкие ободки, еле сдерживающие подрагивающую черноту. Дернувшись всем телом, Матвей издал тихий смешок.
- Пошли-пошли, машину надо перепарковать, а то я обратно через Апрашку идти не хочу, - оживленно затараторил он сквозь зубы и скрылся в темноте боковой лестницы, оставив после себя лишь удаляющийся голос, - слишком много людей, меня это всегда раздражает, даже когда я под кокаином, а свежесть это более мощная штука. Под кодеином, впрочем, мне всё равно, я его сегодня днем принимал, был как сонная муха…
Пытаясь не отставать от энергично шагающего Матвея, который на ходу расстегивал полупальто, потому что ему стало жарко, Юша лавировал между барахольщиками. Матвей покачивался при ходьбе, поминутно погружаясь в неоновые снопы темно-вишневого свечения, которое окрашивало его светлые волосы красным, создавая впечатление разбитой головы. Каблуки его ботинок чеканно били об пол, пока не утонули в хрустящем снегу.
Пройдя сквозь лабиринт Апраксина двора, Матвей вышел к обочине Садовой, где был припаркован синий автомобиль, который Юша пару раз замечал в его инстаграме. Он редко попадал в кадр полностью, но даже эти скудные детали помогли Юше опознать марку и в очередной раз удивиться. Махнув рукой черному внедорожнику, на дверце которого была схематично изображена белая собачья голова, Матвей исчез в машине. Помявшись снаружи, Юша последовал его примеру и сел на заднее сиденье. Они оказались рядом.
Мельком заметив двух людей преступной наружности, один из которых сидел за рулем, а второй перебирал рубиновые четки, глухо стучащие бусинами по двум протезам пальцев, Юша потупился. От такого количества признаков, косвенно указывающих на власть, ему стало немного не по себе.
Многословно приказав подъехать к рынку со стороны Ломоносова, Матвей уставился блестящими глазами в темное окно. То и дело вздрагивая всем телом, он посмеивался себе под нос и курил, совсем не стряхивая пепел. Пепел опадал на брюки, оседал на мягкое кожаное сиденье, на резиновый коврик…
- Знатный у тебя кортеж, - ляпнул Юша, чтобы сказать хоть что-нибудь, и прикусил язык. Но Матвею оказалось достаточно и этого, чтобы возобновить прервавшийся поток речи.
- Ага, как у моего предка-опричника, - весело процедил он сквозь сжатые зубы. Выглядел он крайне сконцентрированным и целеустремленным, но непонятно на чем и непонятно куда, - видел собачью голову на машине, которая за нами едет? Это Руслан придумал, он любит хорошо пошутить, и конкретно эту шутку я оценил, да…
- Точно, ты же рассказывал про опричников… - пробормотал Юша, избегая его деятельного взгляда, и снова замолчал.
В нужный двор они приехали за пять минут. Опережая Матвея, Юша направился к грязно-желтому доходному дому, который в девяностые и нулевые был гостиницей. Теперь он частично вернулся в исходное состояние: номера на первых двух этажах сдавались почасово – обычно проституткам, которые приводили сюда клиентов, а номера третьего этажа превратились в скромные студии, цены на которые тоже были скромными, хоть и из-за неблагоприятного окружения.
Первые два этажа Матвей прошел наравне с Юшей, осоловело пошатываясь. Его лицо утратило жесткую упругость мимики, приобрело пьяный вид, а веки поползли вниз, как у присыпающих. Кое-как преодолев последний лестничный пролет, Матвей обмяк и неумолимо устремился всем телом к полу, но рухнул на Юшино плечо. Чертыхнувшись, тот чуть не упал сам, но удержался на ногах. Обхватив Матвея за талию и закинув его расслабленную руку себе на плечо, Юша нахмурился: «Этого еще не хватало…»
Матвей был в полусознании, но стремительно из него уходил, блаженно бормоча себе под нос - настолько тихо, что нельзя было вычленить даже отдельные звуки. Дотащив его до двери, Юша нашарил в кармане ключи и исчез вместе с добычей в темной квартирке.
Он хлопнул ладонью по выключателю, под потолком забрезжила люстра, и желтовато-синюшный свет вырвал из полумрака серые стены, длинный диван, над которым в ряд висели портреты Мамлеева, Дугина и Сперанской, а потом и широкий письменный стол, на котором стояло неказистое кошачье чучело – уродливое детище неопытного таксидермиста. Над столом виднелся увесистый коровий череп, добела выдержанный в перекиси водорода и напоминающий репродуктивную систему женского организма.
Юша горестно вздохнул, в его лице проступила гримаса неподдельного страдания, и он аккуратно уложил заснувшего Матвея на диван. Руки вытянулись вдоль тела, а одна нога свесилась вниз, стукнув ботинком об пол. Свежесть оказалась скорее эйфоричной, нежели стимулирующей. Матвей пребывал в крепкой дреме и беззвучно шевелил губами, явно созерцая нечто неземное.
- Ну твою мать… – прошипел Юша то ли себе, то ли мерно вздыхающему Матвею, то ли кому-то третьему и невидимому. Он стянул куртку и швырнул её на кресло. На такое Юша не рассчитывал. Матвей поддался безбрежной эйфории и заснул на ходу. Он уже не мог сделать того, чего так хотелось Юше, а хотелось ему активных действий со стороны Матвея, который неожиданно и для него, и для себя превратился в спящее тело.
Когда они только познакомились, Юша разглядел в нем Федора Соннова и проявил свое желание, как ему казалось, деликатно, но достаточно красноречиво. Однако Матвей то ли не понимал его намеков, то ли делал вид, что не понимал, оставаясь угрюмым и задумчивым, погруженным внутрь себя.
С момента их последней встречи прошло два года. Юша подметил, что за это время Матвей приобрел новое глубинное свойство, которое придало его движениям несвойственную прежде жесткость, утяжелило взгляд и наполнило голос уверенностью. Внутреннее наполнение несколько диссонировало с ухоженной, но все же наркоманской наружностью и курносым профилем, создавая легкое ощущение неправильности, пробуждая в Юше странную смесь страха и желания пострадать.
Осторожно подступив к дивану, Юша наклонился над Матвеем, который уже ничего не бормотал, представляя собой совершенно беззащитного человека. При желании его вполне можно было убить, перерезав горло, но убивать его Юша не хотел. Опасливо протянув руку, он коснулся пальцами костистого колена, выступающего под брючной тканью. Пальцы медленно съехали ниже, скользнув по берцовой кости. Юша беззвучно выдохнул и уже с меньшим страхом, откинув край полупальто, переложил руку на бедро Матвея и нащупал сквозь рубашку остов таза. Юша влажно моргнул и улыбнулся. Подрагивающая ладонь мягко коснулась жестких волос, откинув со лба спутавшиеся пряди, скользнула по сухой скуле и легла на острый кадык.
«Надо было прямо в туалете предлагать, пока его крыло… - огорченно подумал Юша. – Теперь он уже ничего не может. Ничего не поделаешь. Придется довольствоваться тем, что есть».
Минет, впрочем, тоже не удался, хотя Юша старался. Свежесть оказалась слишком хорошей: об этом говорили бессознательное состояние Матвея и крайне невразумительный стояк. Скуксившись, Юша застегнул молнию на его брюках и удалился к столу с кошачьим чучелом. Устроившись на стуле, он сложил на столе руки, уронил на них голову и закрыл глаза. Прошло несколько минут, и глубокие вздохи сменились размеренным сопением.
Морок цветастых видений рассеивался, уступая место упорядоченным мыслям и неприятному тусклому свету, который проникал под сомкнутые веки. Матвей открыл глаза, медленно сел, покачивая туловищем, как сомнамбула, и непонимающе осмотрелся. Ему в спину загадочно глядели Мамлеев в желтых очках, бородатый Дугин и улыбающаяся красными губами Сперанская. Возле стола виднелся согбенный, недвижимый силуэт, рядом с которым таращилось в пустоту кошачье чучело. Его морда выражала вполне человеческое недоумение. Над спящим силуэтом Юши белел в полумраке коровий череп.
Матвей задумался, склонив голову вбок. Прищурившись, он злобно уставился на спящего Юшу. Стараясь ступать беззвучно, крадясь, как паук, он преодолел три метра линолеума, которые отделяли его от Юши, и замер над его беззащитным затылком. А потом схватил его за волосы и с силой ударил головой об стол. Слабо вскрикнув, Юша проснулся и вскинул ошарашенное лицо, по которому побежала кровь из носа.
- Больной любитель мертвечины, - процедил Матвей с долей злорадства, вцепившись Юше в волосы и оттянув его голову назад, чтобы тот не мог отвернуться, - ты же мог нормально, как человек, спросить меня, пока я был трезвый. Что тебе мешало так поступить? За неимением смерти любишь ее суррогаты?
- Трезвым ты бы не согласился… - пробормотал Юша дрожащими губами.
- Да, я бы отказал, зато были бы соблюдены нормы приличия. Ты прекрасно знаешь, что мне нравятся женщины, и за два года ничего не изменилось.
Юша моргнул и вдруг улыбнулся окровавленным ртом:
- Мне редко встречаются убийцы вроде тебя. Я не мог упустить такой шанс.
- Да полный Питер таких убийц, выбирай любого, - тихо засмеялся Матвей, и это был недобрый смех, - чего ты на мне зациклился? До сих пор ничего не остыло?
- Почему ты так грубо со мной разговариваешь? – отчаянным полушепотом спросил Юша, вздрогнув всем телом. Он снова моргнул и плаксиво искривился.
- Ты в тюрьме совсем башкой поехал, тебя к живым людям подпускать нельзя. К мертвым, наверное, тоже.
- Чего ты так взъелся? – распахнул глаза Юша в искреннем удивлении. – Все равно анатомически не было никакой разницы!
- Федор Соннов, говоришь… - протянул Матвей, из последних сил сдерживая гнев, приберегая его для последнего порыва. – Будет тебе Федор Соннов. Прямо сейчас.
Юша машинально рванулся со стула, но отскочить не успел. Стащив его на пол, Матвей навалился сверху и сдавил его горло пальцами. Юша нечленораздельно хрипел, хаотично размахивал руками и пытался выползти из-под Матвея, но глаза закатывались всё сильнее, а хрип терял остроту и силу. Матвей видел прямо перед собой краснеющее от удушья лицо и глаза, из которых уходила осознанность. До него дошло, что он делает.
Разжав пальцы, он рывком вскочил и отшатнулся. Надрывно откашливаясь, Юша попытался встать, но не устоял на подкосившихся ногах и бессильно рухнул на колени. Бледный ужас на его лице сменился несмелой улыбкой, и Юша издал смешок, полный искренней радости. Сбитый с толку его неадекватными реакциями, Матвей не мог сдвинуться с места. Юша схватил его за запястье и силой поцеловал ему руку. Матвей дернулся назад и вырвал руку – так резко, словно её ошпарило кипятком.
- Скажи спасибо, что я не убил тебя, поехавший маньяк! – сдавленно выкрикнул Матвей, проворно отступая к двери. Он принял не самое мужественное, но единственно верное решение - спастись из нехорошей квартиры бегством. В свое время он читал много историй про сталкеров и знал, что фанатичная преданность, встретившая отказ, имеет свойство обращаться в настолько же фанатичную ненависть.
Бегом спустившись по лестнице, он выскочил из парадной – в холодные вихри белой вьюги, усилившегося дождя и невыносимого ветра, за мельтешением которых проступала страшная, густая тьма. Матвей скорым шагом направлялся к машине, а ужасный, невыносимый ветер дул в спину и с жуткой силой подталкивал вперед. Ему было нехорошо. Хотелось упасть в снег и никуда не идти. Но Матвей шел, не разбирая дороги, ступая по луже, в которой отражалась вывеска алкомаркета. За широкой белой полосой, подрагивающей на поверхности воды, следовала красная, а дальше начиналась чернота.
Ботинок неудачно скользнул по наледи, и Матвей, не удержав равновесие, рухнул на бок. Белое, красное и черное содрогнулось, рассыпавшись на подрагивающие сегменты отраженного света. Быстро поднявшись, будто за ним кто-то гнался, Матвей наконец добрался до машины и ввалился в ее теплое нутро.
- Всё в порядке? – повернулся к нему Миша. Вопрос прозвучал риторически: сложно было не догадаться, что произошло нечто нехорошее.
- У меня был тяжелый день, - сбивчиво ответил Матвей, - мне плохо, я хочу домой. Гена, вези меня домой. У меня нервы не выдерживают, я очень устал…
За черным фильтром окна скользили бурые сугробы, свистящие вихри, которые подбрасывали снежную крупу и стылые капли, а острые сосульки неприятно мерцали в темноте новогодней иллюминации. Матвей молчал. Что-то зрело в нём.
«Кого я изображаю? – потерянно размышлял он, глядя сквозь промозглый петербургский пейзаж. – Точнее, кого я изображаю? Матвея Грязева или Герыча? И кто из них первичен теперь?»
Глава 16
Суд
Суд
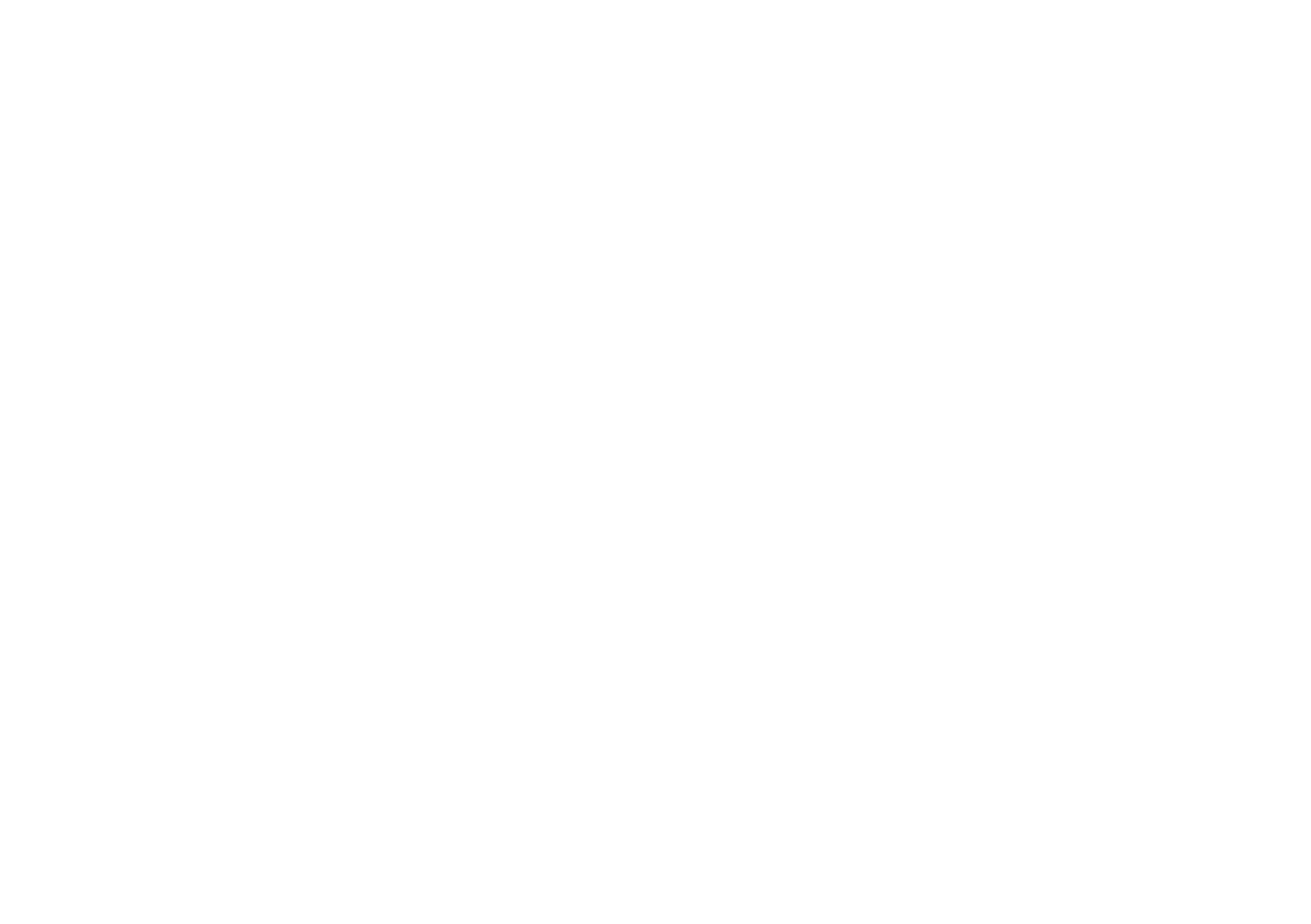
Ребенок находится на берегу реки и смотрит, как течет время. То, что с ним произошло или произойдет, его мало волнует. У него только одно желание: реализовать свои мечты здесь и сейчас.
Дугпа Ринпоче, «Жизненные наставления далай-ламы»
Дугпа Ринпоче, «Жизненные наставления далай-ламы»
апрель, 2032 год
Матвей неспешно пережевывал сыроватую говядину, а в поле зрения находилась белая тарелка со стейком, сочащимся мясным соком, зеленым соусом непонятного состава и арепой – круглой кукурузной лепешкой. На веранде кафе, со всех сторон оплетенной зеленью и разноцветьем бутонов, играла жизнелюбивая музыка, и из всех слов певца Матвей понимал только три: «сердце», «сомбреро» и «завтра». В душистой гуще листьев свистели невидимые птицы, а снаружи дышал солнцем горячий воздух.
На тарелку с едой упала тень, и Матвей неохотно поднял взгляд. Прямо перед столом стоял смуглый подросток с печальными глазами жеребенка, а на его шее висел деревянный лоток, где были разложены сигареты и жвачки. Подросток смотрел на Матвея с немым, но очевидным вопросом, явно понимая, что обращаться к белому туристу по-испански бесполезно. Зажатость движений выдавала в нем типичного беженца из Венесуэлы: последние несколько лет они бежали от голода в соседнюю Колумбию, но официальную работу найти не могли, поэтому шли в проститутки, лоточники и пушеры. Лоточники часто оказывались еще и пушерами, так что разграничивать их было вовсе не обязательно.
Матвей впервые проводил отпуск в Медельине, куда прилетел неделю назад, однако ему сразу бросилось в глаза сильное сходство со странами СНГ. Нюанс заключался лишь в том, что по странам СНГ нищета была плавно размазана, как кусочек масла по корке хлеба – от центра к периферии. На второй день отпуска Матвей прогуливался с фотоаппаратом по Эль Побладо - фешенебельному району, где селились богатые белые туристы. Миновав шоппинг-молл, на парковке которого Матвей заметил сразу несколько тонированных «геленвагенов», в одном из бутиков которого продавались по баснословным ценам часы – такие же он носил на левой руке, он вышел на узкую улицу, уходящую на восток и вниз, и уже через двадцать минут понял, что идет куда-то не туда. Полицейских стало заметно меньше, попрошаек с младенцами и бомжей – гораздо больше, а в воздухе запахло лежалым мусором. В этом отношении Колумбия была утрированным вариантом СНГ – с такой же пропастью между богатыми и бедными, но подсвеченной куда сильнее.
Матвей понимал, почему многие из его круга едут отдыхать именно сюда, и дело было не только в дешевом и качественном кокаине. Благодаря местным ценам, выигрышному курсу валют и наличию денег, можно было тратиться, не планируя расходы вообще, и ощущать себя независимым драглордом, который покупает полицейских чинов со всеми потрохами, а вовсе не наоборот. Естественно, не забредая при этом в фавелы. Так что в худшую часть города Матвей на всякий случай не ходил.
Вынырнув из вороха ассоциаций, потянувшихся друг за другом, как звенья бумажной гирлянды, Матвей посмотрел на подростка с лотком и молча помотал головой. Подросток моргнул жеребячьими глазами и направился к другому столику, где обедала моложавая супружеская пара. Макнув в зеленый соус кусок стейка, Матвей отправил его в рот и покосился на подростка, который бодро окучивал предполагаемых покупателей.
Ему вспомнилась биография Пабло Эскобара, который в отрочестве тоже был лоточником и торговал папиросами. Наверняка в те годы он не обладал таким грозным видом, потому что за ним еще не волочился кровавый шлейф. Шлейф нарос с рэкетом, угонами автомобилей, похищениями и масштабной торговлей кокаином.
На прошлой неделе Матвею довелось побывать в Гуатапе – небольшом городке, над которым черным монолитом возвышалась одинокая скала. Его сопровождал англоговорящий гид – иранец, родившийся в Америке и переехавший в Колумбию. Показав и скалу, и Гуатапе, предприимчивый гид предложил купить лодочную прогулку по озеру, и Матвей согласился. Видавшая виды лодка лавировала между островами, которые собирались в озерный кластер, преклонных лет лодочник – морщинистый, очень бронзовый от загара, хрипящий гортанью курильщика – рассказывал о виллах, которые были рассыпаны по зеленеющим островам, а гид переводил. В лицо то и дело били, ударяясь об стекла темных очков, прохладно оседая на коже, крупные брызги волн.
- Это дом, в котором жил Пабло Эскобар, - сказал гид, когда лодка проплывала мимо пологого берега, на верхней точке которого начиналась некогда белая, покрытая копотью вилла с гладкой спиралью внешней лестницы. Потемневшие стены пестрели граффити, а в зарослях сорняков фиолетовыми искрами горели мелкие цветки вьюна.
- А это дом, который Эскобар подарил своей матери, - добавил гид и указал рукой на виллу поменьше, которая находилась в отдалении и была ветхой, но всё же не такой изуродованной. Следующие пять минут Матвею показывали дома, принадлежавшие когда-то Эскобару, его сподвижникам, подчиненным группировкам и родному брату, который благополучно Эскобара пережил.
Когда количество домов дошло до пяти, Матвей перестал считать. Ему представился маленький мальчик Пабло, который провел детство в фавелах и с самого детства мечтал о большом доме для своей семьи, в частности, для матери. Видимо, повзрослев и неприлично разбогатев, мальчик Пабло поддался гиперкомпенсации, характерной для людей, вышедших из бедноты, и решил не мелочиться.
Проплывая мимо острова со скромным рыжеватым домом, который тонул в острой листве папоротника, лодочник заговорил, а гид проворно перевел:
- Это дом-музей Пабло Эскобара.
«Действительно, стоило становиться наркобароном, чтобы в твою честь открыли дом-музей», - подумал Матвей, поправляя очки и отстраненно вслушиваясь в непонятную речь хриплого лодочника.
- Он говорит, что как-то обедал с Эскобаром, - проговорил гид, кивком головы указывая на лодочника, который не понимал по-английски, - наверное, он в молодости на него работал.
Матвей удивленно взглянул на лодочника. Тот выглядел очень старым, а рассказ вел с такой осведомленностью, что догадка гида вполне могла быть правдой. В том, что старый испанец, будучи молодым, катал на лодке помощников кокаинового наркобарона, а в преклонном возрасте стал катать туристов по местам, где этот наркобарон когда-то жил до самого затухания своей славы, была немалая ирония.
Насколько Матвей знал, низший класс и откровенные маргиналы, которых не коснулись образование и биржа труда, до сих пор относились к Эскобару положительно. Их главным аргументом был тот факт, что поднявшийся Эскобар бесплатно выстраивал целые кварталы – специально для необеспеченных слоев населения, потому что не понаслышке знал, в чем они варятся с самого рождения. Матвей понимал логику этих рассуждений. Непросто думать о морали, когда находишься под пирамидой Маслоу.
Стряхнув с себя раздумья, он доел стейк и отправился в отель – пережидать жаркий, душный, липкий полдень. Между высокими деревьями, которые врезались в ровный асфальт жирными извилистыми корнями, порхали красные кардиналы, напоминающие рубиновые вспышки на голубом полотне. Из глубины густых крон, с веток которых свисали коричневые космы тонких корней, доносились заливистые трели, а улица, идущая с севера на юг, сверкала зеркальной облицовкой небоскребов.
Прикорнув, Матвей проспал до вечерней темноты и отправился в парк, со всех сторон окруженный узкими улочками, на которых теснились многочисленные бары. Нужно было организовать ночной досуг. Каждый раз, когда Матвей сюда приходил, его не покидало чувство, что он волею случая попал в нулевые, которые по понятным причинам не застал. Закладки в Медельине популярностью не пользовались, здесь до сих пор был в почете непосредственный контакт, и поначалу Матвею было дискомфортно вести диалог, платить наличными и получать кокаин прямо в руки.
А кокаин был отменным: стоил примерно три тысячи рублей, имел резкий химически-свежий запах и легко размазывался между подушечками пальцев, превращаясь в бесцветный жир, чем не мог похвастать аптечный бутор. Полиции в парке хватало, но между ними и пушерами существовал негласный договор. Полиция не мешала пушерам и белым туристам, которых они отоваривали, потому что эти самые белые туристы тратились и на многое другое, пополняя за счет туризма государственную казну. А даже если мешали, можно было откупиться за пятьдесят долларов. В таком случае полиция могла даже не отобрать у скучающего туриста кокаин. Учитывая бушующие в конце двадцатого века нарковойны, для Колумбии сложившийся расклад был меньшим из зол.
В Медельине всё было наоборот. Можно было не искать дилеров, а просто прийти в наиболее злачный парк Эль Побладо, и они начинали подходить сами. Всех встретившихся дилеров Матвей мог поделить на два типажа: осторожные старики и наглые молодые люди. Старики, которые для маскировки ходили с деревянными лоточками, как бы невзначай проходили мимо потенциального клиента, бубня себе под нос слово «кокаин». Если предположение старика оказывалось верным, клиент поворачивал, следовал за ним, и сделка совершалась. Молодые парни, вид которых был весьма стереотипным, не всегда маскировались под лоточников, подходили более открыто и предлагали тоже более открыто.
Матвей неспешно прогуливался по прилежащей к парку улице, конец которой тонул в теплой вечерней темноте. По асфальту стелились багровые мазки неоновой вывески, а в отдалении мажорно лязгала музыка.
- Hey, man, la cocaina, - весьма решительно произнес юноша, выступивший из тени арки, которая вела в пустующее патио. Чуть не шарахнувшись назад от испуга, Матвей окинул его взглядом. Одет он был, конечно же, в толстовку с капюшоном, которая лишь добавляла ему подозрительности, а в целом он представлял собой негативную копию Матвея: темные волосы и смуглая кожа сопровождались несуразным тощим туловищем и неприветливым взглядом.
- How much? – спросил Матвей, немного успокоившись.
- Sixty thousands.
Если в магазинах Матвею приходилось объясняться через гугл-переводчик, потому что не везде персонал говорил по-английски, то дилеры проявляли удивительную клиентоориентированность – они знали самое необходимое: базовые фразы и цифры. Изъяснялись они на упрощенной смеси английского и испанского, которая была понятна обеим сторонам.
- Uno, - угрюмо сказал Матвей, осмотрев улицу на предмет полицейских. Таковых не нашлось.
- Dos, - так же угрюмо возразил дилер, - dos. Pure. Hundred thousands.
Снова узнав в нем себя, Матвей нахмурился: ему был знаком этот простой, не самый честный, но весьма действенный прием. Было ясно наверняка, что насчет чистоты дилер привирает. Еще было ясно, что он прекрасно понимает: Матвей, по лицу которого можно было составить хронологию его наркозависимости, не откажется от второго грамма и точно купит.
Передав деньги, Матвей забрал два зиплока, на одном из которых виднелась наклейка в виде желтого смайлика, поймал такси и поехал в отель. Подозрения, конечно же, оправдались с лихвой: один грамм вообще ничем не пах и никакого эффекта не оказывал, а второй был немногим лучше.
«Вот же скотина», - с легкой досадой подумал Матвей. Вызвав такси, он поехал обратно в парк. На этот раз он равнодушно прошел мимо всех молодых и заговорил с отрешенным пожилым лоточником, который взял деньги и повел Матвея на близлежащую безлюдную улочку. Наклонившись к клумбе, над которой покачивались бутоны фиолетовых ирисов, лоточник запустил скрюченные пальцы в почву. Отдав Матвею спрятанный зиплок, он непринужденно направился дальше по своему извилистому маршруту.
В поисках такси Матвей пошел к парку. Ночной воздух благоухал цветением, острые пальмовые листья разрезали темно-синее звездное небо, а вокруг играла полная надежды музыка. Матвей понимал только три слова: «сердце», «сомбреро» и «завтра».
На следующий день ему прислала сообщение Вероника Николаевна, которая два месяца как вернулась в Офтонь, потому что перестала нуждаться в помощи Матвея и оставаться в Петербурге ей было незачем. Сообщение было лаконичным: «Твоя мама умерла вчера от инфаркта, похороны послезавтра. Возможно, ты захочешь приехать».
Сонный Матвей, которого сигнал сообщения выдернул из-под легкого одеяла, мучительно сопоставил даты. Даже если бы он хотел попасть на похороны, то в любом случае не успел бы – череда транзитных перелетов отнимала почти трое суток. Но попасть на девять дней было вполне реально.
В последние дни его отпуска начался сезон дождей. Когда такси везло Матвея в аэропорт, хлесткие потоки дождя затапливали улицы, а в пасмурном небе едва уловимо виднелись темно-дымные движущиеся столбы. На приборной панели такси тускло мерцала фигурка Девы Марии. То и дело на неё падали неживые отблески светофоров – малиновые, янтарные, серовато-зеленые. Золотой ореол вокруг её тела делился на толстые извилистые лучи, которые походили на щупальца лавкрафтовских чудовищ.
***
- Тебе тогда не понравилась идея с китайцем, поэтому я скорректировала план под твои непосредственные нужды, - произнесла Соня быстро и воодушевленно, обдав Родю облаком пара. Её тонкий палец, увенчанный накладным ногтем – заостренным, выпуклым, имитирующим фактурой янтарь, лежал на кнопке электронной сигареты, чья металлическая поверхность отливала перламутром. Родя вяло махнул рукой, разгоняя пар - запах был неприятно бальзамическим, но не отодвинулся. В левой руке Соня держала раскрытый красный зонт, который защищал их от града, дробно сыплющегося на золото и мрамор Исаакиевского собора, на несмело зеленеющий сквер, почуявший приход весны, на дуб, раскинувший ветви, которые наливались примитивной жизнью…
Спустя несколько месяцев Соня решила вновь заговорить о деньгах, которые пока им не принадлежали, и позвала Родю - видимо, ради драматизма - туда, где прошла и неудачно завершилась их первая беседа. Они сидели на той же скамье, а погода была ничуть не лучше. Поминутно вздымался холодный ветер, неуклонно проникая под черный плащ Сони и синюю ветровку Роди.
- Не пари на меня этой гадостью, - поморщился он, словно укусил лимон, - и я уже сказал, что не хочу никого…
- Дослушай, пожалуйста, до конца. Тебе понравится. Я уверена, - перебила его Соня, сопроводив конец фразы язвительной ухмылкой. То ли холодно-сиреневые губы придавали её выражению лица легкое злорадство, то ли она действительно затаенно злорадствовала, как и в прошлый раз. Родя скептически вскинул бровь, однако Соня говорила так, словно была уверена в успехе, так что он решил её выслушать. Не то что бы он планировал соглашаться даже на измененный план, но пересилило зарождающееся любопытство.
- Надо хлопнуть Мотю, - серьезно произнесла Соня, глядя на него в упор. Не ожидавший услышать такое предложение, Родя вскинул брови – уже не скептически.
- Кого?! – сдавленно воскликнул он.
- Мотю.
- Ты совсем больная, да? – укоряюще посмотрел он на неё. – Жить надоело? Ты же сама говорила, что он мусорской!
Бесспорно, Родя питал к Герычу искреннюю ненависть, его раздражало всё: и волнистые волосы, и гладко выбритое лицо, и – особенно – до гадливости аккуратная одежда. Если бы существовала возможность, Родя с удовольствием поломал бы ему пару ребер, но убивать его он определенно был не готов.
- Я всё разузнала. Он торгует быстрыми и героином, а сам кокс нюхает и кодеин жрет, - восторженно затараторила Соня, не замечая его кислого лица, - у него вроде как мигрень вылезла, ха-ха… Знаешь, сколько он платит невскому синдикату, чтобы его не трогали? Пять лямов. И ему еще остается на аренду дорогой хаты, путешествия и чистый кокс. Тебе не кажется, что это какой-то несправедливый расклад? У него в квартире, конечно, навороченный сейф, но мы-то знаем, как его разговорить.
- Ага, и потом нас в Неве утопят. Охеренный план.
- Поверь мне, он тот еще лошок, постоянно мне в долг продавал. Не думаю, что его придется долго колоть. Смелый он только под коксом, и запугать его очень легко. Он слишком трясется за свою шкуру, чтобы геройствовать. Нападать он горазд, а ответной агрессии боится. Мы с ним когда-то в одной коммуналке жили. Я его знаю, как облупленного.
- А менты, которым он платит, нам шеи свернут, - горько усмехнулся Родя, - как Герыч вообще касается моих нужд?
- Самым непосредственным образом, - начала Соня елейно-нежным тоном, растягивая слова и отдаляя кульминационный момент, на который она так надеялась, - знаешь ли, у Жарова нет семьи, но есть стремление… У него пятеро деток. Не кровных деток, зато очень ценных. Он ими дорожит, а они работают на него и до жути его боятся. А наш бедный Мотя… один из любимчиков Жарова.
- Да ладно? – округлил глаза Родя. Он замер и замолчал – сомневаясь, но внутренне готовясь заглотить брошенный крючок. Замысел, дремавший в его голове с похорон Кирилла и резонансного судебного разбирательства, связанного с моряками, контрабандой кокаина и Кабо-Верде, обретал зыбкую плоть.
- Конечно, до Жарова тебе никогда не добраться, а вот попортить шкурку его протеже – лучше, чем ничего, - сказала Соня и выдохнула еще одно облако молочно-белого пара, - говорят, Жаров недавно поставил его на героиновый склад. Как тебе такое?
- Этого нескладного дылду? – отупело смотрел на нее Родя.
- По виду не скажешь, да? На склад лезть бесполезно, там только встречи проводят и ничего не хранят. Нам нужны деньги из его сейфа.
- А с Герычем что делать? – с опаской спросил он. Соня промолчала и красноречиво перечеркнула янтарным ногтем собственное горло. Он тихо проговорил:
- Откуда ты вообще всё это знаешь?
- Социальная инженерия. Его быки в сауне ляпают лишнее. Когда его труп найдут, мы будем уже в Финке. Оттуда поедем в Грузию и осядем в тихих местах. Там невские нас не достанут. Мотя ведь не Эскобар, чтобы так ради него стараться.
Без спроса взяв у неё сигарету, Родя уставился перед собой и затянулся паром. Металл неприятно холодил пальцы. Идея, предложенная Соней, порожденная скорее мефедроном, нежели трезвым расчетом, звучала просто ужасно, но количество предполагаемых нулей и возможность косвенно ударить по полковнику Жарову перевешивали её ужас. Естественно, существовала вероятность, что смерть Герыча не вызовет у Жарова особых эмоций. Насколько он знал, Жаров без колебаний избавлялся от дилеров, которые работали на него, нарушая изначальную кабальную договоренность. Однако Герыч до сих пор жил, значит, был на хорошем счету, и в таком случае Жаров мог проникнуться его смертью – хотя бы ненадолго. Вдогонку к этим соображениям возникла еще одна мысль. Не менее многообещающая. Мельком подумав её, Родя умиротворенно улыбнулся.
- Я в деле, - твердо посмотрел он на Соню, вернув ей сигарету. Соня ответила ему маньяческой ухмылкой – даже излишне маньяческой. У него заныло в солнечном сплетении, но он отогнал это чувство.
- Знаешь что… - задумчиво протянула она. - Сегодня вечером нужно хорошенько поскандалить. Побьем посуду, подеремся в подъезде… Чтобы всем стало ясно, насколько разладились наши отношения. Разрешаю даже поорать про мое блядство, которое так тебя бесит.
- Проще простого.
- Поживешь остаток времени у себя. Мотя каждый четверг ходит к одной бабе. В одно и то же время, в семь вечера. Через два часа возвращается домой.
- Как удачно-то, - хмыкнул Родя, - хороший барыга – мертвый барыга, да?
- Именно, Романов! – в упоении прошептала Соня, резким порывом придвинувшись к его лицу. В её немигающих глазах огненно-ртутными искрами отражался уличный фонарь, который зажегся, отреагировав на приближающиеся сумерки. Родя видел перед собой патологическую улыбку, которая могла бы вызвать научный интерес у Ломброзо, отвечал Соне тем же и кожей ощущал её сухое дыхание. Судьба Матвея Грязева стала для них определенной.
Матвей неспешно пережевывал сыроватую говядину, а в поле зрения находилась белая тарелка со стейком, сочащимся мясным соком, зеленым соусом непонятного состава и арепой – круглой кукурузной лепешкой. На веранде кафе, со всех сторон оплетенной зеленью и разноцветьем бутонов, играла жизнелюбивая музыка, и из всех слов певца Матвей понимал только три: «сердце», «сомбреро» и «завтра». В душистой гуще листьев свистели невидимые птицы, а снаружи дышал солнцем горячий воздух.
На тарелку с едой упала тень, и Матвей неохотно поднял взгляд. Прямо перед столом стоял смуглый подросток с печальными глазами жеребенка, а на его шее висел деревянный лоток, где были разложены сигареты и жвачки. Подросток смотрел на Матвея с немым, но очевидным вопросом, явно понимая, что обращаться к белому туристу по-испански бесполезно. Зажатость движений выдавала в нем типичного беженца из Венесуэлы: последние несколько лет они бежали от голода в соседнюю Колумбию, но официальную работу найти не могли, поэтому шли в проститутки, лоточники и пушеры. Лоточники часто оказывались еще и пушерами, так что разграничивать их было вовсе не обязательно.
Матвей впервые проводил отпуск в Медельине, куда прилетел неделю назад, однако ему сразу бросилось в глаза сильное сходство со странами СНГ. Нюанс заключался лишь в том, что по странам СНГ нищета была плавно размазана, как кусочек масла по корке хлеба – от центра к периферии. На второй день отпуска Матвей прогуливался с фотоаппаратом по Эль Побладо - фешенебельному району, где селились богатые белые туристы. Миновав шоппинг-молл, на парковке которого Матвей заметил сразу несколько тонированных «геленвагенов», в одном из бутиков которого продавались по баснословным ценам часы – такие же он носил на левой руке, он вышел на узкую улицу, уходящую на восток и вниз, и уже через двадцать минут понял, что идет куда-то не туда. Полицейских стало заметно меньше, попрошаек с младенцами и бомжей – гораздо больше, а в воздухе запахло лежалым мусором. В этом отношении Колумбия была утрированным вариантом СНГ – с такой же пропастью между богатыми и бедными, но подсвеченной куда сильнее.
Матвей понимал, почему многие из его круга едут отдыхать именно сюда, и дело было не только в дешевом и качественном кокаине. Благодаря местным ценам, выигрышному курсу валют и наличию денег, можно было тратиться, не планируя расходы вообще, и ощущать себя независимым драглордом, который покупает полицейских чинов со всеми потрохами, а вовсе не наоборот. Естественно, не забредая при этом в фавелы. Так что в худшую часть города Матвей на всякий случай не ходил.
Вынырнув из вороха ассоциаций, потянувшихся друг за другом, как звенья бумажной гирлянды, Матвей посмотрел на подростка с лотком и молча помотал головой. Подросток моргнул жеребячьими глазами и направился к другому столику, где обедала моложавая супружеская пара. Макнув в зеленый соус кусок стейка, Матвей отправил его в рот и покосился на подростка, который бодро окучивал предполагаемых покупателей.
Ему вспомнилась биография Пабло Эскобара, который в отрочестве тоже был лоточником и торговал папиросами. Наверняка в те годы он не обладал таким грозным видом, потому что за ним еще не волочился кровавый шлейф. Шлейф нарос с рэкетом, угонами автомобилей, похищениями и масштабной торговлей кокаином.
На прошлой неделе Матвею довелось побывать в Гуатапе – небольшом городке, над которым черным монолитом возвышалась одинокая скала. Его сопровождал англоговорящий гид – иранец, родившийся в Америке и переехавший в Колумбию. Показав и скалу, и Гуатапе, предприимчивый гид предложил купить лодочную прогулку по озеру, и Матвей согласился. Видавшая виды лодка лавировала между островами, которые собирались в озерный кластер, преклонных лет лодочник – морщинистый, очень бронзовый от загара, хрипящий гортанью курильщика – рассказывал о виллах, которые были рассыпаны по зеленеющим островам, а гид переводил. В лицо то и дело били, ударяясь об стекла темных очков, прохладно оседая на коже, крупные брызги волн.
- Это дом, в котором жил Пабло Эскобар, - сказал гид, когда лодка проплывала мимо пологого берега, на верхней точке которого начиналась некогда белая, покрытая копотью вилла с гладкой спиралью внешней лестницы. Потемневшие стены пестрели граффити, а в зарослях сорняков фиолетовыми искрами горели мелкие цветки вьюна.
- А это дом, который Эскобар подарил своей матери, - добавил гид и указал рукой на виллу поменьше, которая находилась в отдалении и была ветхой, но всё же не такой изуродованной. Следующие пять минут Матвею показывали дома, принадлежавшие когда-то Эскобару, его сподвижникам, подчиненным группировкам и родному брату, который благополучно Эскобара пережил.
Когда количество домов дошло до пяти, Матвей перестал считать. Ему представился маленький мальчик Пабло, который провел детство в фавелах и с самого детства мечтал о большом доме для своей семьи, в частности, для матери. Видимо, повзрослев и неприлично разбогатев, мальчик Пабло поддался гиперкомпенсации, характерной для людей, вышедших из бедноты, и решил не мелочиться.
Проплывая мимо острова со скромным рыжеватым домом, который тонул в острой листве папоротника, лодочник заговорил, а гид проворно перевел:
- Это дом-музей Пабло Эскобара.
«Действительно, стоило становиться наркобароном, чтобы в твою честь открыли дом-музей», - подумал Матвей, поправляя очки и отстраненно вслушиваясь в непонятную речь хриплого лодочника.
- Он говорит, что как-то обедал с Эскобаром, - проговорил гид, кивком головы указывая на лодочника, который не понимал по-английски, - наверное, он в молодости на него работал.
Матвей удивленно взглянул на лодочника. Тот выглядел очень старым, а рассказ вел с такой осведомленностью, что догадка гида вполне могла быть правдой. В том, что старый испанец, будучи молодым, катал на лодке помощников кокаинового наркобарона, а в преклонном возрасте стал катать туристов по местам, где этот наркобарон когда-то жил до самого затухания своей славы, была немалая ирония.
Насколько Матвей знал, низший класс и откровенные маргиналы, которых не коснулись образование и биржа труда, до сих пор относились к Эскобару положительно. Их главным аргументом был тот факт, что поднявшийся Эскобар бесплатно выстраивал целые кварталы – специально для необеспеченных слоев населения, потому что не понаслышке знал, в чем они варятся с самого рождения. Матвей понимал логику этих рассуждений. Непросто думать о морали, когда находишься под пирамидой Маслоу.
Стряхнув с себя раздумья, он доел стейк и отправился в отель – пережидать жаркий, душный, липкий полдень. Между высокими деревьями, которые врезались в ровный асфальт жирными извилистыми корнями, порхали красные кардиналы, напоминающие рубиновые вспышки на голубом полотне. Из глубины густых крон, с веток которых свисали коричневые космы тонких корней, доносились заливистые трели, а улица, идущая с севера на юг, сверкала зеркальной облицовкой небоскребов.
Прикорнув, Матвей проспал до вечерней темноты и отправился в парк, со всех сторон окруженный узкими улочками, на которых теснились многочисленные бары. Нужно было организовать ночной досуг. Каждый раз, когда Матвей сюда приходил, его не покидало чувство, что он волею случая попал в нулевые, которые по понятным причинам не застал. Закладки в Медельине популярностью не пользовались, здесь до сих пор был в почете непосредственный контакт, и поначалу Матвею было дискомфортно вести диалог, платить наличными и получать кокаин прямо в руки.
А кокаин был отменным: стоил примерно три тысячи рублей, имел резкий химически-свежий запах и легко размазывался между подушечками пальцев, превращаясь в бесцветный жир, чем не мог похвастать аптечный бутор. Полиции в парке хватало, но между ними и пушерами существовал негласный договор. Полиция не мешала пушерам и белым туристам, которых они отоваривали, потому что эти самые белые туристы тратились и на многое другое, пополняя за счет туризма государственную казну. А даже если мешали, можно было откупиться за пятьдесят долларов. В таком случае полиция могла даже не отобрать у скучающего туриста кокаин. Учитывая бушующие в конце двадцатого века нарковойны, для Колумбии сложившийся расклад был меньшим из зол.
В Медельине всё было наоборот. Можно было не искать дилеров, а просто прийти в наиболее злачный парк Эль Побладо, и они начинали подходить сами. Всех встретившихся дилеров Матвей мог поделить на два типажа: осторожные старики и наглые молодые люди. Старики, которые для маскировки ходили с деревянными лоточками, как бы невзначай проходили мимо потенциального клиента, бубня себе под нос слово «кокаин». Если предположение старика оказывалось верным, клиент поворачивал, следовал за ним, и сделка совершалась. Молодые парни, вид которых был весьма стереотипным, не всегда маскировались под лоточников, подходили более открыто и предлагали тоже более открыто.
Матвей неспешно прогуливался по прилежащей к парку улице, конец которой тонул в теплой вечерней темноте. По асфальту стелились багровые мазки неоновой вывески, а в отдалении мажорно лязгала музыка.
- Hey, man, la cocaina, - весьма решительно произнес юноша, выступивший из тени арки, которая вела в пустующее патио. Чуть не шарахнувшись назад от испуга, Матвей окинул его взглядом. Одет он был, конечно же, в толстовку с капюшоном, которая лишь добавляла ему подозрительности, а в целом он представлял собой негативную копию Матвея: темные волосы и смуглая кожа сопровождались несуразным тощим туловищем и неприветливым взглядом.
- How much? – спросил Матвей, немного успокоившись.
- Sixty thousands.
Если в магазинах Матвею приходилось объясняться через гугл-переводчик, потому что не везде персонал говорил по-английски, то дилеры проявляли удивительную клиентоориентированность – они знали самое необходимое: базовые фразы и цифры. Изъяснялись они на упрощенной смеси английского и испанского, которая была понятна обеим сторонам.
- Uno, - угрюмо сказал Матвей, осмотрев улицу на предмет полицейских. Таковых не нашлось.
- Dos, - так же угрюмо возразил дилер, - dos. Pure. Hundred thousands.
Снова узнав в нем себя, Матвей нахмурился: ему был знаком этот простой, не самый честный, но весьма действенный прием. Было ясно наверняка, что насчет чистоты дилер привирает. Еще было ясно, что он прекрасно понимает: Матвей, по лицу которого можно было составить хронологию его наркозависимости, не откажется от второго грамма и точно купит.
Передав деньги, Матвей забрал два зиплока, на одном из которых виднелась наклейка в виде желтого смайлика, поймал такси и поехал в отель. Подозрения, конечно же, оправдались с лихвой: один грамм вообще ничем не пах и никакого эффекта не оказывал, а второй был немногим лучше.
«Вот же скотина», - с легкой досадой подумал Матвей. Вызвав такси, он поехал обратно в парк. На этот раз он равнодушно прошел мимо всех молодых и заговорил с отрешенным пожилым лоточником, который взял деньги и повел Матвея на близлежащую безлюдную улочку. Наклонившись к клумбе, над которой покачивались бутоны фиолетовых ирисов, лоточник запустил скрюченные пальцы в почву. Отдав Матвею спрятанный зиплок, он непринужденно направился дальше по своему извилистому маршруту.
В поисках такси Матвей пошел к парку. Ночной воздух благоухал цветением, острые пальмовые листья разрезали темно-синее звездное небо, а вокруг играла полная надежды музыка. Матвей понимал только три слова: «сердце», «сомбреро» и «завтра».
На следующий день ему прислала сообщение Вероника Николаевна, которая два месяца как вернулась в Офтонь, потому что перестала нуждаться в помощи Матвея и оставаться в Петербурге ей было незачем. Сообщение было лаконичным: «Твоя мама умерла вчера от инфаркта, похороны послезавтра. Возможно, ты захочешь приехать».
Сонный Матвей, которого сигнал сообщения выдернул из-под легкого одеяла, мучительно сопоставил даты. Даже если бы он хотел попасть на похороны, то в любом случае не успел бы – череда транзитных перелетов отнимала почти трое суток. Но попасть на девять дней было вполне реально.
В последние дни его отпуска начался сезон дождей. Когда такси везло Матвея в аэропорт, хлесткие потоки дождя затапливали улицы, а в пасмурном небе едва уловимо виднелись темно-дымные движущиеся столбы. На приборной панели такси тускло мерцала фигурка Девы Марии. То и дело на неё падали неживые отблески светофоров – малиновые, янтарные, серовато-зеленые. Золотой ореол вокруг её тела делился на толстые извилистые лучи, которые походили на щупальца лавкрафтовских чудовищ.
***
- Тебе тогда не понравилась идея с китайцем, поэтому я скорректировала план под твои непосредственные нужды, - произнесла Соня быстро и воодушевленно, обдав Родю облаком пара. Её тонкий палец, увенчанный накладным ногтем – заостренным, выпуклым, имитирующим фактурой янтарь, лежал на кнопке электронной сигареты, чья металлическая поверхность отливала перламутром. Родя вяло махнул рукой, разгоняя пар - запах был неприятно бальзамическим, но не отодвинулся. В левой руке Соня держала раскрытый красный зонт, который защищал их от града, дробно сыплющегося на золото и мрамор Исаакиевского собора, на несмело зеленеющий сквер, почуявший приход весны, на дуб, раскинувший ветви, которые наливались примитивной жизнью…
Спустя несколько месяцев Соня решила вновь заговорить о деньгах, которые пока им не принадлежали, и позвала Родю - видимо, ради драматизма - туда, где прошла и неудачно завершилась их первая беседа. Они сидели на той же скамье, а погода была ничуть не лучше. Поминутно вздымался холодный ветер, неуклонно проникая под черный плащ Сони и синюю ветровку Роди.
- Не пари на меня этой гадостью, - поморщился он, словно укусил лимон, - и я уже сказал, что не хочу никого…
- Дослушай, пожалуйста, до конца. Тебе понравится. Я уверена, - перебила его Соня, сопроводив конец фразы язвительной ухмылкой. То ли холодно-сиреневые губы придавали её выражению лица легкое злорадство, то ли она действительно затаенно злорадствовала, как и в прошлый раз. Родя скептически вскинул бровь, однако Соня говорила так, словно была уверена в успехе, так что он решил её выслушать. Не то что бы он планировал соглашаться даже на измененный план, но пересилило зарождающееся любопытство.
- Надо хлопнуть Мотю, - серьезно произнесла Соня, глядя на него в упор. Не ожидавший услышать такое предложение, Родя вскинул брови – уже не скептически.
- Кого?! – сдавленно воскликнул он.
- Мотю.
- Ты совсем больная, да? – укоряюще посмотрел он на неё. – Жить надоело? Ты же сама говорила, что он мусорской!
Бесспорно, Родя питал к Герычу искреннюю ненависть, его раздражало всё: и волнистые волосы, и гладко выбритое лицо, и – особенно – до гадливости аккуратная одежда. Если бы существовала возможность, Родя с удовольствием поломал бы ему пару ребер, но убивать его он определенно был не готов.
- Я всё разузнала. Он торгует быстрыми и героином, а сам кокс нюхает и кодеин жрет, - восторженно затараторила Соня, не замечая его кислого лица, - у него вроде как мигрень вылезла, ха-ха… Знаешь, сколько он платит невскому синдикату, чтобы его не трогали? Пять лямов. И ему еще остается на аренду дорогой хаты, путешествия и чистый кокс. Тебе не кажется, что это какой-то несправедливый расклад? У него в квартире, конечно, навороченный сейф, но мы-то знаем, как его разговорить.
- Ага, и потом нас в Неве утопят. Охеренный план.
- Поверь мне, он тот еще лошок, постоянно мне в долг продавал. Не думаю, что его придется долго колоть. Смелый он только под коксом, и запугать его очень легко. Он слишком трясется за свою шкуру, чтобы геройствовать. Нападать он горазд, а ответной агрессии боится. Мы с ним когда-то в одной коммуналке жили. Я его знаю, как облупленного.
- А менты, которым он платит, нам шеи свернут, - горько усмехнулся Родя, - как Герыч вообще касается моих нужд?
- Самым непосредственным образом, - начала Соня елейно-нежным тоном, растягивая слова и отдаляя кульминационный момент, на который она так надеялась, - знаешь ли, у Жарова нет семьи, но есть стремление… У него пятеро деток. Не кровных деток, зато очень ценных. Он ими дорожит, а они работают на него и до жути его боятся. А наш бедный Мотя… один из любимчиков Жарова.
- Да ладно? – округлил глаза Родя. Он замер и замолчал – сомневаясь, но внутренне готовясь заглотить брошенный крючок. Замысел, дремавший в его голове с похорон Кирилла и резонансного судебного разбирательства, связанного с моряками, контрабандой кокаина и Кабо-Верде, обретал зыбкую плоть.
- Конечно, до Жарова тебе никогда не добраться, а вот попортить шкурку его протеже – лучше, чем ничего, - сказала Соня и выдохнула еще одно облако молочно-белого пара, - говорят, Жаров недавно поставил его на героиновый склад. Как тебе такое?
- Этого нескладного дылду? – отупело смотрел на нее Родя.
- По виду не скажешь, да? На склад лезть бесполезно, там только встречи проводят и ничего не хранят. Нам нужны деньги из его сейфа.
- А с Герычем что делать? – с опаской спросил он. Соня промолчала и красноречиво перечеркнула янтарным ногтем собственное горло. Он тихо проговорил:
- Откуда ты вообще всё это знаешь?
- Социальная инженерия. Его быки в сауне ляпают лишнее. Когда его труп найдут, мы будем уже в Финке. Оттуда поедем в Грузию и осядем в тихих местах. Там невские нас не достанут. Мотя ведь не Эскобар, чтобы так ради него стараться.
Без спроса взяв у неё сигарету, Родя уставился перед собой и затянулся паром. Металл неприятно холодил пальцы. Идея, предложенная Соней, порожденная скорее мефедроном, нежели трезвым расчетом, звучала просто ужасно, но количество предполагаемых нулей и возможность косвенно ударить по полковнику Жарову перевешивали её ужас. Естественно, существовала вероятность, что смерть Герыча не вызовет у Жарова особых эмоций. Насколько он знал, Жаров без колебаний избавлялся от дилеров, которые работали на него, нарушая изначальную кабальную договоренность. Однако Герыч до сих пор жил, значит, был на хорошем счету, и в таком случае Жаров мог проникнуться его смертью – хотя бы ненадолго. Вдогонку к этим соображениям возникла еще одна мысль. Не менее многообещающая. Мельком подумав её, Родя умиротворенно улыбнулся.
- Я в деле, - твердо посмотрел он на Соню, вернув ей сигарету. Соня ответила ему маньяческой ухмылкой – даже излишне маньяческой. У него заныло в солнечном сплетении, но он отогнал это чувство.
- Знаешь что… - задумчиво протянула она. - Сегодня вечером нужно хорошенько поскандалить. Побьем посуду, подеремся в подъезде… Чтобы всем стало ясно, насколько разладились наши отношения. Разрешаю даже поорать про мое блядство, которое так тебя бесит.
- Проще простого.
- Поживешь остаток времени у себя. Мотя каждый четверг ходит к одной бабе. В одно и то же время, в семь вечера. Через два часа возвращается домой.
- Как удачно-то, - хмыкнул Родя, - хороший барыга – мертвый барыга, да?
- Именно, Романов! – в упоении прошептала Соня, резким порывом придвинувшись к его лицу. В её немигающих глазах огненно-ртутными искрами отражался уличный фонарь, который зажегся, отреагировав на приближающиеся сумерки. Родя видел перед собой патологическую улыбку, которая могла бы вызвать научный интерес у Ломброзо, отвечал Соне тем же и кожей ощущал её сухое дыхание. Судьба Матвея Грязева стала для них определенной.
☸
Впервые с момента покупки Матвей вел машину лично. Благополучно преодолев вереницу федеральных трасс и Саранск, подпирающий железно-серое небо золотыми куполами церквей и острыми шпилями минаретов, машина плавно затормозила, самовольно отключила автопилот и равнодушным женским голосом сообщила, что дальше дороги нет. Озадаченный Матвей посмотрел вперед. Дорога определенно была: лишенная асфальта, размокшая от тающего снега, уходящая к линии горизонта чередой рытвин.
Он прекрасно помнил, куда она ведет, он знал её как свои пять пальцев, потому что каждое лето катался здесь на велосипеде, мимоходом дразня особенно склочных бесхозных собак, которые гнались за велосипедом, вздымающим жаркую песочную пыль, и хохочущим Матвеем, пока не выбивались из сил.
Шел семнадцатый час пути. Предприняв несколько бесплодных попыток, Матвей так и не смог проложить маршрут – автоматика отказывалась воспринимать открывшийся безлюдный ландшафт. С досадой выдохнув, он положил руки на руль и медленно направил машину в сторону Офтони.
В приоткрытое окно вваливался вешний воздух, пропитавшийся в лесостепи запахами талого снега, просыпающихся луговых трав и влажного чернозема. Из горизонта неспешно вырастала черная кромка панельных фавел - Химгородков, которая с каждым километром обретала цвет и четкость деталей. Матвей тоскливо рулил, ощущая каждый ухаб, и вслушивался в завывания ветра. Он не до конца понимал, почему согласился приехать на поминки, потому что похороны матери, Елены Алексеевны, пропустил без всякого беспокойства.
Пробравшись сквозь Химгородки, тускло мерцающие редкими проплешинами неоновых вывесок, Матвей свернул на проспект Лермонтова и приблизился к главной площади, центром которой был памятник Зое Космодемьянской. Гранитные складки аскетичного, почти монашеского платья застыли под ветром советской вечности, а глаза с героической скорбью смотрели в пустую даль.
Когда проспект Лермонтова подошел к концу, уткнувшись в суконно-серую мозаику частных домов, которые представляли собой микрорайон Алюминстрой, из горизонта полезли узкие, высокие, полосатые трубы алюминиевого завода, выкрашенные белым и красным. Из их жерл густыми клубами валил темный дым, который сносило ветром в сторону исполинских градирен. Рваная вуаль дыма тащилась по небу, распадаясь на неряшливые клочья, теряя цвет и смешиваясь с тучами.
Целых восемнадцать лет своего существования Матвей жил на самой последней линии и в самом последнем доме. За четыре года его отсутствия дом просел, слой оранжевой краски на досках превратился в струпья, а деревянные ворота немного скосились. Окна, окаймленные резными наличниками и открытыми ставнями, синева которых успела побледнеть, выглядывали в неухоженный палисадник. В зарослях сорняков проступали крохотные точки бирюзовых незабудок.
Матвей понял, что его наверняка уже заметили. Притормозив перед воротами, он распахнул дверь, выбрался из машины и угодил ногой в глинистую лужу. Зауженный мысок начищенного ботинка погрузился в грязь и неизбежно испачкался. Не сильно огорчившись, Матвей добрался до ворот и толкнул створку. Та поддалась, явив его взгляду бетонированный двор, арку из грубых железных прутьев, увитую сухим виноградным лозняком, и набухший бурьяном огород.
Со скрипом открыв ворота, Матвей припарковался во дворе и запер их на тяжелый железный засов. Краем глаза он заметил в окнах зала раздвинутые шторы, однако встречать его почему-то никто не вышел. Размяв затекшую спину, он ступил под резное кружево крыльца и потянул на себя дверь, обитую дерматином. Как и ворота, она оказалась незапертой – его определенно ждали.
Нырнув в темную прихожую, стены которой пахли застарелой сыростью, Матвей разулся и поставил ботинки на круглый коврик, сплетенный из разноцветных лоскутков. Дверь в кухню была открыта, и со своего места Матвей видел небольшое окно, скрытое белой марлевой занавеской. Над дверью, что вела в зал, тускло мерцало распятие. За ней тихо гудели голоса. Повесив полупальто на вешалку, Матвей рефлекторно отряхнул брюки и рубашку и без стеснения пошел на звук.
Кресло-качалка, стоящее в углу, ковер с оленями и стандартный набор из трех православных икон, перед которым горела сиреневая лампадка, пронеслись сквозь его восприятие слишком быстро. Главным сейчас был накрытый стол с поминальным ассортиментом: борщ, кутья, салат «Мимоза», блины и вишневый компот. Во главе стола находилась фотография Елены Алексеевны, перечеркнутая в углу черной лентой.
При появлении Матвея все резко замолчали. Вероника Николаевна деревянно нахмурила брови и покосилась на придушенно-бледную Лиду, которая впилась в Матвея нехорошим взглядом. Глаза Лиды были жирно подведены черным. Видимо, она считала такой макияж достаточно траурным. Грузная тетя Настя помрачнела и гордо расправила широкие плечи, обдав Матвея немым укором. Заметив это, усатый дядя Ильич вздрогнул нервной судорогой, а их сын Витя, тщедушный юноша, пошедший в отца и обликом, и нравом, устало вздохнул и потупился. Он знал темперамент матери слишком хорошо. На краткий миг собравшиеся показались Матвею семейством упырей, которые при виде жертвы стряхнули с себя личины живых граждан. Стало ясно, что все ожидали его как приглашенного, но далеко не все хотели его здесь видеть.
- Явился не запылился! – процедила сквозь зубы тетя Настя.
- Добрый день, - сконфуженно пробормотал Матвей. Раньше она относилась к нему намного добрее, угощая пряниками и трепля по макушке, и хотя его наплевательство на Елену Алексеевну очень даже могло её разочаровать, натолкнуться на такое неприятие он не рассчитывал. Заняв свободное место возле Вероники Николаевны, Матвей нехотя налил в свою тарелку половник теплого борща.
- Скажи-ка мне, барыжий сынок, ты что тут забыл? – резко спросила у него Лида.
- Меня пригласила Вероника Николаевна, - так же резко ответил Матвей. Взяв стеклянный графин, он наполнил стакан компотом.
- Сидел бы и дальше в своем Питере, коммерсант, - раздраженно буркнула тетя Настя. При этих словах дядя Ильич снова вздрогнул и начал сосредоточенно есть салат, приняв максимально равнодушный вид. Витя поднял взгляд и робко протянул:
- Не ругайся, мам… На поминках нельзя ругаться.
«Конечно, эта дура не могла не растрепать…» - кисло поморщился Матвей.
- А я, может, не хочу сидеть с ним за одним столом! – прикрикнула тетя Настя, повернувшись к сыну и продемонстрировав Матвею красновато-припухший профиль. Сын никак не возразил ей и умолк. Зачерпнув ложкой кутью, он принялся вдумчиво жевать.
- Вы можете не сидеть, - усмехнулся Матвей. Вероника Николаевна окинула собравшихся тяжелым взглядом:
- Однако на поминках ругаться всё равно нельзя. Разберетесь потом.
Грубое, но емкое увещевание подействовало. Над поминальным столом повисла враждебная тишина, прерываемая лишь металлическим стуком ложек. Матвей переходил от одного блюда к другому, накладывая скромные, исключительно ритуальные порции. И борщ, и салат, и кутья были недосоленными, тонкие блины разваливались в руках, а после компота во рту оставалось кислое послевкусие. Иногда Матвей ловил на себе ободряющие взгляды Вероники Николаевны и взгляды Вити, в которых мелькало странное любопытство, будто перед ним сидела ролевая модель. Остальные не обращали на него внимания, словно его здесь не было. Матвей ощущал себя мертвецом, присутствующим на посмертном празднике.
Пространство за ближайшим окном представляло собой толстые железные прутья, грубо сваренные в решетчатую арку, переплетения коричнево-сухих ветвей виноградной лозы и гладкий капот цвета «синий металлик», принадлежащий совсем другому месту и тускло искрящийся жизненными возможностями.
Положив на край тарелки надкусанный блин, Матвей молча вышел из-за стола и, игноруя недоуменные взгляды, направился к двери, которая вела в его подростковую комнату. Узкий пенал встретил его деревянным полом и голыми белеными стенами. В комнате почти ничего не осталось, только железный остов кровати с панцирной сеткой и потертая коробка из-под чайного сервиза. Мебель и вещи, за время его отсутствия успевшие стать ненужными, куда-то пропали. Елена Алексеевна явно не ожидала его возвращения. В комнате было грязновато и пахло пылью, а в углах, затянутых зыбкой паутиной, копошились безобидные домашние пауки.
Сев на скрипнувшую сетку кровати, Матвей пододвинул к себе коробку. На ней косо отпечатался светлый силуэт окна. Заглянув в картонное нутро, Матвей замер: там почти ничего не было, если не считать скудных реликтов его детства, отобранных по неизвестному принципу, которые Елена Алексеевна почему-то решила не выкидывать.
К раннему детству относились пластиковая красная лошадка на колесах, которую можно было катать по комнате, волоча за веревочку, и блекло-алая неваляшка, лукаво косящаяся вбок круглыми глазами. Школьный период был представлен потрепанным фиолетовым учебником «Happy English» и стопкой выцветших грамот «Русского медвежонка», выданных Матвею Германовичу Грязеву за участие. Упомянутый медвежонок, покрытый всклокоченной шерсткой, висел на литере «А», обхватив ее всеми лапами, и ехидно показывал длинный алый язык. Детский географический атлас «Мир и человек», изданный еще при советском режиме и впечатлявший Матвея иллюстрациями, пока тот был достаточно маленьким, лежал на самом дне. Стряхнув с него пыль, Матвей пролистал страницы и остановился на темно-фиолетовом развороте с желтыми лунными кратерами, яркими точками далеких звезд и завораживающей дымкой чуждых галактик. На переднем плане парил в невесомости мальчик в скафандре, потрясенный красотой бесконечной вселенной. Круглые глаза мальчика были полностью черными, словно что-то расширило его зрачки, отмеченные трогательными белыми бликами. «Этот загадочный мир», - желтел над головой мальчика заголовок раздела.
«Ага, очень загадочный…» - с легкой злобой подумал Матвей и кинул атлас обратно в коробку. В том, что он сидел в комнате, где они с Глебом когда-то толкли мускатный орех и смешивали его с кефиром, где он когда-то фасовал – как умел, конечно – соль, чтобы заработать на белый билет, было что-то неправильное. Пробуждалась память, от которой становилось больно, от которой хотелось сделать что-нибудь, чтобы это прекратилось – то ли с этим домом, то ли с собой. Бесполезно было отстраняться от прошлого и делать вид, что всё это его не касалось – он всё равно помнил.
Вернув коробку на место, Матвей отряхнулся от пыли и направился на кухню. Притворив за собой дверь, он подошел к железному рукомойнику, похожему на перевернутый колокол. С железного носика мерно срывались капли, которые разбивались об ржавеющую эмаль раковины. Под раковиной стояло ведро, а сбоку от рукомойника висело зеркало, засиженное мухами и покрытое мелкими мыльными брызгами. Матвей вспомнил, как рассматривал свое отражение, неосознанно прощаясь с детством и удивленно любуясь на широкие от ипомеи зрачки. Покосившись на закрытую дверь, он задумался. Достав из кармана початый зиплок кокаина и крохотную ложку, купленную в Колумбии, он зачерпнул снежно-белую горсточку и втянул её саднящей ноздрей. Потом повторил процедуру, спрятал инструментарий в карман и пошмыгал. Дождавшись, когда онемеют передние зубы, он вышел из кухни.
- До свиданья, - сухо бросил он собравшимся, даже не посмотрев в их сторону. Обувшись, он снял с крючка полупальто, перекинул его через руку и покинул свой дом.
Кокаин не помог, и в Саранске Матвея настигла накопившаяся усталость, от которой начало клонить в сон. Припарковавшись возле гостиницы с гордым названием «Заря», монументальное здание которой напоминало о строителях коммунизма, превратившихся в голые кости, Матвей снял номер на ближайшие сутки. Номер носил на себе след прошедших времен и пытался выглядеть по-пролетарски роскошно, но это ему удавалось из рук вон плохо. Темно-красный ковер, большое зеркало у входа и круглый столик у окна вызывали только жалость и непонятное сочувствие к минувшей эпохе.
Не раздеваясь, Матвей повалился на заправленную кровать и практически сразу рухнул еще глубже – в липкий сумбурный сон. Накатавшиеся на веселой карусели безобразные чудовища – сплющенный краб с человеческими конечностями, прямоходящий слон с грубым человеческим лицом и змееподобная фам-фаталь с одной женской ногой в черном чулке – плясали в темной пустоте, то и дело прерываясь, чтобы поднюхаться волшебным порошком.
Матвей проснулся от того, что его мутило. День уже давно потух, сменившись кромешной ночью, и глаза не сразу привыкли к вязкому полумраку номера, который удушливо пах мочеными яблоками. А когда Матвей привык к тьме, то увидел гроб. Лаково-черный гроб располагался в центре комнаты, опираясь на грубо сколоченные табуретки, а к его изголовью прислонялась такая же лаково-черная крышка, расписанная пухлыми желтыми бутонами, словно жостовский поднос. Открытый гроб кишел шевелящейся мглой, которая мешала рассмотреть покойника.
Затаив дыхание, Матвей как можно незаметнее спустился с кровати на пол, не желая выпрямляться в полный рост, чтобы покойник не заметил его раньше времени, встал на четвереньки и медленно пополз к гробу. Когда лакированный борт оказался прямо над головой, Матвей протянул к нему вздрагивающую руку. Мгла шевелилась, но рассеиваться не собиралась. Матвей осмелел и потянул руку чуть дальше. Когда он собирался коснуться гроба, из живущей мглы выскочила, словно кукла на пружине, худая белая кисть. Она крепко схватила Матвея за запястье, и в гробу приподнялся, выглянув наружу, одержимо улыбающийся Юша. На бледном лице монохромно блестели черные глаза и белые зубы.
- Попался, - засмеялся Юша ехидным шипением, глядя на оцепеневшего Матвея сверху вниз, - времени больше не будет.
- Отцепись от меня! – закричал Матвей, пытаясь вырвать руку из покойницкой хватки, но окоченелые пальцы Юши невозможно было разжать.
- Нет уж, подержу, пока за тобой не придут. А то ты опять убежишь.
- Пусти! – панически взвыл Матвей и снова безрезультатно дернулся назад.
Безмолвно распахнулась единственная дверь, и в номер шагнул Гриша. В его поведении сквозила мрачная отстраненность, а в руке он держал черный серп, по острому лезвию которого скользили размытые отсветы. Вслед за ним через порог переступила сумрачная фигура в шинели, прячущая лицо за синей деревянной маской. Маски изображала разъяренную бычью морду. Из глазниц, как вздувшиеся волдыри, торчали три налитых кровью глаза, алая пасть щетинилась заостренными клыками хищника, а огненно-рыжие волосы плясали вокруг морды закручивающимися языками пламени. Маску венчали длинные рога, между которыми виднелась корона из пяти черепов. Левая кисть неизвестного гостя была угольно-черной и вступала в болезненный контраст с мертвенно-белой правой.
Матвей всхлипнул. Он узнал эту маску. Он однажды видел её владельца, хоть это и происходило не совсем наяву. Словно желая добить его, неизвестный гость снял маску и спрятал её куда-то за спину. Теперь на Матвея смотрел Асфар Юнусович, сухое лицо которого было неприступно-равнодушным, как у представителя высшего суда. Над лаковым козырьком фуражки мерцала тусклым золотом кокарда в виде двуглавого орла.
- Кто вы такой?! – завопил Матвей, ощущая бешеный галоп испуганного сердца. – Кто вы на самом деле такой?!
- Повелитель закона, - отстраненно ответил Асфар Юнусович, - это же очевидно.
Прошагав к круглому столику, на котором стояли двое электронных весов, он повел правой рукой, и из белой ладони посыпались белые камушки, напоминающие спрессованные кристаллы. Они осели на весах скромной горстью.
- Жаль, - таким же бесчувственным тоном произнес Асфар Юнусович, пристально посмотрев на перепуганного Матвея. Его уже никто не держал, однако он обессиленно лежал на ковре, сжавшись в комок, мелко дрожал и не находил в себе стимула даже пошевелиться. Асфар Юнусович повел левой рукой. Из черной ладони щедрой россыпью хлынули черные кристаллические камушки, которые высокой горкой скрыли под собой весы, доползли до края стола и со звонким стуком посыпались на пол.
- Сложно такому возражать, правда? – осведомился Асфар Юнусович, снова взглянув на трясущегося Матвея, которого прошибло ужасом до самых кишок.
- Я ничего не делал! Пожалуйста, дайте мне уйти, я ничего не делал! – разрыдался Матвей, попытавшись солгать. Нахмурившись, Асфар Юнусович схватил его за волосы, подтащил к темному зеркалу и заставил заглянуть в отражение.
- Посмотри на себя, - зловещим тоном приказал он, оттягивая голову Матвея назад, - боишься?
В зеркальной темноте сверкали глаза Асфара Юнусовича, таящиеся под козырьком фуражки, а у него в ногах беспомощно дергался рыдающий Матвей, который не падал лишь потому, что его удерживали. Руки Матвея были по локоть в крови – темно-красной, липкой, вязкой, как яичный желток. Утробно забулькал воздух, пропахший мочеными яблоками, ночная тишина стала металлическим лязганьем варгана и тревожным рокотом горлового пения.
- Лгать бесполезно, - безжалостно резюмировал Асфар Юнусович. Отшвырнув подвывающего Матвея в сторону, он кивнул Грише. Тот взмахнул серпом, и срезанная голова Матвея откатилась к ножке кровати. Горизонт перед её глазами перекосился. Матвей, оставшийся внутри своей головы, с ужасом увидел, как Гриша сел на корточки перед его обезглавленным трупом и вырвал из опустевшей грудной клетки окровавленное сердце, сокращающееся по физиологической инерции. Голова, в которой пока еще оставался Матвей, взорвалась острой болью. Сидя на корточках, Гриша пожирал его сырой труп: вытягивал внутренности, разрывал зубами мясо, выжимал из кусков плоти холодеющую кровь… Острая боль накатывала непрекращающимися волнами, будто между головой и телом сохранялась незримая связь.
Когда боль наконец прекратилась, Матвей осознал себя живым, цельным человеком. И Гриша вновь срезал его голову резким взмахом серпа. Перекошенный горизонт, обезглавленный труп и каннибальское пиршество повторялись раз за разом, сливаясь в непрекращающийся дурной цикл.
Матвей вырвался из ночного кошмара с истерическим воплем. Вскочив на кровати, он принялся озираться, привыкая к темноте. За окном мерцала россыпь городских огней и гортанно пел муэдзин. Гроба в номере не было. Здесь не было никого, кроме Матвея. Он был совсем один.
Он прекрасно помнил, куда она ведет, он знал её как свои пять пальцев, потому что каждое лето катался здесь на велосипеде, мимоходом дразня особенно склочных бесхозных собак, которые гнались за велосипедом, вздымающим жаркую песочную пыль, и хохочущим Матвеем, пока не выбивались из сил.
Шел семнадцатый час пути. Предприняв несколько бесплодных попыток, Матвей так и не смог проложить маршрут – автоматика отказывалась воспринимать открывшийся безлюдный ландшафт. С досадой выдохнув, он положил руки на руль и медленно направил машину в сторону Офтони.
В приоткрытое окно вваливался вешний воздух, пропитавшийся в лесостепи запахами талого снега, просыпающихся луговых трав и влажного чернозема. Из горизонта неспешно вырастала черная кромка панельных фавел - Химгородков, которая с каждым километром обретала цвет и четкость деталей. Матвей тоскливо рулил, ощущая каждый ухаб, и вслушивался в завывания ветра. Он не до конца понимал, почему согласился приехать на поминки, потому что похороны матери, Елены Алексеевны, пропустил без всякого беспокойства.
Пробравшись сквозь Химгородки, тускло мерцающие редкими проплешинами неоновых вывесок, Матвей свернул на проспект Лермонтова и приблизился к главной площади, центром которой был памятник Зое Космодемьянской. Гранитные складки аскетичного, почти монашеского платья застыли под ветром советской вечности, а глаза с героической скорбью смотрели в пустую даль.
Когда проспект Лермонтова подошел к концу, уткнувшись в суконно-серую мозаику частных домов, которые представляли собой микрорайон Алюминстрой, из горизонта полезли узкие, высокие, полосатые трубы алюминиевого завода, выкрашенные белым и красным. Из их жерл густыми клубами валил темный дым, который сносило ветром в сторону исполинских градирен. Рваная вуаль дыма тащилась по небу, распадаясь на неряшливые клочья, теряя цвет и смешиваясь с тучами.
Целых восемнадцать лет своего существования Матвей жил на самой последней линии и в самом последнем доме. За четыре года его отсутствия дом просел, слой оранжевой краски на досках превратился в струпья, а деревянные ворота немного скосились. Окна, окаймленные резными наличниками и открытыми ставнями, синева которых успела побледнеть, выглядывали в неухоженный палисадник. В зарослях сорняков проступали крохотные точки бирюзовых незабудок.
Матвей понял, что его наверняка уже заметили. Притормозив перед воротами, он распахнул дверь, выбрался из машины и угодил ногой в глинистую лужу. Зауженный мысок начищенного ботинка погрузился в грязь и неизбежно испачкался. Не сильно огорчившись, Матвей добрался до ворот и толкнул створку. Та поддалась, явив его взгляду бетонированный двор, арку из грубых железных прутьев, увитую сухим виноградным лозняком, и набухший бурьяном огород.
Со скрипом открыв ворота, Матвей припарковался во дворе и запер их на тяжелый железный засов. Краем глаза он заметил в окнах зала раздвинутые шторы, однако встречать его почему-то никто не вышел. Размяв затекшую спину, он ступил под резное кружево крыльца и потянул на себя дверь, обитую дерматином. Как и ворота, она оказалась незапертой – его определенно ждали.
Нырнув в темную прихожую, стены которой пахли застарелой сыростью, Матвей разулся и поставил ботинки на круглый коврик, сплетенный из разноцветных лоскутков. Дверь в кухню была открыта, и со своего места Матвей видел небольшое окно, скрытое белой марлевой занавеской. Над дверью, что вела в зал, тускло мерцало распятие. За ней тихо гудели голоса. Повесив полупальто на вешалку, Матвей рефлекторно отряхнул брюки и рубашку и без стеснения пошел на звук.
Кресло-качалка, стоящее в углу, ковер с оленями и стандартный набор из трех православных икон, перед которым горела сиреневая лампадка, пронеслись сквозь его восприятие слишком быстро. Главным сейчас был накрытый стол с поминальным ассортиментом: борщ, кутья, салат «Мимоза», блины и вишневый компот. Во главе стола находилась фотография Елены Алексеевны, перечеркнутая в углу черной лентой.
При появлении Матвея все резко замолчали. Вероника Николаевна деревянно нахмурила брови и покосилась на придушенно-бледную Лиду, которая впилась в Матвея нехорошим взглядом. Глаза Лиды были жирно подведены черным. Видимо, она считала такой макияж достаточно траурным. Грузная тетя Настя помрачнела и гордо расправила широкие плечи, обдав Матвея немым укором. Заметив это, усатый дядя Ильич вздрогнул нервной судорогой, а их сын Витя, тщедушный юноша, пошедший в отца и обликом, и нравом, устало вздохнул и потупился. Он знал темперамент матери слишком хорошо. На краткий миг собравшиеся показались Матвею семейством упырей, которые при виде жертвы стряхнули с себя личины живых граждан. Стало ясно, что все ожидали его как приглашенного, но далеко не все хотели его здесь видеть.
- Явился не запылился! – процедила сквозь зубы тетя Настя.
- Добрый день, - сконфуженно пробормотал Матвей. Раньше она относилась к нему намного добрее, угощая пряниками и трепля по макушке, и хотя его наплевательство на Елену Алексеевну очень даже могло её разочаровать, натолкнуться на такое неприятие он не рассчитывал. Заняв свободное место возле Вероники Николаевны, Матвей нехотя налил в свою тарелку половник теплого борща.
- Скажи-ка мне, барыжий сынок, ты что тут забыл? – резко спросила у него Лида.
- Меня пригласила Вероника Николаевна, - так же резко ответил Матвей. Взяв стеклянный графин, он наполнил стакан компотом.
- Сидел бы и дальше в своем Питере, коммерсант, - раздраженно буркнула тетя Настя. При этих словах дядя Ильич снова вздрогнул и начал сосредоточенно есть салат, приняв максимально равнодушный вид. Витя поднял взгляд и робко протянул:
- Не ругайся, мам… На поминках нельзя ругаться.
«Конечно, эта дура не могла не растрепать…» - кисло поморщился Матвей.
- А я, может, не хочу сидеть с ним за одним столом! – прикрикнула тетя Настя, повернувшись к сыну и продемонстрировав Матвею красновато-припухший профиль. Сын никак не возразил ей и умолк. Зачерпнув ложкой кутью, он принялся вдумчиво жевать.
- Вы можете не сидеть, - усмехнулся Матвей. Вероника Николаевна окинула собравшихся тяжелым взглядом:
- Однако на поминках ругаться всё равно нельзя. Разберетесь потом.
Грубое, но емкое увещевание подействовало. Над поминальным столом повисла враждебная тишина, прерываемая лишь металлическим стуком ложек. Матвей переходил от одного блюда к другому, накладывая скромные, исключительно ритуальные порции. И борщ, и салат, и кутья были недосоленными, тонкие блины разваливались в руках, а после компота во рту оставалось кислое послевкусие. Иногда Матвей ловил на себе ободряющие взгляды Вероники Николаевны и взгляды Вити, в которых мелькало странное любопытство, будто перед ним сидела ролевая модель. Остальные не обращали на него внимания, словно его здесь не было. Матвей ощущал себя мертвецом, присутствующим на посмертном празднике.
Пространство за ближайшим окном представляло собой толстые железные прутья, грубо сваренные в решетчатую арку, переплетения коричнево-сухих ветвей виноградной лозы и гладкий капот цвета «синий металлик», принадлежащий совсем другому месту и тускло искрящийся жизненными возможностями.
Положив на край тарелки надкусанный блин, Матвей молча вышел из-за стола и, игноруя недоуменные взгляды, направился к двери, которая вела в его подростковую комнату. Узкий пенал встретил его деревянным полом и голыми белеными стенами. В комнате почти ничего не осталось, только железный остов кровати с панцирной сеткой и потертая коробка из-под чайного сервиза. Мебель и вещи, за время его отсутствия успевшие стать ненужными, куда-то пропали. Елена Алексеевна явно не ожидала его возвращения. В комнате было грязновато и пахло пылью, а в углах, затянутых зыбкой паутиной, копошились безобидные домашние пауки.
Сев на скрипнувшую сетку кровати, Матвей пододвинул к себе коробку. На ней косо отпечатался светлый силуэт окна. Заглянув в картонное нутро, Матвей замер: там почти ничего не было, если не считать скудных реликтов его детства, отобранных по неизвестному принципу, которые Елена Алексеевна почему-то решила не выкидывать.
К раннему детству относились пластиковая красная лошадка на колесах, которую можно было катать по комнате, волоча за веревочку, и блекло-алая неваляшка, лукаво косящаяся вбок круглыми глазами. Школьный период был представлен потрепанным фиолетовым учебником «Happy English» и стопкой выцветших грамот «Русского медвежонка», выданных Матвею Германовичу Грязеву за участие. Упомянутый медвежонок, покрытый всклокоченной шерсткой, висел на литере «А», обхватив ее всеми лапами, и ехидно показывал длинный алый язык. Детский географический атлас «Мир и человек», изданный еще при советском режиме и впечатлявший Матвея иллюстрациями, пока тот был достаточно маленьким, лежал на самом дне. Стряхнув с него пыль, Матвей пролистал страницы и остановился на темно-фиолетовом развороте с желтыми лунными кратерами, яркими точками далеких звезд и завораживающей дымкой чуждых галактик. На переднем плане парил в невесомости мальчик в скафандре, потрясенный красотой бесконечной вселенной. Круглые глаза мальчика были полностью черными, словно что-то расширило его зрачки, отмеченные трогательными белыми бликами. «Этот загадочный мир», - желтел над головой мальчика заголовок раздела.
«Ага, очень загадочный…» - с легкой злобой подумал Матвей и кинул атлас обратно в коробку. В том, что он сидел в комнате, где они с Глебом когда-то толкли мускатный орех и смешивали его с кефиром, где он когда-то фасовал – как умел, конечно – соль, чтобы заработать на белый билет, было что-то неправильное. Пробуждалась память, от которой становилось больно, от которой хотелось сделать что-нибудь, чтобы это прекратилось – то ли с этим домом, то ли с собой. Бесполезно было отстраняться от прошлого и делать вид, что всё это его не касалось – он всё равно помнил.
Вернув коробку на место, Матвей отряхнулся от пыли и направился на кухню. Притворив за собой дверь, он подошел к железному рукомойнику, похожему на перевернутый колокол. С железного носика мерно срывались капли, которые разбивались об ржавеющую эмаль раковины. Под раковиной стояло ведро, а сбоку от рукомойника висело зеркало, засиженное мухами и покрытое мелкими мыльными брызгами. Матвей вспомнил, как рассматривал свое отражение, неосознанно прощаясь с детством и удивленно любуясь на широкие от ипомеи зрачки. Покосившись на закрытую дверь, он задумался. Достав из кармана початый зиплок кокаина и крохотную ложку, купленную в Колумбии, он зачерпнул снежно-белую горсточку и втянул её саднящей ноздрей. Потом повторил процедуру, спрятал инструментарий в карман и пошмыгал. Дождавшись, когда онемеют передние зубы, он вышел из кухни.
- До свиданья, - сухо бросил он собравшимся, даже не посмотрев в их сторону. Обувшись, он снял с крючка полупальто, перекинул его через руку и покинул свой дом.
Кокаин не помог, и в Саранске Матвея настигла накопившаяся усталость, от которой начало клонить в сон. Припарковавшись возле гостиницы с гордым названием «Заря», монументальное здание которой напоминало о строителях коммунизма, превратившихся в голые кости, Матвей снял номер на ближайшие сутки. Номер носил на себе след прошедших времен и пытался выглядеть по-пролетарски роскошно, но это ему удавалось из рук вон плохо. Темно-красный ковер, большое зеркало у входа и круглый столик у окна вызывали только жалость и непонятное сочувствие к минувшей эпохе.
Не раздеваясь, Матвей повалился на заправленную кровать и практически сразу рухнул еще глубже – в липкий сумбурный сон. Накатавшиеся на веселой карусели безобразные чудовища – сплющенный краб с человеческими конечностями, прямоходящий слон с грубым человеческим лицом и змееподобная фам-фаталь с одной женской ногой в черном чулке – плясали в темной пустоте, то и дело прерываясь, чтобы поднюхаться волшебным порошком.
Матвей проснулся от того, что его мутило. День уже давно потух, сменившись кромешной ночью, и глаза не сразу привыкли к вязкому полумраку номера, который удушливо пах мочеными яблоками. А когда Матвей привык к тьме, то увидел гроб. Лаково-черный гроб располагался в центре комнаты, опираясь на грубо сколоченные табуретки, а к его изголовью прислонялась такая же лаково-черная крышка, расписанная пухлыми желтыми бутонами, словно жостовский поднос. Открытый гроб кишел шевелящейся мглой, которая мешала рассмотреть покойника.
Затаив дыхание, Матвей как можно незаметнее спустился с кровати на пол, не желая выпрямляться в полный рост, чтобы покойник не заметил его раньше времени, встал на четвереньки и медленно пополз к гробу. Когда лакированный борт оказался прямо над головой, Матвей протянул к нему вздрагивающую руку. Мгла шевелилась, но рассеиваться не собиралась. Матвей осмелел и потянул руку чуть дальше. Когда он собирался коснуться гроба, из живущей мглы выскочила, словно кукла на пружине, худая белая кисть. Она крепко схватила Матвея за запястье, и в гробу приподнялся, выглянув наружу, одержимо улыбающийся Юша. На бледном лице монохромно блестели черные глаза и белые зубы.
- Попался, - засмеялся Юша ехидным шипением, глядя на оцепеневшего Матвея сверху вниз, - времени больше не будет.
- Отцепись от меня! – закричал Матвей, пытаясь вырвать руку из покойницкой хватки, но окоченелые пальцы Юши невозможно было разжать.
- Нет уж, подержу, пока за тобой не придут. А то ты опять убежишь.
- Пусти! – панически взвыл Матвей и снова безрезультатно дернулся назад.
Безмолвно распахнулась единственная дверь, и в номер шагнул Гриша. В его поведении сквозила мрачная отстраненность, а в руке он держал черный серп, по острому лезвию которого скользили размытые отсветы. Вслед за ним через порог переступила сумрачная фигура в шинели, прячущая лицо за синей деревянной маской. Маски изображала разъяренную бычью морду. Из глазниц, как вздувшиеся волдыри, торчали три налитых кровью глаза, алая пасть щетинилась заостренными клыками хищника, а огненно-рыжие волосы плясали вокруг морды закручивающимися языками пламени. Маску венчали длинные рога, между которыми виднелась корона из пяти черепов. Левая кисть неизвестного гостя была угольно-черной и вступала в болезненный контраст с мертвенно-белой правой.
Матвей всхлипнул. Он узнал эту маску. Он однажды видел её владельца, хоть это и происходило не совсем наяву. Словно желая добить его, неизвестный гость снял маску и спрятал её куда-то за спину. Теперь на Матвея смотрел Асфар Юнусович, сухое лицо которого было неприступно-равнодушным, как у представителя высшего суда. Над лаковым козырьком фуражки мерцала тусклым золотом кокарда в виде двуглавого орла.
- Кто вы такой?! – завопил Матвей, ощущая бешеный галоп испуганного сердца. – Кто вы на самом деле такой?!
- Повелитель закона, - отстраненно ответил Асфар Юнусович, - это же очевидно.
Прошагав к круглому столику, на котором стояли двое электронных весов, он повел правой рукой, и из белой ладони посыпались белые камушки, напоминающие спрессованные кристаллы. Они осели на весах скромной горстью.
- Жаль, - таким же бесчувственным тоном произнес Асфар Юнусович, пристально посмотрев на перепуганного Матвея. Его уже никто не держал, однако он обессиленно лежал на ковре, сжавшись в комок, мелко дрожал и не находил в себе стимула даже пошевелиться. Асфар Юнусович повел левой рукой. Из черной ладони щедрой россыпью хлынули черные кристаллические камушки, которые высокой горкой скрыли под собой весы, доползли до края стола и со звонким стуком посыпались на пол.
- Сложно такому возражать, правда? – осведомился Асфар Юнусович, снова взглянув на трясущегося Матвея, которого прошибло ужасом до самых кишок.
- Я ничего не делал! Пожалуйста, дайте мне уйти, я ничего не делал! – разрыдался Матвей, попытавшись солгать. Нахмурившись, Асфар Юнусович схватил его за волосы, подтащил к темному зеркалу и заставил заглянуть в отражение.
- Посмотри на себя, - зловещим тоном приказал он, оттягивая голову Матвея назад, - боишься?
В зеркальной темноте сверкали глаза Асфара Юнусовича, таящиеся под козырьком фуражки, а у него в ногах беспомощно дергался рыдающий Матвей, который не падал лишь потому, что его удерживали. Руки Матвея были по локоть в крови – темно-красной, липкой, вязкой, как яичный желток. Утробно забулькал воздух, пропахший мочеными яблоками, ночная тишина стала металлическим лязганьем варгана и тревожным рокотом горлового пения.
- Лгать бесполезно, - безжалостно резюмировал Асфар Юнусович. Отшвырнув подвывающего Матвея в сторону, он кивнул Грише. Тот взмахнул серпом, и срезанная голова Матвея откатилась к ножке кровати. Горизонт перед её глазами перекосился. Матвей, оставшийся внутри своей головы, с ужасом увидел, как Гриша сел на корточки перед его обезглавленным трупом и вырвал из опустевшей грудной клетки окровавленное сердце, сокращающееся по физиологической инерции. Голова, в которой пока еще оставался Матвей, взорвалась острой болью. Сидя на корточках, Гриша пожирал его сырой труп: вытягивал внутренности, разрывал зубами мясо, выжимал из кусков плоти холодеющую кровь… Острая боль накатывала непрекращающимися волнами, будто между головой и телом сохранялась незримая связь.
Когда боль наконец прекратилась, Матвей осознал себя живым, цельным человеком. И Гриша вновь срезал его голову резким взмахом серпа. Перекошенный горизонт, обезглавленный труп и каннибальское пиршество повторялись раз за разом, сливаясь в непрекращающийся дурной цикл.
Матвей вырвался из ночного кошмара с истерическим воплем. Вскочив на кровати, он принялся озираться, привыкая к темноте. За окном мерцала россыпь городских огней и гортанно пел муэдзин. Гроба в номере не было. Здесь не было никого, кроме Матвея. Он был совсем один.
Глава 17
Свет
Свет

Убей ее и возьми ее деньги, с тем чтобы с их помощию посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу: как ты думаешь, не загладится ли одно, крошечное преступленьице тысячами добрых дел? За одну жизнь - тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения.
Федор Достоевский, «Преступление и наказание»
Федор Достоевский, «Преступление и наказание»
май, 2032 год
До девяти часов вечера оставалось десять минут. Соня была сама нервозность. Сидя на полу, она прислонялась спиной к стене коридора и напряженно вслушивалась в звуки, то и дело доносящиеся из парадной, однако предвкушение сбивало её с толку и заставляло принимать за человеческие шаги абсолютно всё, что только улавливал слух. Время от времени она порывалась грызть ногти, но крупные зубы останавливались, наталкиваясь на прохладный латекс медицинских перчаток, и Соня меняла цель, принимаясь мять пальцами подол черного платья с широким капюшоном, который сейчас полностью скрывал её голову и лицо. В коридоре квартиры, принадлежащей Эмме Витальевне Романовой, она сидела уже полчаса. Бледные ноги, обтянутые черными чулками с алыми гвоздиками, неизбежно затекали, и Соня постоянно меняла позу, стуча по ламинату сиреневыми туфлями. На плече у Сони висела объемная сумка с вещами.
Родя тоже нервничал, но совсем иначе: он ходил по коридору, как полный энергии молодой пёс, и поминутно припадал к дверному глазку. Не видя ничего, что могло бы его заинтересовать, он отступал от двери и осматривал оружие – то вынимал из карманов нож-бабочку и электронный паяльник, чтобы окинуть их сосредоточенным взглядом, то доставал из-за пояса спортивных штанов «макаров» со стертым номером, который потом прятал обратно, драпируя мешковатой олимпийкой.
Хотя пистолет был заряжен, пускать его в ход Родя не планировал. Пистолет нужен был только для эффектности и на тот случай, если всё пойдет не так, а убийство Матвея нужно было обставить тихо, не привлекая внимания выстрелом. Родя собирался утопить связанного Матвея в ванной, заткнув слив и включив воду, чтобы как следует посмаковать его панику, вызванную видом подступающей воды, и стоны отчаявшегося человека. Он считал это достойным эквивалентом предсмертным мучениям Кирилла, который, как показали результаты вскрытия, ушел на морское дно не совсем убитым.
Эмму Витальевну Родя уговорил лечь в больницу на обследование, чтобы она в этот день ненароком им не помешала. А до этого две недели здоровался с Матвеем, который жил в соседней от него квартире. Здоровался он скупо, чтобы не показаться навязчивым и не вызвать подозрений. Было ясно, что Матвей намеренно снял квартиру в парадной, куда посторонние обычно не ходят. Решение оказалось почти правильным. Посторонние ему, конечно же, навредить не могли.
Чуть позже девяти по ту сторону двери раздался приближающийся стук. Звонко и размеренно били по ступеням каблуки ботинок. Жадно припав к глазку, Родя с мрачным видом показал Соне большой палец, потянул дверь на себя и высунул голову наружу. Из парадной пахнуло весенним озоном. Не шевелясь и почти не дыша, чтобы не выдать свое присутствие, Соня приникла к образовавшейся щелке. Темные кромки ограничивали обзор до узкого кадра, в который задумчиво вошел пошмыгивающий Матвей. Выглаженные брюки, белая рубашка и черный приталенный пиджак сочетались с хмурой миной крайне неудачно: складывалось впечатление, что Матвей вернулся не то с похорон, не то с собеседования. Его волосы и одежда были чуть влажными от дождя, а в левой руке он держал небольшой пакет с зелеными яблоками. Соня закусила губу.
- Привет… Ты не видел Эмму Витальевну? – послышался по ту сторону двери голос Роди, звенящий весьма правдоподобной тревогой. – Во дворе?
- Эмму Витальевну? – недоуменно переспросил Матвей, повернувшись на звук.
- Мою бабушку. Я проснулся, а в квартире газом пахнет и бабушки нет, - вдохновенно врал Родя, - плиту я выключил, а вот куда она пошла…
- Это ужасно, - сказал Матвей безличным тоном, который доказывал, что на самом деле ему всё равно, - нет, во дворе я её не видел.
Отвернувшись и дав понять, что больше ему сказать нечего, он достал из кармана пиджака связку ключей и начал открывать железную дверь, которая вела в его квартиру. Соня ощутила участившиеся удары сердца, напряглась и впилась в Матвея взглядом.
- Ладно, на улице поищу… - задумчиво пробормотал Родя. Его сухощавое туловище в синем спортивном костюме полностью скрылось за дверью, а потом он появился в кадре и медленно направился к лестнице. Оказавшись за спиной у Матвея, который поворачивал ключ в замке, Родя бесшумно метнулся к нему и сноровисто обвил шею сгибом локтя. Пакет с яблоками упал на пол, одно из них выкатилось из развязавшейся горловины и уткнулось в гранитную ступень. Матвей захрипел, задергался, пытаясь вырваться из удушающего замка, но быстро обмяк и начал оседать на пол. Деловито подхватив обморочное тело, Родя затащил Матвея в его же квартиру. В кадре снова стало пусто.
Закинув на плечо сумку, Соня вышла из укрытия, закрыла за собой дверь и подобрала яблоки. Потом вздохнула, набирая полную грудь воздуха, и шагнула в темную прихожую, где смутно виделись два силуэта. Положив яблоки на коврик, она заперлась изнутри, предварительно забрав ключи, и включила свет. Вспыхнул фиалково-алый светильник, и из сумрака выступила длинная прихожая с двумя дверями и квадратной аркой, за которой темнела густая синева стены.
- Минут десять поспит, - мрачно объяснил Родя, натягивая медицинские перчатки. Склонившись над Матвеем, который без сознания валялся на полу, Родя перекатил его набок, стянул запястья рук, заведенные за спину, пластиковыми стяжками и заткнул рот шарфом, на середине которого заранее был завязан массивный узел. Родя проделывал такое далеко не впервые, и процедура была доведена до автоматизма. У Роди был собственный почерк налетчика.
Легко улыбнувшись, Соня прошла под квадратной аркой и нашарила рукой выключатель. Ярко загорелась люстра, и по глазам ударили ярко-синие стены с ядовито-алыми шторами, которые сейчас были глухо задернуты. Поморщившись от света, Соня откинула капюшон и осмотрелась. По одну стену виднелся телевизор с игровой приставкой, по другую располагались диван, два кресла и кофейный столик на колесиках. На столике мерцала бутылка коньяка «Camus», на округлых боках которой играли темно-рыжие блики, а над диваном висела неожиданно мрачная для открывшейся обстановки картина, изображающая пшеничное поле, могильный крест и уродливых мутантов.
Соня извлекла из сумки пустой рюкзак, в который они планировали сложить деньги, и кинула его на одно из кресел. Положив рядом и сумку, она повернулась к входу. Появился Родя, который тащил связанного Матвея за плечи. Долговязое тело безвольно свисало, а ноги волочились по паркету, тихо шурша ботинками и оставляя влажный след. Подтащив Матвея к центру зала, Родя швырнул его на пол, как мешок с ветошью. Матвей завалился на бок, не открывая глаз и сохраняя мерное дыхание спящего.
- А он не захлебнется? – настороженно спросила Соня. Её глаза невольно забегали из стороны в сторону. От предельной реальности их действий ей стало не по себе.
- Чем?
- Слюной, - пробормотала она.
- Так он же на боку лежит, - пожал плечами Родя, - я всегда так делаю, и никто пока не умер.
Нахмурившись, он принялся шарить по карманам Матвея, проигнорировав часы с треснутым стеклом циферблата. Сначала он извлек черный бумажник, початый блистер колдемикста, а потом и удостоверение в темно-красной корочке, на которой переливалась золотистым эмблема ФСКН.
- Грязев Матвей Германович, - прочитал вслух Родя, раскрыв служебное удостоверение, - старший внешний сотрудник… Ага, так и есть. Жаров точно кукухой поедет.
Отбросив удостоверение и блистер в сторону, Родя обнаружил в бумажнике три кредитные карты и без промедления кинул их туда же. Тащить Матвея к банкомату было слишком рискованно. Обналичивать деньги самим не следовало из-за камер с распознаванием лиц. Заставлять Матвея обналичивать деньги через банк было совсем уж глупо, потому что банк, когда речь заходила о снятии крупных сумм, требовал подождать хотя бы сутки. Суток у них не было. В их распоряжении было всего три часа. В полночь от площади Народной Воли отчаливал паром, на который они уже купили билеты.
Соня и Родя переглянулись: никому из них не хотелось браться за Матвея первым. К счастью, решать им не пришлось – Матвей пришел в себя сам. Он несмело зашевелился, и лицо странно исказилось непониманием, которое свойственно первым минутам пробуждения. Взгляд Матвея проследовал по витиеватой траектории. Заметив Родю с Соней и осознав свое скверное положение, он вздрогнул и панически взвыл.
Теперь плошать было уже нельзя. Склонившись над Матвеем, Родя с силой сдавил рукой его горло:
- Тихо, торгаш, тихо. Не рыпайся, а то удавлю. Я по-всякому умею душить, а тебя насмерть задушу. Общественность меня всё равно оправдает, потому что ты барыга, а сидеть я не боюсь.
Посыл был предельно ясен. Матвей замер и замолчал, распахнув почерневшие от страха глаза. Он шумно и тяжело дышал, как выбившееся из сил животное.
- Просто чтобы ты понял серьезность наших намерений. Мы в курсе, что ты связан с невским синдикатом, и это нас, как видишь, не остановило, - жестко улыбнулась Соня, медленно и развязно подойдя к нему. Её отчетливая тень упала на его побелевшее лицо.
- Придется подергаться, сучонок Асфара Юнусовича, - ухмыльнулся Родя, закатывая рукава олимпийки, - до него я добраться не могу, а до тебя могу. Не обижайся, ничего личного.
Матвей машинально рванулся куда-то назад, но Родя схватил его за воротник рубашки и ударил кулаком в глаз. Родя избивал с оттяжкой, искренне, ощущая чистую детскую радость, а Матвей беспомощно скулил в шарф. Перед каждым новым ударом он зажмуривал глаза, тяжело втягивал носом воздух и пытался отстраниться.
Соня по-кошачьи прищурилась. Расплывшись в довольной улыбке, которая превратила её лицо в блин, она достала из сумки миниатюрное радио, похожее на зеленую мыльницу, поставила его на край кофейного столика и включила свою излюбленную станцию с ретро-поп-музыкой, которая сопровождала своими синтетическими переливами российские нулевые годы. Сегодня её применение было более низким и утилитарным: музыка должна была сглаживать неприглядное мычание, ассоциирующееся исключительно с насилием и пытками.
Когда Родя принялся бить ногами, Матвей не вытерпел и глухо разрыдался – то ли от боли, то ли от беспомощности. Лишившись сил, он перестал вырываться и скорчился на полу, заливая слезами лицо, по которому стекала теплая кровь. Стремление избежать смерти плохо сочеталось с невозможностью это сделать и телом, которое ослабло под напором чужой агрессии.
Добившись желаемого эффекта, Родя нарочито неспешно вынул из кармана нож-бабочку и оголил его узкое сверкающее лезвие. При виде ножа Матвея прошибло отчаянной судорогой. Он попытался отползти, отбросив рациональные решения и положившись на рефлекторные механизмы выживания. Родя устало вздохнул, схватил его за лацкан пиджака и вернул на место. Усевшись на ноги Матвея, чтобы тот никуда не уполз, он молча, с недоброй улыбкой продемонстрировал ему лезвие ножа. Матвей затравленно простонал и дернулся, стукнувшись затылком об пол. Женщина, уже давно скончавшаяся от рака, с ностальгической тоской пела про ушедшую любовь, белый песок у моря и теплый ветер.
- Я помогу тебе, - нежно произнесла Соня. Усевшись напротив Роди, она подогнула под себя ноги и крепко обхватила Матвея за локти, притягивая к своему корпусу. Затылок Матвея уперся в её теплый живот, скрытый платьем. Погладив его по спутанным волосам, она зажала ему рот ладонью поверх кляпа.
Проделав разрез в одной из штанин Матвея, Родя рванул ткань в стороны и обнажил бледную ляжку, скудно поросшую светлыми волосками. Соня ощутила, как у неё под ладонью мелко задрожал чужой подбородок. Родя демонстративно сменил инструмент. Отложив нож, он достал из другого кармана электронный паяльник. Моргнув заплаканными глазами, под одним из которых наливался первичной краснотой синяк, Матвей горестно всхлипнул.
- Давай проверим твою выносливость, - хмыкнул Родя, настраивая температуру, - сейчас я буду делать тебе больно, а ты постараешься не орать слишком громко. Если вывезешь на силе воли, я не отрежу тебе пальцы. Отличная сделка, да, Герыч?
У Матвея дернулся подбитый глаз, словно он мимоходом заглянул им в потусторонние эмпиреи и тут же с ужасом вынырнул обратно. Сглотнув, он опасливо кивнул. Родя с энтузиазмом радиолюбителя прижал толстое жало паяльника к голой коже. Матвей задрожал и сдавленно заплакал, закатив от боли глаза. Соня учуяла запах горелого мяса, который исходил от глубокой рытвины, образованной сварившимся белком.
Одним ожогом Родя не ограничился. Выдержка Матвея неумолимо иссякала. Лишаясь четкого осознания, он трясся и неистово дергался, будто паникующая птица, запутавшаяся в силках. То ли усугубляя его страдания, то ли оказывая добрую услугу, Соня зажимала ему еще и нос, когда крики угрожали стать особенно громкими. То и дело Матвей проваливался в обморок, но Соня лупила его по щекам, и ему приходилось возвращаться в себя.
Ограничившись пятью подходами, Родя засмеялся и поднес паяльник к лицу Матвея. Беспомощно замычав, тот в очередной раз закатил глаза и потерял сознание. Соня устремила на Родю мрачный взгляд, вырвавшийся из-под густых ресниц.
- Очень надеюсь, что мы его не угробили, - с раздражением произнесла она, нащупывая на разгоряченной шее пульс. Однако Матвей, к его несчастью, был еще жив.
- Он в порядке, просто перенервничал, - сухо ответил Родя, выпрямился над обморочным телом во весь рост и хрустнул спиной, - слишком много впечатлений за один раз.
Скептически вскинув бровь, Соня отправилась на кухню. Отыскав багрово-красный графин, она налила воду в стакан и вернулась в зал. Встав над Матвеем, она стянула с него шарф и плеснула водой в лицо. Матвей слабо содрогнулся, приоткрыл глаза и снова понял, где он находится и что происходит. Судя по подавленному виду, в котором читалось желание откупиться от нападающих чем угодно, он наконец дошел до нужной кондиции. Иного Родя и не ожидал. Все наркоторговцы, которых он грабил, вели себя одинаково и претерпевали одну и ту же метаморфозу. Смирившись, они начинали унижаться, отчего внутренняя гадливость Роди лишь набирала силу. Матвей до этого еще не дошел, но Родя был готов поспорить, что исключением он не станет.
- Встань, - приказал он, отложив паяльник остывать на столик. Кинув на Родю особенно мрачный взгляд, Матвей стиснул зубы, искривился и заворочался. С трудом усевшись, он подобрал под себя ноги, кое-как опираясь на связанные за спиной руки, встал на колени и поморщился особенно болезненно. Когда Матвей обрел твердую опору, стало заметно, что он неустойчиво пошатывается.
- Дальше не получается, - пробормотал он с тягостным чувством, чахоточно блестя глазами, - я сразу упаду…
- Ладно, это неважно, - кивнул Родя, - теперь к делу, торгаш. Деньги где?
У Матвея задрожали губы, и он некрасиво всхлипнул. На белом, как бумага, мокром лице контрастными пятнами проступали расцветающий вокруг глаза синяк, разбитая губа, на которой запекалась темно-красная корка, и потек носового кровотечения. Испачканная белая рубашка пестрела мазками уличной пыли и мелкими каплями крови.
«За четыре моря, за четыре солнца…»
- Голос подай, шавка, - грубо сказала Соня, - мы с тобой разговариваем. Тут никого, кроме тебя, нет.
- Вы с ума сошли? – просящим тоном воскликнул Матвей, и в его голосе послышались слезные нотки. – Послушайте, вас же убьют! Даже не я! Если бы всё было так просто, я бы уже давно…
Стиснув зубы, Родя наотмашь ударил его по лицу. Матвей охнул и начал заваливаться набок, но Соня успела схватить его за волосы до того, как он упал.
- Ебало завали, ладушки? – с угрозой проговорила она. – Останешься живой, если не будешь орать. Деньги где?
- В сейфе за картиной, - тихо пробормотал он.
Соня и Родя синхронно покосились на единственную картину, что была в зале. Отскочив от Матвея, как от больного чумой, Соня проворно откатила мешающий кофейный столик и с ногами забралась на диван. Она коснулась темно-бронзовой рамы и несколько раз дернула её на себя, как оконную створку. Картина с тихим щелчком отошла, продемонстрировав бетонный альков с черным сейфом. Кодовый замок и сканер для отпечатков пальцев занимали на массивной дверце крайне мало места и не сразу бросались в глаза.
- Зачем вы так, я бы по-хорошему сказал… - всхлипнул Матвей. – Я же не тупой…
Хмурящийся Родя разрезал ножом пластиковые стяжки на запястьях Матвея и толкнул его в сторону сейфа.
- Открывай, - с непонятной злостью приказал он. Он не желал поворачиваться к Матвею спиной и держал его в поле зрения, хотя тот был деморализован. Соня вольготно расположилась в свободном кресле, закинув ногу на ногу. Вид у неё был крайне непринужденный, словно ей не было до происходящего никакого дела.
Доковыляв до дивана, Матвей неуклюже вскарабкался на него и начал с кодового замка. Затекшие руки, успевшие налиться блеклой, почти неуловимой синевой, крупно тряслись, и пальцы не сразу попадали в нужное место. Однако Матвей справился, и дверца сейфа тихо приоткрылась. Хищнически усмехнувшись, Родя приблизился к дивану и оттолкнул Матвея в сторону, отчего тот повалился на мягкий валик.
- Сиди смирно, понял? – мрачно пригрозил ему Родя. Матвей апатично промолчал, почти не шевелясь, но всё же несмело кивнул.
Со своего места Соня увидела только резкий жест Роди, которым он нараспашку открыл дверцу сейфа и его ошарашенное лицо, пережившее красноречивую метаморфозу. Высоко вскинув брови, Родя попытался несмело улыбнуться, однако улыбка дрогнула и вышла какой-то неуверенной. А потом его взгляд зажегся искренним интересом.
- Что там, что там? – с жаром спросила Соня, подавшись вперед. Вместо ответа Родя лишь указал рукой на сейф. Соня выпрыгнула из кресла, словно внутри её тела разжалась стальная пружина, и прислонилась к спине Роди, обвив руками его торс и упершись подбородком в плечо. Посмотрев перед собой, она замерла и потерянно моргнула. На нижней полке сейфа лежали шесть объемных пакетов, запечатанных в белый пластик, помеченный черными печатями в виде газелей, несущихся в неведомую даль. Неизвестный художник среднеазиатского картеля вложил в печать всю душу и запечатлел газелей в динамике, передав неудержимое дыхание свободы и ширь степных просторов, хотя с утилитарной точки зрения в этом не было никакой необходимости.
На верхней полке хранились деньги. Толстые пачки серо-зеленых стодолларовых банкнот аккуратно лежали друг на друге и слабо пахли свежей бумагой. Полка была забита ими почти полностью – только в углу можно было найти небольшое свободное место. У Сони зарябило в глазах. Подсчитать пачки сходу было сложно. Но их было больше двадцати. И, возможно, больше тридцати.
- Сколько здесь? – повернулся Родя к Матвею, показывая рукой на пачки купюр. Он с досадой понял, что вообще не представляет, какое количество денег может так выглядеть. С еще большей досадой он понял, что вряд ли бы увидел столько денег, если бы выбрал ниву честного труда, и к радости примешалась укоренившаяся в подкорке пролетарская злость.
- Триста восемьдесят тысяч с копейками… - простонал Матвей, явно называя копейками более крупные суммы. – Не убивайте меня, прошу вас, я никому не скажу!
- Заткнись! – прошипел он и страшно округлил налившиеся кровью глаза. – Где еще деньги?!
Матвей отупело посмотрел на него. От неожиданности вопроса он даже отполз назад, . Соня, обнимающая Родю, как плотоядная гурия, ухмыльнулась. Она понимала, что это всего лишь формальность, и вряд ли Матвей сможет отдать им что-то еще, однако для Роди эта формальность была весьма приятной. Вспыхнув ненавистью, унаследованной от многих поколений крепостных крестьян, землепашцев и советских трудящихся, Родя ударил Матвея лицом об колено и скинул на пол.
- Что же ты за сука, а? На мусоров не стыдно работать? Нормально тебе?! – кричал на него Родя, как на провинившуюся собаку.
- У меня больше ничего нет! – взмолился Матвей, сбивчиво выговаривая слова и прижимаясь к боковине кресла. – Перестаньте, пожалуйста…
- Жить захочешь, еще не так заговоришь, да? – хмыкнула Соня. – Чего ты разнылся, выблядок пиздливый? Тебя сейчас бьет не Родя, а кармический бумеранг.
- Хватит! – с новой силой заплакал он, обращаясь то ли к ним, то ли к мироустройству, и отчаянно нырнул окровавленным лицом во вздрагивающие ладони.
- Что ты мямлишь, паскуда? – продолжала Соня. – Где остальные деньги? Куда ты их дел?
- Пожалуйста! – тихо взвыл Матвей. Захлебываясь хриплыми рыданиями, он попытался отползти еще дальше, но лишь сильнее вжался в боковину кресла, продолжая обессиленно перебирать ногами. Монотонный надрыв его просьб и мягкий стук, с которым ботинки бились об паркет, придавали его реакциям легкую неадекватность. Выглядел Матвей сейчас крайне жалко и даже близко не напоминал прожженного барыгу, которого в нем видели подчиненные.
«Пальмы парами на берегу, чайки парами, волны бегут…»
- Он не врет, - деловито подытожил Родя и взял в руки пустой рюкзак, - я соберу наличку, можешь пока побазарить с этой мусорской блядью.
Успокоившись, он начал складывать в рюкзак пухлые пачки долларов, которые теперь – и это было совершенно ясно – принадлежали им. Отпустив его, Соня вернулась обратно в кресло, поджала ноги под себя и потянулась, раскинув руки в стороны, словно её переполняли утренняя нега и удовольствие от золотых лучей восходящего солнца.
- И что, кокаин сильнее мефа? – спросила она, свысока посмотрев на оцепеневшего Матвея. Привалившись к боковине кресла, он опустошенно смотрел перед собой и держался за голову, словно что-то внутри неё въедливо болело. Услышав Соню, он нехотя повернулся к ней и ответил, потупившись:
- Нет.
- Ну и нахер ты столько за него платишь?
- Он придает уверенность.
- То, что доктор прописал, как раз для тебя, - осклабилась она, - ты сам по себе лоховатый был, а стал еще хуже. Без кокса ты очень жалкий, только сопли пускаешь.
Матвей хотел что-то сказать, но болезненно поморщился.
- Что, мигрень настигла в самый неподходящий момент? – улыбнулась Соня, склонив голову набок.
- Да, - тихо ответил он сквозь стиснутые зубы.
- Хочешь, я разрешу тебе закинуться таблеточкой? – со злорадством спросила она, указав на блистер, валяющийся в отдалении. – Но сначала ты должен…
- Не нужно, - отчужденно произнес Матвей.
Опустошив сейф и не тронув лишь героин, который был им без надобности, Родя наполовину застегнул молнию рюкзака и закинул его на плечо. Его глаза лоснились садистским предвкушением, причина которого была понятна только Соне, осведомленной об его планах насчет Матвея. Тот пока ещё ни о чем не подозревал. Повернувшись к Матвею, Родя выхватил из-за пояса «макаров» и направил на него. Матвей не успел ничего понять, но машинально поднял руки. А потом секунда замешательства прошла, и он основательно всё осмыслил.
- Извинись передо мной напоследок, Мотя, - с елейным сочувствием произнесла Соня, окинув его торжествующим взглядом, - кто знает, может, на том свете зачтется. Какая-никакая, а все-таки луковка.
- Вы обещали, что не будете… - пролепетал Матвей. Его побелевшее лицо слезливо дернулось, а губы скорбно искривились. Соня покачала головой, вложив в этот жест всю возможную укоризну:
- Ты мне тоже много чего обещал, и что? Нам об тебя руки замарать не жалко, ты же наркотой торгуешь. И если хочешь знать, золотце, это я тогда твой адрес слила и сдала тебя «Антидилеру». Ты прекрасно помнишь эти события, не так ли?
Матвей вскинул на неё потемневшие глаза, словно на миг забыл про Родю, который прямо сейчас целился в него. Заметив это, Родя повел пистолетом и прикрикнул:
- А ну не рыпайся!
Матвей втянул голову в плечи, несмело сглотнул и поднял руки чуть выше. Он не перестал оглядывать налетчиков, однако теперь делал это исподлобья и с покорностью, порожденной нарастающим страхом.
- Да вали ты его уже! Или ты в самый ответственный момент зассал, как тварь какая-то? – не выдержала Соня. Родя медленно перевел взгляд на неё и задумчиво хмыкнул, сверкнув золотой коронкой.
- А ведь торгаш прав, - самоуверенно произнес он, - наверное, не стоит так спешить.
Шагнув вперед, он направил пистолет на Соню. Сдавленно вскрикнув, она вскинула руки и застыла. Мелькнули запоздалые мысли, что она сидит не в самой удобной для побега позе – излишне домашней и изнеженной, что её карманный револьвер остался в сумке, которую она так недальновидно кинула на другое кресло, что кофейный столик с увесистой бутылкой коньяка находится слишком далеко. Да и не было бы от бутылки никакого толку.
- Ты охренел? – воскликнула Соня. – Я рассказала тебе про этого пидора! Без меня ты бы ни до чего не додумался!
- Это мои деньги, и я выйду отсюда один, - равнодушно сообщил Родя и кивком головы указал на Матвея, - вот только с ним поговорю сначала. Он мне битков купит, и меня уже никто не найдет. Битки быстро придут, это тебе не банк. Не сомневайся, он купит. Он теперь сговорчивый.
- Ты с самого начала!.. – выпалила Соня, задохнувшись от негодования.
- Купишь ведь, торгаш? – посмотрел Родя на Матвея, который до сих пор сидел в прежней позе. – Если не будешь брыкаться, я тебя даже не убью. Просто свяжу и закину в ванну. Или сам выберешься, или кто-нибудь найдет. Нормальный расклад? Я тебя не кину, как эта гепатитная тварь.
- Не верь ему! – истошно закричала Соня. – Он тебя утопит!
Матвей будто не услышал её. Он часто закивал, глядя на Родю снизу вверх, и опасливо опустил руки. На миг в его лице промелькнула маниакальная радость, которая в сочетании с поблескивающими глазами и бледной, натянутой улыбкой, придала ему несколько нездоровый вид. Удовлетворенно кивнув, Родя снова обратил внимание на Соню.
- Ты задолбала мне мозги выносить. Раз я при любом раскладе крайний, зачем мне с тобой делиться? – яростно процедил он, сделав еще один шаг вперед. – И зачем куда-то с тобой ехать, если мне и одному будет хорошо? Даже лучше, чем с тобой, блядина!
Краем глаза Соня уловила странное движение за его спиной. Матвей, совсем недавно рыдавший в истерике, медленно тянул руку под кресло, к которому всё это время так усердно жался. Нырнув в темноту, рука выскользнула обратно. В хватке татуированных пальцев безжизненно блеснуло лезвие ножа – длинное, широкое, с заточенной кромкой. Матвей сверлил спину Роди тяжелым ненавидящим взглядом и напоминал не самое сильное, зато хорошо приспосабливающееся животное, которое намеревалось пройти естественный отбор.
- Нельзя же так, Роденька… Мы собирались уехать вместе, мы же любим друг друга, в конце концов… - жалобно заныла Соня, поддерживая диалог. Нельзя было допустить, чтобы Родя обернулся.
Наверное, он мог бы возразить, что любви толком не было, что мечта о совместной жизни изначально звучала глупо, что не стоило даже надеяться на хороший исход. Но сделать этого Родя не успел. Резво, будто его почти не били, Матвей вскочил и оказался у него за спиной. Первый удар, пришедшийся в основание шеи, подкосил Родю, как срезанный колос. После второго удара, который последовал сразу за первым, он рухнул на паркет, окатив Соню кровавой струей из перерезанного горла. Ослабшие пальцы выронили пистолет, а из наполовину застегнутого рюкзака с шелестом вывалились пухлые пачки денег. Мертвый Родя лежал, вывернув голову под неестественным углом, а под его вскрытым горлом расползалась ярко-алая лужа. Оказавшиеся на её пути банкноты медленно пропитывались кровью. Задорно звучало крохотное радио.
Там цветут цветы и сладкие ночи,
Там твои, мои, любые мечты…
Соня застыла, хотя древние рефлексы требовали бежать. Чужая теплая кровь бисерными каплями стекала по её лицу, неспешно стыла на черных локонах, влажно пропитывала одежду. Прихрамывающий Матвей стоял над трупом. Спутанные светлые волосы неаккуратными штрихами падали на ошалелое землисто-белое лицо, припухающее отметинами избиения, а свисающий брючный лоскут обнажал участок кожи с мясисто-красными мазками ожогов. Матвей крепко сжимал в руке окровавленный нож и вглядывался в труп, будто хотел рассмотреть в его глазах что-то исчезающее.
Соня опасливо опустила ноги, и каблуки туфель тихо стукнулись об паркет. Матвей резко повернул голову и Соня поняла, что теперь он смотрит на неё. Перешагнув через труп, Матвей мыском ботинка толкнул «макаров» под диван, и тот скрылся из виду, оставив на полу смазанный алый след. Намерения Матвея были очевидны.
Конечно, Соня могла убежать в кухню, запереться на щеколду и выбраться через окно - спасаться с третьего этажа было явно проще, чем с девятого. Побег мог окончиться успешно, если бы Матвей сейчас был беспомощным из-за полученных побоев. Вот только мешал один нюанс. Матвей, кажется, таковым не был. Он был проворным, целеустремленным и слишком спокойным. И образовавшийся труп не очень-то его волновал.
Матвей, который совсем недавно истошно рыдал, ползал по полу и умолял оставить его в живых, держался именно так, как и должен был держаться беспринципный наркоторговец и старший внешний сотрудник, опекаемый полковником Жаровым. Его нетрезвые подчиненные не ошибались в своих оценках.
- Ты же ходить не мог! Ты же плакал, у тебя голова болела! – придушенно выпалила Соня, наконец заметив несоответствие. По нервам побежала дрожь, тело налилось свинцовой тяжестью. Родя больше не представлял опасности, однако теперь ей стал измученный Матвей, которого Соня изначально считала менее угрожающим.
- Я почти не притворялся. Вы пытали меня, мне было очень больно, - сдержанно произнес Матвей. Нож в его руке сверкнул сонным отблеском люстры. Испачканная кровью белая манжета, выступающая из-под рукава пиджака, неприятно контрастировала с длинными костлявыми пальцами, явно принадлежащими наркоману, и посиневшими от времени эзотерическими партаками. Внутренней сутью порыв Матвея ничем не отличался от порыва оскорбленного до глубины души урки.
- Ты обманул меня!
- Всего лишь показал то, что вы хотели увидеть. Я вас знаю, как облупленных, - продолжил Матвей холодным тоном, переступив через пролившуюся кровь и рассыпавшиеся деньги, - ты никогда не отличалась наблюдательностью. Особенно в отношении мужчин. В какой-то момент ты начинаешь считать, что мужчина перед тобой заискивает, и это портит все твои расчеты.
Соня пыталась преодолеть ватное онемение в конечностях, но оно не желало сменяться подгоняющим страхом, отравляя мысли, которые опережали друг друга и были более чем здравыми, однако, к сожалению, запоздавшими. Припадая на поврежденную ногу, Матвей медленно приближался к Соне, как подкрадывающийся степной паук. Неровный перестук его шагов отсчитывал ускользающие секунды.
- Вы оба ничего не сделали, чтобы заработать эти деньги, - процедил Матвей, пристально глядя на неё, - ничего не сделали. А я – сделал. И ты даже не представляешь, какие мне приходилось принимать решения. Я столько раз переступал через себя и унижался, а вы решили получить мои деньги просто так, убив всего лишь один раз? Затратив гораздо меньше моральных усилий, чем я? Думаешь, мне сложно будет добить тебя наконец, раз ты сама никак не помрешь?
- Пожалуйста, Гера, давай договоримся… - сбивчиво пролепетала она.
- Я думал, что ты передознешься, а ты до сих пор живая. Рожденный сгореть не утонет, да Соня? – иронически усмехнулся он.
Теперь их разделяли три шага. Труп одного молодого мужчины, который при жизни пребывал в полном расцвете сил, покоился в луже собственной крови, а другой молодой мужчина, силы которого были ничуть не хуже, стоял перед оцепеневшей Соней.
Адреналин ударил в голову, и ступор бесследно исчез. Соня рванулась в сторону коридора. Матвей метнулся следом, рухнул на неё всем своим весом, и они с грохотом упали на пол. Матвей навалился на Соню, как при половом акте и заткнул ей рот предплечьем свободной руки. Впившись зубами в пиджачную ткань, Соня задергалась под Матвеем и истошно завопила в рукав. Матвей оскалился и начал работать ножом. Удары следовали друг за другом без остановки, словно механические судороги швейной машинки, которая била иглой по сукну. Лезвие разрывало ткань платья, то неудачно соскальзывая по ребрам, то вспарывая нежный и податливый живот.
Вопли Сони становились всё тише. Её сопротивление угасло после десятого удара, однако Матвей остановился лишь тогда, когда нанес двадцать восьмой. Тряхнув головой, он отогнал аффект и медленно выпрямился. Рубашка и брюки, промокшие от крови, неприятно липли к телу. Жирные красные капли срывались с кончика ножа и падали на паркет. Звуки окружающего мира заглушал безмолвный белый звон, от которого распухала голова.
Матвей посмотрел на Соню трезвым взглядом и явственно ощутил, как по спине пробежал гнилой холодок. Соня лежала в расплывающейся багровой луже, глаза скрывались под дымчато-синими веками, а из темного провала рта вязко стекала кровь. Рваная черная ткань, искромсанная кожа и кровоточащие раны, сквозь которые маслянисто проглядывали петли кишок, складывались в черно-красный калейдоскоп.
Наклонившись к Соне уже с меньшей смелостью, Матвей аккуратно вонзил нож под её правое ребро, целясь в печень, и провернул лезвие в ране. Плоть вязко хлюпнула, однако Соня даже не пошевелилась. Она была окончательно и бесповоротно мертва.
Матвей шумно выдохнул и отступил от трупа. Марево аффекта плавно сходило на нет, возвращая полноту ощущений, и первым делом Матвей ощутил боль. Он попытался понять, что именно у него болит, однако определить источник боли оказалось сложно. Изнуренность давила на плечи железной массой, Матвею казалось, что он и сам вот-вот упадет. Почти все силы ушли на первый удар, с которым нельзя было оплошать, в который нужно было вложить всю возможную фатальность. Матвею повезло: этот экзамен он сдал.
Он окинул взглядом разлитую по полу кровь, испачканную мебель и одну из стен, на ярко-синем колере которой красовалась россыпь темных брызг, выплеснувшихся из шеи Роди. К горлу подкатила тошнота, и Матвей поспешно зажал рот ладонью. От осознания того, что у него в квартире находятся два мертвеца, которых он убил собственными руками, стало физически дурно, однако позыв удалось сдержать.
Вместе с позывом к тошноте вернулись звуки окружающего мира. Глухой шорох дождя за окнами, гулкие сигналы автомобильного потока и голосящая музыка, которую передавало радио, навалились на Матвея со всех сторон, как удушающий кокон. Он подошел к кофейному столику и выключил радио. Взяв напоследок особенно трогательную ноту, оно умолкло.
«Нужно что-то делать…» - механически подумал Матвей. Он кинул на пол окровавленный нож, в котором больше не было надобности, и тот упал, тихо звякнув сталью. Покосившись на перекошенное лицо Сони, Матвей поморщился. В отличие от Роди он помнил её живой, и смотреть на неё было гораздо неприятнее. Он снял пиджак и накрыл им Соню. Приталенный пиджак, который несколько месяцев назад изящно сидел на манекене и сверкал дороговизной, лег на окровавленное лицо трупа комковатыми складками.
У Матвея проскользнула параноидальная мысль, что налетчики могут быть мертвы не до конца, но он сразу же отмел её как слишком фантастичную и поковылял в ванную, чтобы помыть руки. Жидкое мыло пахло апельсином, а вокруг слива кружила розовато-кровянистая водная вуаль, смешанная с бледно-коралловой пеной.
Насухо вытерев руки, Матвей вернулся в зал, прихватил со столика бутылку коньяка и рухнул в единственное чистое кресло. Отвинтив подрагивающими пальцами пробку, он сделал несколько крупных глотков, от которых задергался острый кадык, и почти не ощутил вкуса, хотя горло обожгло спиртом.
Матвей поставил бутылку рядом с креслом и скорбно искривился. Ему вспомнилась мучительная смерть Булыгина, и ему вдруг стало очень жаль себя.
До девяти часов вечера оставалось десять минут. Соня была сама нервозность. Сидя на полу, она прислонялась спиной к стене коридора и напряженно вслушивалась в звуки, то и дело доносящиеся из парадной, однако предвкушение сбивало её с толку и заставляло принимать за человеческие шаги абсолютно всё, что только улавливал слух. Время от времени она порывалась грызть ногти, но крупные зубы останавливались, наталкиваясь на прохладный латекс медицинских перчаток, и Соня меняла цель, принимаясь мять пальцами подол черного платья с широким капюшоном, который сейчас полностью скрывал её голову и лицо. В коридоре квартиры, принадлежащей Эмме Витальевне Романовой, она сидела уже полчаса. Бледные ноги, обтянутые черными чулками с алыми гвоздиками, неизбежно затекали, и Соня постоянно меняла позу, стуча по ламинату сиреневыми туфлями. На плече у Сони висела объемная сумка с вещами.
Родя тоже нервничал, но совсем иначе: он ходил по коридору, как полный энергии молодой пёс, и поминутно припадал к дверному глазку. Не видя ничего, что могло бы его заинтересовать, он отступал от двери и осматривал оружие – то вынимал из карманов нож-бабочку и электронный паяльник, чтобы окинуть их сосредоточенным взглядом, то доставал из-за пояса спортивных штанов «макаров» со стертым номером, который потом прятал обратно, драпируя мешковатой олимпийкой.
Хотя пистолет был заряжен, пускать его в ход Родя не планировал. Пистолет нужен был только для эффектности и на тот случай, если всё пойдет не так, а убийство Матвея нужно было обставить тихо, не привлекая внимания выстрелом. Родя собирался утопить связанного Матвея в ванной, заткнув слив и включив воду, чтобы как следует посмаковать его панику, вызванную видом подступающей воды, и стоны отчаявшегося человека. Он считал это достойным эквивалентом предсмертным мучениям Кирилла, который, как показали результаты вскрытия, ушел на морское дно не совсем убитым.
Эмму Витальевну Родя уговорил лечь в больницу на обследование, чтобы она в этот день ненароком им не помешала. А до этого две недели здоровался с Матвеем, который жил в соседней от него квартире. Здоровался он скупо, чтобы не показаться навязчивым и не вызвать подозрений. Было ясно, что Матвей намеренно снял квартиру в парадной, куда посторонние обычно не ходят. Решение оказалось почти правильным. Посторонние ему, конечно же, навредить не могли.
Чуть позже девяти по ту сторону двери раздался приближающийся стук. Звонко и размеренно били по ступеням каблуки ботинок. Жадно припав к глазку, Родя с мрачным видом показал Соне большой палец, потянул дверь на себя и высунул голову наружу. Из парадной пахнуло весенним озоном. Не шевелясь и почти не дыша, чтобы не выдать свое присутствие, Соня приникла к образовавшейся щелке. Темные кромки ограничивали обзор до узкого кадра, в который задумчиво вошел пошмыгивающий Матвей. Выглаженные брюки, белая рубашка и черный приталенный пиджак сочетались с хмурой миной крайне неудачно: складывалось впечатление, что Матвей вернулся не то с похорон, не то с собеседования. Его волосы и одежда были чуть влажными от дождя, а в левой руке он держал небольшой пакет с зелеными яблоками. Соня закусила губу.
- Привет… Ты не видел Эмму Витальевну? – послышался по ту сторону двери голос Роди, звенящий весьма правдоподобной тревогой. – Во дворе?
- Эмму Витальевну? – недоуменно переспросил Матвей, повернувшись на звук.
- Мою бабушку. Я проснулся, а в квартире газом пахнет и бабушки нет, - вдохновенно врал Родя, - плиту я выключил, а вот куда она пошла…
- Это ужасно, - сказал Матвей безличным тоном, который доказывал, что на самом деле ему всё равно, - нет, во дворе я её не видел.
Отвернувшись и дав понять, что больше ему сказать нечего, он достал из кармана пиджака связку ключей и начал открывать железную дверь, которая вела в его квартиру. Соня ощутила участившиеся удары сердца, напряглась и впилась в Матвея взглядом.
- Ладно, на улице поищу… - задумчиво пробормотал Родя. Его сухощавое туловище в синем спортивном костюме полностью скрылось за дверью, а потом он появился в кадре и медленно направился к лестнице. Оказавшись за спиной у Матвея, который поворачивал ключ в замке, Родя бесшумно метнулся к нему и сноровисто обвил шею сгибом локтя. Пакет с яблоками упал на пол, одно из них выкатилось из развязавшейся горловины и уткнулось в гранитную ступень. Матвей захрипел, задергался, пытаясь вырваться из удушающего замка, но быстро обмяк и начал оседать на пол. Деловито подхватив обморочное тело, Родя затащил Матвея в его же квартиру. В кадре снова стало пусто.
Закинув на плечо сумку, Соня вышла из укрытия, закрыла за собой дверь и подобрала яблоки. Потом вздохнула, набирая полную грудь воздуха, и шагнула в темную прихожую, где смутно виделись два силуэта. Положив яблоки на коврик, она заперлась изнутри, предварительно забрав ключи, и включила свет. Вспыхнул фиалково-алый светильник, и из сумрака выступила длинная прихожая с двумя дверями и квадратной аркой, за которой темнела густая синева стены.
- Минут десять поспит, - мрачно объяснил Родя, натягивая медицинские перчатки. Склонившись над Матвеем, который без сознания валялся на полу, Родя перекатил его набок, стянул запястья рук, заведенные за спину, пластиковыми стяжками и заткнул рот шарфом, на середине которого заранее был завязан массивный узел. Родя проделывал такое далеко не впервые, и процедура была доведена до автоматизма. У Роди был собственный почерк налетчика.
Легко улыбнувшись, Соня прошла под квадратной аркой и нашарила рукой выключатель. Ярко загорелась люстра, и по глазам ударили ярко-синие стены с ядовито-алыми шторами, которые сейчас были глухо задернуты. Поморщившись от света, Соня откинула капюшон и осмотрелась. По одну стену виднелся телевизор с игровой приставкой, по другую располагались диван, два кресла и кофейный столик на колесиках. На столике мерцала бутылка коньяка «Camus», на округлых боках которой играли темно-рыжие блики, а над диваном висела неожиданно мрачная для открывшейся обстановки картина, изображающая пшеничное поле, могильный крест и уродливых мутантов.
Соня извлекла из сумки пустой рюкзак, в который они планировали сложить деньги, и кинула его на одно из кресел. Положив рядом и сумку, она повернулась к входу. Появился Родя, который тащил связанного Матвея за плечи. Долговязое тело безвольно свисало, а ноги волочились по паркету, тихо шурша ботинками и оставляя влажный след. Подтащив Матвея к центру зала, Родя швырнул его на пол, как мешок с ветошью. Матвей завалился на бок, не открывая глаз и сохраняя мерное дыхание спящего.
- А он не захлебнется? – настороженно спросила Соня. Её глаза невольно забегали из стороны в сторону. От предельной реальности их действий ей стало не по себе.
- Чем?
- Слюной, - пробормотала она.
- Так он же на боку лежит, - пожал плечами Родя, - я всегда так делаю, и никто пока не умер.
Нахмурившись, он принялся шарить по карманам Матвея, проигнорировав часы с треснутым стеклом циферблата. Сначала он извлек черный бумажник, початый блистер колдемикста, а потом и удостоверение в темно-красной корочке, на которой переливалась золотистым эмблема ФСКН.
- Грязев Матвей Германович, - прочитал вслух Родя, раскрыв служебное удостоверение, - старший внешний сотрудник… Ага, так и есть. Жаров точно кукухой поедет.
Отбросив удостоверение и блистер в сторону, Родя обнаружил в бумажнике три кредитные карты и без промедления кинул их туда же. Тащить Матвея к банкомату было слишком рискованно. Обналичивать деньги самим не следовало из-за камер с распознаванием лиц. Заставлять Матвея обналичивать деньги через банк было совсем уж глупо, потому что банк, когда речь заходила о снятии крупных сумм, требовал подождать хотя бы сутки. Суток у них не было. В их распоряжении было всего три часа. В полночь от площади Народной Воли отчаливал паром, на который они уже купили билеты.
Соня и Родя переглянулись: никому из них не хотелось браться за Матвея первым. К счастью, решать им не пришлось – Матвей пришел в себя сам. Он несмело зашевелился, и лицо странно исказилось непониманием, которое свойственно первым минутам пробуждения. Взгляд Матвея проследовал по витиеватой траектории. Заметив Родю с Соней и осознав свое скверное положение, он вздрогнул и панически взвыл.
Теперь плошать было уже нельзя. Склонившись над Матвеем, Родя с силой сдавил рукой его горло:
- Тихо, торгаш, тихо. Не рыпайся, а то удавлю. Я по-всякому умею душить, а тебя насмерть задушу. Общественность меня всё равно оправдает, потому что ты барыга, а сидеть я не боюсь.
Посыл был предельно ясен. Матвей замер и замолчал, распахнув почерневшие от страха глаза. Он шумно и тяжело дышал, как выбившееся из сил животное.
- Просто чтобы ты понял серьезность наших намерений. Мы в курсе, что ты связан с невским синдикатом, и это нас, как видишь, не остановило, - жестко улыбнулась Соня, медленно и развязно подойдя к нему. Её отчетливая тень упала на его побелевшее лицо.
- Придется подергаться, сучонок Асфара Юнусовича, - ухмыльнулся Родя, закатывая рукава олимпийки, - до него я добраться не могу, а до тебя могу. Не обижайся, ничего личного.
Матвей машинально рванулся куда-то назад, но Родя схватил его за воротник рубашки и ударил кулаком в глаз. Родя избивал с оттяжкой, искренне, ощущая чистую детскую радость, а Матвей беспомощно скулил в шарф. Перед каждым новым ударом он зажмуривал глаза, тяжело втягивал носом воздух и пытался отстраниться.
Соня по-кошачьи прищурилась. Расплывшись в довольной улыбке, которая превратила её лицо в блин, она достала из сумки миниатюрное радио, похожее на зеленую мыльницу, поставила его на край кофейного столика и включила свою излюбленную станцию с ретро-поп-музыкой, которая сопровождала своими синтетическими переливами российские нулевые годы. Сегодня её применение было более низким и утилитарным: музыка должна была сглаживать неприглядное мычание, ассоциирующееся исключительно с насилием и пытками.
Когда Родя принялся бить ногами, Матвей не вытерпел и глухо разрыдался – то ли от боли, то ли от беспомощности. Лишившись сил, он перестал вырываться и скорчился на полу, заливая слезами лицо, по которому стекала теплая кровь. Стремление избежать смерти плохо сочеталось с невозможностью это сделать и телом, которое ослабло под напором чужой агрессии.
Добившись желаемого эффекта, Родя нарочито неспешно вынул из кармана нож-бабочку и оголил его узкое сверкающее лезвие. При виде ножа Матвея прошибло отчаянной судорогой. Он попытался отползти, отбросив рациональные решения и положившись на рефлекторные механизмы выживания. Родя устало вздохнул, схватил его за лацкан пиджака и вернул на место. Усевшись на ноги Матвея, чтобы тот никуда не уполз, он молча, с недоброй улыбкой продемонстрировал ему лезвие ножа. Матвей затравленно простонал и дернулся, стукнувшись затылком об пол. Женщина, уже давно скончавшаяся от рака, с ностальгической тоской пела про ушедшую любовь, белый песок у моря и теплый ветер.
- Я помогу тебе, - нежно произнесла Соня. Усевшись напротив Роди, она подогнула под себя ноги и крепко обхватила Матвея за локти, притягивая к своему корпусу. Затылок Матвея уперся в её теплый живот, скрытый платьем. Погладив его по спутанным волосам, она зажала ему рот ладонью поверх кляпа.
Проделав разрез в одной из штанин Матвея, Родя рванул ткань в стороны и обнажил бледную ляжку, скудно поросшую светлыми волосками. Соня ощутила, как у неё под ладонью мелко задрожал чужой подбородок. Родя демонстративно сменил инструмент. Отложив нож, он достал из другого кармана электронный паяльник. Моргнув заплаканными глазами, под одним из которых наливался первичной краснотой синяк, Матвей горестно всхлипнул.
- Давай проверим твою выносливость, - хмыкнул Родя, настраивая температуру, - сейчас я буду делать тебе больно, а ты постараешься не орать слишком громко. Если вывезешь на силе воли, я не отрежу тебе пальцы. Отличная сделка, да, Герыч?
У Матвея дернулся подбитый глаз, словно он мимоходом заглянул им в потусторонние эмпиреи и тут же с ужасом вынырнул обратно. Сглотнув, он опасливо кивнул. Родя с энтузиазмом радиолюбителя прижал толстое жало паяльника к голой коже. Матвей задрожал и сдавленно заплакал, закатив от боли глаза. Соня учуяла запах горелого мяса, который исходил от глубокой рытвины, образованной сварившимся белком.
Одним ожогом Родя не ограничился. Выдержка Матвея неумолимо иссякала. Лишаясь четкого осознания, он трясся и неистово дергался, будто паникующая птица, запутавшаяся в силках. То ли усугубляя его страдания, то ли оказывая добрую услугу, Соня зажимала ему еще и нос, когда крики угрожали стать особенно громкими. То и дело Матвей проваливался в обморок, но Соня лупила его по щекам, и ему приходилось возвращаться в себя.
Ограничившись пятью подходами, Родя засмеялся и поднес паяльник к лицу Матвея. Беспомощно замычав, тот в очередной раз закатил глаза и потерял сознание. Соня устремила на Родю мрачный взгляд, вырвавшийся из-под густых ресниц.
- Очень надеюсь, что мы его не угробили, - с раздражением произнесла она, нащупывая на разгоряченной шее пульс. Однако Матвей, к его несчастью, был еще жив.
- Он в порядке, просто перенервничал, - сухо ответил Родя, выпрямился над обморочным телом во весь рост и хрустнул спиной, - слишком много впечатлений за один раз.
Скептически вскинув бровь, Соня отправилась на кухню. Отыскав багрово-красный графин, она налила воду в стакан и вернулась в зал. Встав над Матвеем, она стянула с него шарф и плеснула водой в лицо. Матвей слабо содрогнулся, приоткрыл глаза и снова понял, где он находится и что происходит. Судя по подавленному виду, в котором читалось желание откупиться от нападающих чем угодно, он наконец дошел до нужной кондиции. Иного Родя и не ожидал. Все наркоторговцы, которых он грабил, вели себя одинаково и претерпевали одну и ту же метаморфозу. Смирившись, они начинали унижаться, отчего внутренняя гадливость Роди лишь набирала силу. Матвей до этого еще не дошел, но Родя был готов поспорить, что исключением он не станет.
- Встань, - приказал он, отложив паяльник остывать на столик. Кинув на Родю особенно мрачный взгляд, Матвей стиснул зубы, искривился и заворочался. С трудом усевшись, он подобрал под себя ноги, кое-как опираясь на связанные за спиной руки, встал на колени и поморщился особенно болезненно. Когда Матвей обрел твердую опору, стало заметно, что он неустойчиво пошатывается.
- Дальше не получается, - пробормотал он с тягостным чувством, чахоточно блестя глазами, - я сразу упаду…
- Ладно, это неважно, - кивнул Родя, - теперь к делу, торгаш. Деньги где?
У Матвея задрожали губы, и он некрасиво всхлипнул. На белом, как бумага, мокром лице контрастными пятнами проступали расцветающий вокруг глаза синяк, разбитая губа, на которой запекалась темно-красная корка, и потек носового кровотечения. Испачканная белая рубашка пестрела мазками уличной пыли и мелкими каплями крови.
«За четыре моря, за четыре солнца…»
- Голос подай, шавка, - грубо сказала Соня, - мы с тобой разговариваем. Тут никого, кроме тебя, нет.
- Вы с ума сошли? – просящим тоном воскликнул Матвей, и в его голосе послышались слезные нотки. – Послушайте, вас же убьют! Даже не я! Если бы всё было так просто, я бы уже давно…
Стиснув зубы, Родя наотмашь ударил его по лицу. Матвей охнул и начал заваливаться набок, но Соня успела схватить его за волосы до того, как он упал.
- Ебало завали, ладушки? – с угрозой проговорила она. – Останешься живой, если не будешь орать. Деньги где?
- В сейфе за картиной, - тихо пробормотал он.
Соня и Родя синхронно покосились на единственную картину, что была в зале. Отскочив от Матвея, как от больного чумой, Соня проворно откатила мешающий кофейный столик и с ногами забралась на диван. Она коснулась темно-бронзовой рамы и несколько раз дернула её на себя, как оконную створку. Картина с тихим щелчком отошла, продемонстрировав бетонный альков с черным сейфом. Кодовый замок и сканер для отпечатков пальцев занимали на массивной дверце крайне мало места и не сразу бросались в глаза.
- Зачем вы так, я бы по-хорошему сказал… - всхлипнул Матвей. – Я же не тупой…
Хмурящийся Родя разрезал ножом пластиковые стяжки на запястьях Матвея и толкнул его в сторону сейфа.
- Открывай, - с непонятной злостью приказал он. Он не желал поворачиваться к Матвею спиной и держал его в поле зрения, хотя тот был деморализован. Соня вольготно расположилась в свободном кресле, закинув ногу на ногу. Вид у неё был крайне непринужденный, словно ей не было до происходящего никакого дела.
Доковыляв до дивана, Матвей неуклюже вскарабкался на него и начал с кодового замка. Затекшие руки, успевшие налиться блеклой, почти неуловимой синевой, крупно тряслись, и пальцы не сразу попадали в нужное место. Однако Матвей справился, и дверца сейфа тихо приоткрылась. Хищнически усмехнувшись, Родя приблизился к дивану и оттолкнул Матвея в сторону, отчего тот повалился на мягкий валик.
- Сиди смирно, понял? – мрачно пригрозил ему Родя. Матвей апатично промолчал, почти не шевелясь, но всё же несмело кивнул.
Со своего места Соня увидела только резкий жест Роди, которым он нараспашку открыл дверцу сейфа и его ошарашенное лицо, пережившее красноречивую метаморфозу. Высоко вскинув брови, Родя попытался несмело улыбнуться, однако улыбка дрогнула и вышла какой-то неуверенной. А потом его взгляд зажегся искренним интересом.
- Что там, что там? – с жаром спросила Соня, подавшись вперед. Вместо ответа Родя лишь указал рукой на сейф. Соня выпрыгнула из кресла, словно внутри её тела разжалась стальная пружина, и прислонилась к спине Роди, обвив руками его торс и упершись подбородком в плечо. Посмотрев перед собой, она замерла и потерянно моргнула. На нижней полке сейфа лежали шесть объемных пакетов, запечатанных в белый пластик, помеченный черными печатями в виде газелей, несущихся в неведомую даль. Неизвестный художник среднеазиатского картеля вложил в печать всю душу и запечатлел газелей в динамике, передав неудержимое дыхание свободы и ширь степных просторов, хотя с утилитарной точки зрения в этом не было никакой необходимости.
На верхней полке хранились деньги. Толстые пачки серо-зеленых стодолларовых банкнот аккуратно лежали друг на друге и слабо пахли свежей бумагой. Полка была забита ими почти полностью – только в углу можно было найти небольшое свободное место. У Сони зарябило в глазах. Подсчитать пачки сходу было сложно. Но их было больше двадцати. И, возможно, больше тридцати.
- Сколько здесь? – повернулся Родя к Матвею, показывая рукой на пачки купюр. Он с досадой понял, что вообще не представляет, какое количество денег может так выглядеть. С еще большей досадой он понял, что вряд ли бы увидел столько денег, если бы выбрал ниву честного труда, и к радости примешалась укоренившаяся в подкорке пролетарская злость.
- Триста восемьдесят тысяч с копейками… - простонал Матвей, явно называя копейками более крупные суммы. – Не убивайте меня, прошу вас, я никому не скажу!
- Заткнись! – прошипел он и страшно округлил налившиеся кровью глаза. – Где еще деньги?!
Матвей отупело посмотрел на него. От неожиданности вопроса он даже отполз назад, . Соня, обнимающая Родю, как плотоядная гурия, ухмыльнулась. Она понимала, что это всего лишь формальность, и вряд ли Матвей сможет отдать им что-то еще, однако для Роди эта формальность была весьма приятной. Вспыхнув ненавистью, унаследованной от многих поколений крепостных крестьян, землепашцев и советских трудящихся, Родя ударил Матвея лицом об колено и скинул на пол.
- Что же ты за сука, а? На мусоров не стыдно работать? Нормально тебе?! – кричал на него Родя, как на провинившуюся собаку.
- У меня больше ничего нет! – взмолился Матвей, сбивчиво выговаривая слова и прижимаясь к боковине кресла. – Перестаньте, пожалуйста…
- Жить захочешь, еще не так заговоришь, да? – хмыкнула Соня. – Чего ты разнылся, выблядок пиздливый? Тебя сейчас бьет не Родя, а кармический бумеранг.
- Хватит! – с новой силой заплакал он, обращаясь то ли к ним, то ли к мироустройству, и отчаянно нырнул окровавленным лицом во вздрагивающие ладони.
- Что ты мямлишь, паскуда? – продолжала Соня. – Где остальные деньги? Куда ты их дел?
- Пожалуйста! – тихо взвыл Матвей. Захлебываясь хриплыми рыданиями, он попытался отползти еще дальше, но лишь сильнее вжался в боковину кресла, продолжая обессиленно перебирать ногами. Монотонный надрыв его просьб и мягкий стук, с которым ботинки бились об паркет, придавали его реакциям легкую неадекватность. Выглядел Матвей сейчас крайне жалко и даже близко не напоминал прожженного барыгу, которого в нем видели подчиненные.
«Пальмы парами на берегу, чайки парами, волны бегут…»
- Он не врет, - деловито подытожил Родя и взял в руки пустой рюкзак, - я соберу наличку, можешь пока побазарить с этой мусорской блядью.
Успокоившись, он начал складывать в рюкзак пухлые пачки долларов, которые теперь – и это было совершенно ясно – принадлежали им. Отпустив его, Соня вернулась обратно в кресло, поджала ноги под себя и потянулась, раскинув руки в стороны, словно её переполняли утренняя нега и удовольствие от золотых лучей восходящего солнца.
- И что, кокаин сильнее мефа? – спросила она, свысока посмотрев на оцепеневшего Матвея. Привалившись к боковине кресла, он опустошенно смотрел перед собой и держался за голову, словно что-то внутри неё въедливо болело. Услышав Соню, он нехотя повернулся к ней и ответил, потупившись:
- Нет.
- Ну и нахер ты столько за него платишь?
- Он придает уверенность.
- То, что доктор прописал, как раз для тебя, - осклабилась она, - ты сам по себе лоховатый был, а стал еще хуже. Без кокса ты очень жалкий, только сопли пускаешь.
Матвей хотел что-то сказать, но болезненно поморщился.
- Что, мигрень настигла в самый неподходящий момент? – улыбнулась Соня, склонив голову набок.
- Да, - тихо ответил он сквозь стиснутые зубы.
- Хочешь, я разрешу тебе закинуться таблеточкой? – со злорадством спросила она, указав на блистер, валяющийся в отдалении. – Но сначала ты должен…
- Не нужно, - отчужденно произнес Матвей.
Опустошив сейф и не тронув лишь героин, который был им без надобности, Родя наполовину застегнул молнию рюкзака и закинул его на плечо. Его глаза лоснились садистским предвкушением, причина которого была понятна только Соне, осведомленной об его планах насчет Матвея. Тот пока ещё ни о чем не подозревал. Повернувшись к Матвею, Родя выхватил из-за пояса «макаров» и направил на него. Матвей не успел ничего понять, но машинально поднял руки. А потом секунда замешательства прошла, и он основательно всё осмыслил.
- Извинись передо мной напоследок, Мотя, - с елейным сочувствием произнесла Соня, окинув его торжествующим взглядом, - кто знает, может, на том свете зачтется. Какая-никакая, а все-таки луковка.
- Вы обещали, что не будете… - пролепетал Матвей. Его побелевшее лицо слезливо дернулось, а губы скорбно искривились. Соня покачала головой, вложив в этот жест всю возможную укоризну:
- Ты мне тоже много чего обещал, и что? Нам об тебя руки замарать не жалко, ты же наркотой торгуешь. И если хочешь знать, золотце, это я тогда твой адрес слила и сдала тебя «Антидилеру». Ты прекрасно помнишь эти события, не так ли?
Матвей вскинул на неё потемневшие глаза, словно на миг забыл про Родю, который прямо сейчас целился в него. Заметив это, Родя повел пистолетом и прикрикнул:
- А ну не рыпайся!
Матвей втянул голову в плечи, несмело сглотнул и поднял руки чуть выше. Он не перестал оглядывать налетчиков, однако теперь делал это исподлобья и с покорностью, порожденной нарастающим страхом.
- Да вали ты его уже! Или ты в самый ответственный момент зассал, как тварь какая-то? – не выдержала Соня. Родя медленно перевел взгляд на неё и задумчиво хмыкнул, сверкнув золотой коронкой.
- А ведь торгаш прав, - самоуверенно произнес он, - наверное, не стоит так спешить.
Шагнув вперед, он направил пистолет на Соню. Сдавленно вскрикнув, она вскинула руки и застыла. Мелькнули запоздалые мысли, что она сидит не в самой удобной для побега позе – излишне домашней и изнеженной, что её карманный револьвер остался в сумке, которую она так недальновидно кинула на другое кресло, что кофейный столик с увесистой бутылкой коньяка находится слишком далеко. Да и не было бы от бутылки никакого толку.
- Ты охренел? – воскликнула Соня. – Я рассказала тебе про этого пидора! Без меня ты бы ни до чего не додумался!
- Это мои деньги, и я выйду отсюда один, - равнодушно сообщил Родя и кивком головы указал на Матвея, - вот только с ним поговорю сначала. Он мне битков купит, и меня уже никто не найдет. Битки быстро придут, это тебе не банк. Не сомневайся, он купит. Он теперь сговорчивый.
- Ты с самого начала!.. – выпалила Соня, задохнувшись от негодования.
- Купишь ведь, торгаш? – посмотрел Родя на Матвея, который до сих пор сидел в прежней позе. – Если не будешь брыкаться, я тебя даже не убью. Просто свяжу и закину в ванну. Или сам выберешься, или кто-нибудь найдет. Нормальный расклад? Я тебя не кину, как эта гепатитная тварь.
- Не верь ему! – истошно закричала Соня. – Он тебя утопит!
Матвей будто не услышал её. Он часто закивал, глядя на Родю снизу вверх, и опасливо опустил руки. На миг в его лице промелькнула маниакальная радость, которая в сочетании с поблескивающими глазами и бледной, натянутой улыбкой, придала ему несколько нездоровый вид. Удовлетворенно кивнув, Родя снова обратил внимание на Соню.
- Ты задолбала мне мозги выносить. Раз я при любом раскладе крайний, зачем мне с тобой делиться? – яростно процедил он, сделав еще один шаг вперед. – И зачем куда-то с тобой ехать, если мне и одному будет хорошо? Даже лучше, чем с тобой, блядина!
Краем глаза Соня уловила странное движение за его спиной. Матвей, совсем недавно рыдавший в истерике, медленно тянул руку под кресло, к которому всё это время так усердно жался. Нырнув в темноту, рука выскользнула обратно. В хватке татуированных пальцев безжизненно блеснуло лезвие ножа – длинное, широкое, с заточенной кромкой. Матвей сверлил спину Роди тяжелым ненавидящим взглядом и напоминал не самое сильное, зато хорошо приспосабливающееся животное, которое намеревалось пройти естественный отбор.
- Нельзя же так, Роденька… Мы собирались уехать вместе, мы же любим друг друга, в конце концов… - жалобно заныла Соня, поддерживая диалог. Нельзя было допустить, чтобы Родя обернулся.
Наверное, он мог бы возразить, что любви толком не было, что мечта о совместной жизни изначально звучала глупо, что не стоило даже надеяться на хороший исход. Но сделать этого Родя не успел. Резво, будто его почти не били, Матвей вскочил и оказался у него за спиной. Первый удар, пришедшийся в основание шеи, подкосил Родю, как срезанный колос. После второго удара, который последовал сразу за первым, он рухнул на паркет, окатив Соню кровавой струей из перерезанного горла. Ослабшие пальцы выронили пистолет, а из наполовину застегнутого рюкзака с шелестом вывалились пухлые пачки денег. Мертвый Родя лежал, вывернув голову под неестественным углом, а под его вскрытым горлом расползалась ярко-алая лужа. Оказавшиеся на её пути банкноты медленно пропитывались кровью. Задорно звучало крохотное радио.
Там цветут цветы и сладкие ночи,
Там твои, мои, любые мечты…
Соня застыла, хотя древние рефлексы требовали бежать. Чужая теплая кровь бисерными каплями стекала по её лицу, неспешно стыла на черных локонах, влажно пропитывала одежду. Прихрамывающий Матвей стоял над трупом. Спутанные светлые волосы неаккуратными штрихами падали на ошалелое землисто-белое лицо, припухающее отметинами избиения, а свисающий брючный лоскут обнажал участок кожи с мясисто-красными мазками ожогов. Матвей крепко сжимал в руке окровавленный нож и вглядывался в труп, будто хотел рассмотреть в его глазах что-то исчезающее.
Соня опасливо опустила ноги, и каблуки туфель тихо стукнулись об паркет. Матвей резко повернул голову и Соня поняла, что теперь он смотрит на неё. Перешагнув через труп, Матвей мыском ботинка толкнул «макаров» под диван, и тот скрылся из виду, оставив на полу смазанный алый след. Намерения Матвея были очевидны.
Конечно, Соня могла убежать в кухню, запереться на щеколду и выбраться через окно - спасаться с третьего этажа было явно проще, чем с девятого. Побег мог окончиться успешно, если бы Матвей сейчас был беспомощным из-за полученных побоев. Вот только мешал один нюанс. Матвей, кажется, таковым не был. Он был проворным, целеустремленным и слишком спокойным. И образовавшийся труп не очень-то его волновал.
Матвей, который совсем недавно истошно рыдал, ползал по полу и умолял оставить его в живых, держался именно так, как и должен был держаться беспринципный наркоторговец и старший внешний сотрудник, опекаемый полковником Жаровым. Его нетрезвые подчиненные не ошибались в своих оценках.
- Ты же ходить не мог! Ты же плакал, у тебя голова болела! – придушенно выпалила Соня, наконец заметив несоответствие. По нервам побежала дрожь, тело налилось свинцовой тяжестью. Родя больше не представлял опасности, однако теперь ей стал измученный Матвей, которого Соня изначально считала менее угрожающим.
- Я почти не притворялся. Вы пытали меня, мне было очень больно, - сдержанно произнес Матвей. Нож в его руке сверкнул сонным отблеском люстры. Испачканная кровью белая манжета, выступающая из-под рукава пиджака, неприятно контрастировала с длинными костлявыми пальцами, явно принадлежащими наркоману, и посиневшими от времени эзотерическими партаками. Внутренней сутью порыв Матвея ничем не отличался от порыва оскорбленного до глубины души урки.
- Ты обманул меня!
- Всего лишь показал то, что вы хотели увидеть. Я вас знаю, как облупленных, - продолжил Матвей холодным тоном, переступив через пролившуюся кровь и рассыпавшиеся деньги, - ты никогда не отличалась наблюдательностью. Особенно в отношении мужчин. В какой-то момент ты начинаешь считать, что мужчина перед тобой заискивает, и это портит все твои расчеты.
Соня пыталась преодолеть ватное онемение в конечностях, но оно не желало сменяться подгоняющим страхом, отравляя мысли, которые опережали друг друга и были более чем здравыми, однако, к сожалению, запоздавшими. Припадая на поврежденную ногу, Матвей медленно приближался к Соне, как подкрадывающийся степной паук. Неровный перестук его шагов отсчитывал ускользающие секунды.
- Вы оба ничего не сделали, чтобы заработать эти деньги, - процедил Матвей, пристально глядя на неё, - ничего не сделали. А я – сделал. И ты даже не представляешь, какие мне приходилось принимать решения. Я столько раз переступал через себя и унижался, а вы решили получить мои деньги просто так, убив всего лишь один раз? Затратив гораздо меньше моральных усилий, чем я? Думаешь, мне сложно будет добить тебя наконец, раз ты сама никак не помрешь?
- Пожалуйста, Гера, давай договоримся… - сбивчиво пролепетала она.
- Я думал, что ты передознешься, а ты до сих пор живая. Рожденный сгореть не утонет, да Соня? – иронически усмехнулся он.
Теперь их разделяли три шага. Труп одного молодого мужчины, который при жизни пребывал в полном расцвете сил, покоился в луже собственной крови, а другой молодой мужчина, силы которого были ничуть не хуже, стоял перед оцепеневшей Соней.
Адреналин ударил в голову, и ступор бесследно исчез. Соня рванулась в сторону коридора. Матвей метнулся следом, рухнул на неё всем своим весом, и они с грохотом упали на пол. Матвей навалился на Соню, как при половом акте и заткнул ей рот предплечьем свободной руки. Впившись зубами в пиджачную ткань, Соня задергалась под Матвеем и истошно завопила в рукав. Матвей оскалился и начал работать ножом. Удары следовали друг за другом без остановки, словно механические судороги швейной машинки, которая била иглой по сукну. Лезвие разрывало ткань платья, то неудачно соскальзывая по ребрам, то вспарывая нежный и податливый живот.
Вопли Сони становились всё тише. Её сопротивление угасло после десятого удара, однако Матвей остановился лишь тогда, когда нанес двадцать восьмой. Тряхнув головой, он отогнал аффект и медленно выпрямился. Рубашка и брюки, промокшие от крови, неприятно липли к телу. Жирные красные капли срывались с кончика ножа и падали на паркет. Звуки окружающего мира заглушал безмолвный белый звон, от которого распухала голова.
Матвей посмотрел на Соню трезвым взглядом и явственно ощутил, как по спине пробежал гнилой холодок. Соня лежала в расплывающейся багровой луже, глаза скрывались под дымчато-синими веками, а из темного провала рта вязко стекала кровь. Рваная черная ткань, искромсанная кожа и кровоточащие раны, сквозь которые маслянисто проглядывали петли кишок, складывались в черно-красный калейдоскоп.
Наклонившись к Соне уже с меньшей смелостью, Матвей аккуратно вонзил нож под её правое ребро, целясь в печень, и провернул лезвие в ране. Плоть вязко хлюпнула, однако Соня даже не пошевелилась. Она была окончательно и бесповоротно мертва.
Матвей шумно выдохнул и отступил от трупа. Марево аффекта плавно сходило на нет, возвращая полноту ощущений, и первым делом Матвей ощутил боль. Он попытался понять, что именно у него болит, однако определить источник боли оказалось сложно. Изнуренность давила на плечи железной массой, Матвею казалось, что он и сам вот-вот упадет. Почти все силы ушли на первый удар, с которым нельзя было оплошать, в который нужно было вложить всю возможную фатальность. Матвею повезло: этот экзамен он сдал.
Он окинул взглядом разлитую по полу кровь, испачканную мебель и одну из стен, на ярко-синем колере которой красовалась россыпь темных брызг, выплеснувшихся из шеи Роди. К горлу подкатила тошнота, и Матвей поспешно зажал рот ладонью. От осознания того, что у него в квартире находятся два мертвеца, которых он убил собственными руками, стало физически дурно, однако позыв удалось сдержать.
Вместе с позывом к тошноте вернулись звуки окружающего мира. Глухой шорох дождя за окнами, гулкие сигналы автомобильного потока и голосящая музыка, которую передавало радио, навалились на Матвея со всех сторон, как удушающий кокон. Он подошел к кофейному столику и выключил радио. Взяв напоследок особенно трогательную ноту, оно умолкло.
«Нужно что-то делать…» - механически подумал Матвей. Он кинул на пол окровавленный нож, в котором больше не было надобности, и тот упал, тихо звякнув сталью. Покосившись на перекошенное лицо Сони, Матвей поморщился. В отличие от Роди он помнил её живой, и смотреть на неё было гораздо неприятнее. Он снял пиджак и накрыл им Соню. Приталенный пиджак, который несколько месяцев назад изящно сидел на манекене и сверкал дороговизной, лег на окровавленное лицо трупа комковатыми складками.
У Матвея проскользнула параноидальная мысль, что налетчики могут быть мертвы не до конца, но он сразу же отмел её как слишком фантастичную и поковылял в ванную, чтобы помыть руки. Жидкое мыло пахло апельсином, а вокруг слива кружила розовато-кровянистая водная вуаль, смешанная с бледно-коралловой пеной.
Насухо вытерев руки, Матвей вернулся в зал, прихватил со столика бутылку коньяка и рухнул в единственное чистое кресло. Отвинтив подрагивающими пальцами пробку, он сделал несколько крупных глотков, от которых задергался острый кадык, и почти не ощутил вкуса, хотя горло обожгло спиртом.
Матвей поставил бутылку рядом с креслом и скорбно искривился. Ему вспомнилась мучительная смерть Булыгина, и ему вдруг стало очень жаль себя.
☸
Гриша прибыл в полночь, вместе с капитаном Егоровым и его коллегами, которые должны были забрать трупы. Матвей, уже отмывшийся от крови и сменивший одежду, встретил его с двумя собранными чемоданами и заявил, звеня легкими истерическими нотками, что больше ни минуты не желает находиться в этой квартире. Гриша был готов к таким настроениям. Заехав по пути в клинику, он отправил несколько взбудораженного Матвея на процедуры и забронировал номер в гостинице, пока ждал его возвращения. Вернулся Матвей в странном состоянии: ему было то ли весело, то ли страшно. Сидя справа от Гриши, который вел «гелендваген», он временами подергивался на месте и начинал диковато рассматривать заоконный ландшафт. Мигали тускло-зеленые огни светофоров, горели бледно-желтые фонари, а мутно-синие, блекло-красные огни патрульных машин проносились сквозь сероватые блики уличных вывесок.
- Забронировал тебе номер в «Trezzini Palace», - решил заговорить Гриша, когда они встали в пробке на Невском проспекте. Он опасался, что Матвей, оставшись без человеческого внимания, выкинет какой-нибудь фортель, например, выскочит из машины и стремительно куда-нибудь уйдет – из побуждений, неведомых даже ему самому.
- Вот как… - неуверенно произнес Матвей, бегло на него покосившись, и почему-то резко сник. С минуту помолчав, он потер пальцами виски:
- Весной мне снился сон. Нехороший сон.
Гриша повернулся к нему, склонил голову набок и стал внимательно слушать.
- Во сне у меня были руки в крови. Меня расчленяли заживо, - медленно проговаривал Матвей каждое слово, будто боялся рассказывать дальше, - я чувствовал себя виноватым, но когда я проснулся, это чувство исчезло.
- И часто тебе снятся такие сны? – утешающим тоном спросил Гриша, однако внутренне насторожился.
- Только один раз. Но это был очень реалистичный кошмар. Там был ты… И Асфар Юнусович.
- Почему ты про это вспомнил? – продолжил Гриша тактичным тоном, каким обычно беседуют с буйными пациентами. Матвей поднес к лицу совершенно чистые кисти, слабо пахнущие апельсиновым мылом, и пристально в них вгляделся:
- Сегодня я впервые убил человека и испачкал руки. Это было очень похоже…
- Хватит, я тебя понял, - перебил его Гриша. Матвей замолчал и впервые за сегодняшнюю ночь посмотрел на него без опаски.
- Было бы странно, если бы ты реагировал иначе. Во-первых, сегодня ты чуть не умер. Естественно, ты шокирован. Но так и должно быть, ты же все-таки человек. Во-вторых, ты слишком много работаешь. Тебе нужно отдохнуть.
Матвей вздрогнул и вцепился руками в колени, пристально уставившись на Гришу.
- Профессиональное выгорание еще никто не отменял, и тебе лучше его избегать. Асфар Юнусович просил передать, что отправляет тебя в месячный отпуск, и это не обсуждается.
- Вот как, значит? Вот вы как, значит?! – взвизгнул Матвей после длинной паузы, заставив Гришу дернуться от неожиданности. – Не надо говорить завуалированно! Я ведь не вернусь из отпуска, да? Некому будет возвращаться? Я же всё делал правильно! В чем я ошибся?!
- Ты неправ, - тихо возразил Гриша.
- Тогда почему ты меня туда везешь?! – еще громче взвизгнул Матвей, и его глаза мокро заблестели. Гриша вскинул брови в искреннем недоумении:
- Куда – туда?
- Туда, где вы убили Булыгина! – истерично всхлипнул Матвей. Гриша не впервые оказывался в подобной ситуации. Он дал Матвею тяжелую, но отрезвляющую пощечину. Откинувшись от удара вбок, Матвей замер и притих.
- Гера, успокойся, - мягко сказал Гриша. Метод не мог не подействовать: словно очнувшись от зыбкого сна, Матвей рухнул лбом на приборную панель, затрясся всем телом и зашелся надрывными рыданиями.
- В моей квартире, прямо в моей квартире… - сбивчиво стонал он сквозь тяжелый плач, сдавливая голову руками. – У меня дома…
Следующие пять минут Матвей истошно плакал, избавляясь от накопившегося нервного напряжения, которое раньше скрывал пришедший после убийств эмоциональный ступор. Рыдания постепенно стихли, сменившись усталыми всхлипываниями, а потом наступила тишина. Окончательно придя в себя, Матвей кое-как успокоился, вытер рукавом заплаканные глаза и выпрямился. У него был до крайности утомленный вид.
- Вот поэтому тебя и отправляют в отпуск, - рассудительно объяснил Гриша, - несколько дней поживешь в отеле. Потом снимешь новую квартиру, поедешь отдыхать. Могу девочек организовать, если хочешь.
- Я только что двух человек зарезал, какие девочки? Я же не Миша, - угрюмо буркнул Матвей. Не удержавшись, Гриша довольно хохотнул.
«Раз шутит, значит, совсем в себя пришел, - сделал он вывод, вглядываясь в длинный ряд машин, который наконец-то начал трогаться с места, - молодец».
Заселившись в номер, зеленовато-голубой интерьер которого был излишне барочным, Матвей выключил почти весь свет, оставив лишь торшер с серым абажуром, под которым тускло брезжила лампочка. Из образовавшейся тьмы смазанно выступали мягкое кресло на деревянных ножках, атласный изгиб шторы с золотистой бахромой и окно, за которым слабо просматривалась мокрая от недавнего дождя площадь.
Матвей разулся и сел в кресло, осторожно уложив больную ногу на прилагающийся к нему пуфик. Сквозь размытое отражение абажура проступали резкий силуэт бронзового памятника и свинцово-черные волны Невы. Заметив краем глаза, как на запястье поблескивают в темноте часы, подаренные Асфаром Юнусовичем, Матвей посмотрел сквозь стекло на место, где восемь лет назад скончался Булыгин, и задался вопросом: сколько он там пролежал, пока не умер?
Сам того не понимая, Матвей быстро задремал, откинув голову на мягкую спинку кресла. Приоткрытый рот сливался с ночной темнотой, а лицо Матвея, чуть тронутое тусклым светом абажура, казалось сероватым.
- Забронировал тебе номер в «Trezzini Palace», - решил заговорить Гриша, когда они встали в пробке на Невском проспекте. Он опасался, что Матвей, оставшись без человеческого внимания, выкинет какой-нибудь фортель, например, выскочит из машины и стремительно куда-нибудь уйдет – из побуждений, неведомых даже ему самому.
- Вот как… - неуверенно произнес Матвей, бегло на него покосившись, и почему-то резко сник. С минуту помолчав, он потер пальцами виски:
- Весной мне снился сон. Нехороший сон.
Гриша повернулся к нему, склонил голову набок и стал внимательно слушать.
- Во сне у меня были руки в крови. Меня расчленяли заживо, - медленно проговаривал Матвей каждое слово, будто боялся рассказывать дальше, - я чувствовал себя виноватым, но когда я проснулся, это чувство исчезло.
- И часто тебе снятся такие сны? – утешающим тоном спросил Гриша, однако внутренне насторожился.
- Только один раз. Но это был очень реалистичный кошмар. Там был ты… И Асфар Юнусович.
- Почему ты про это вспомнил? – продолжил Гриша тактичным тоном, каким обычно беседуют с буйными пациентами. Матвей поднес к лицу совершенно чистые кисти, слабо пахнущие апельсиновым мылом, и пристально в них вгляделся:
- Сегодня я впервые убил человека и испачкал руки. Это было очень похоже…
- Хватит, я тебя понял, - перебил его Гриша. Матвей замолчал и впервые за сегодняшнюю ночь посмотрел на него без опаски.
- Было бы странно, если бы ты реагировал иначе. Во-первых, сегодня ты чуть не умер. Естественно, ты шокирован. Но так и должно быть, ты же все-таки человек. Во-вторых, ты слишком много работаешь. Тебе нужно отдохнуть.
Матвей вздрогнул и вцепился руками в колени, пристально уставившись на Гришу.
- Профессиональное выгорание еще никто не отменял, и тебе лучше его избегать. Асфар Юнусович просил передать, что отправляет тебя в месячный отпуск, и это не обсуждается.
- Вот как, значит? Вот вы как, значит?! – взвизгнул Матвей после длинной паузы, заставив Гришу дернуться от неожиданности. – Не надо говорить завуалированно! Я ведь не вернусь из отпуска, да? Некому будет возвращаться? Я же всё делал правильно! В чем я ошибся?!
- Ты неправ, - тихо возразил Гриша.
- Тогда почему ты меня туда везешь?! – еще громче взвизгнул Матвей, и его глаза мокро заблестели. Гриша вскинул брови в искреннем недоумении:
- Куда – туда?
- Туда, где вы убили Булыгина! – истерично всхлипнул Матвей. Гриша не впервые оказывался в подобной ситуации. Он дал Матвею тяжелую, но отрезвляющую пощечину. Откинувшись от удара вбок, Матвей замер и притих.
- Гера, успокойся, - мягко сказал Гриша. Метод не мог не подействовать: словно очнувшись от зыбкого сна, Матвей рухнул лбом на приборную панель, затрясся всем телом и зашелся надрывными рыданиями.
- В моей квартире, прямо в моей квартире… - сбивчиво стонал он сквозь тяжелый плач, сдавливая голову руками. – У меня дома…
Следующие пять минут Матвей истошно плакал, избавляясь от накопившегося нервного напряжения, которое раньше скрывал пришедший после убийств эмоциональный ступор. Рыдания постепенно стихли, сменившись усталыми всхлипываниями, а потом наступила тишина. Окончательно придя в себя, Матвей кое-как успокоился, вытер рукавом заплаканные глаза и выпрямился. У него был до крайности утомленный вид.
- Вот поэтому тебя и отправляют в отпуск, - рассудительно объяснил Гриша, - несколько дней поживешь в отеле. Потом снимешь новую квартиру, поедешь отдыхать. Могу девочек организовать, если хочешь.
- Я только что двух человек зарезал, какие девочки? Я же не Миша, - угрюмо буркнул Матвей. Не удержавшись, Гриша довольно хохотнул.
«Раз шутит, значит, совсем в себя пришел, - сделал он вывод, вглядываясь в длинный ряд машин, который наконец-то начал трогаться с места, - молодец».
Заселившись в номер, зеленовато-голубой интерьер которого был излишне барочным, Матвей выключил почти весь свет, оставив лишь торшер с серым абажуром, под которым тускло брезжила лампочка. Из образовавшейся тьмы смазанно выступали мягкое кресло на деревянных ножках, атласный изгиб шторы с золотистой бахромой и окно, за которым слабо просматривалась мокрая от недавнего дождя площадь.
Матвей разулся и сел в кресло, осторожно уложив больную ногу на прилагающийся к нему пуфик. Сквозь размытое отражение абажура проступали резкий силуэт бронзового памятника и свинцово-черные волны Невы. Заметив краем глаза, как на запястье поблескивают в темноте часы, подаренные Асфаром Юнусовичем, Матвей посмотрел сквозь стекло на место, где восемь лет назад скончался Булыгин, и задался вопросом: сколько он там пролежал, пока не умер?
Сам того не понимая, Матвей быстро задремал, откинув голову на мягкую спинку кресла. Приоткрытый рот сливался с ночной темнотой, а лицо Матвея, чуть тронутое тусклым светом абажура, казалось сероватым.
Глава 18
Новая жизнь
Новая жизнь
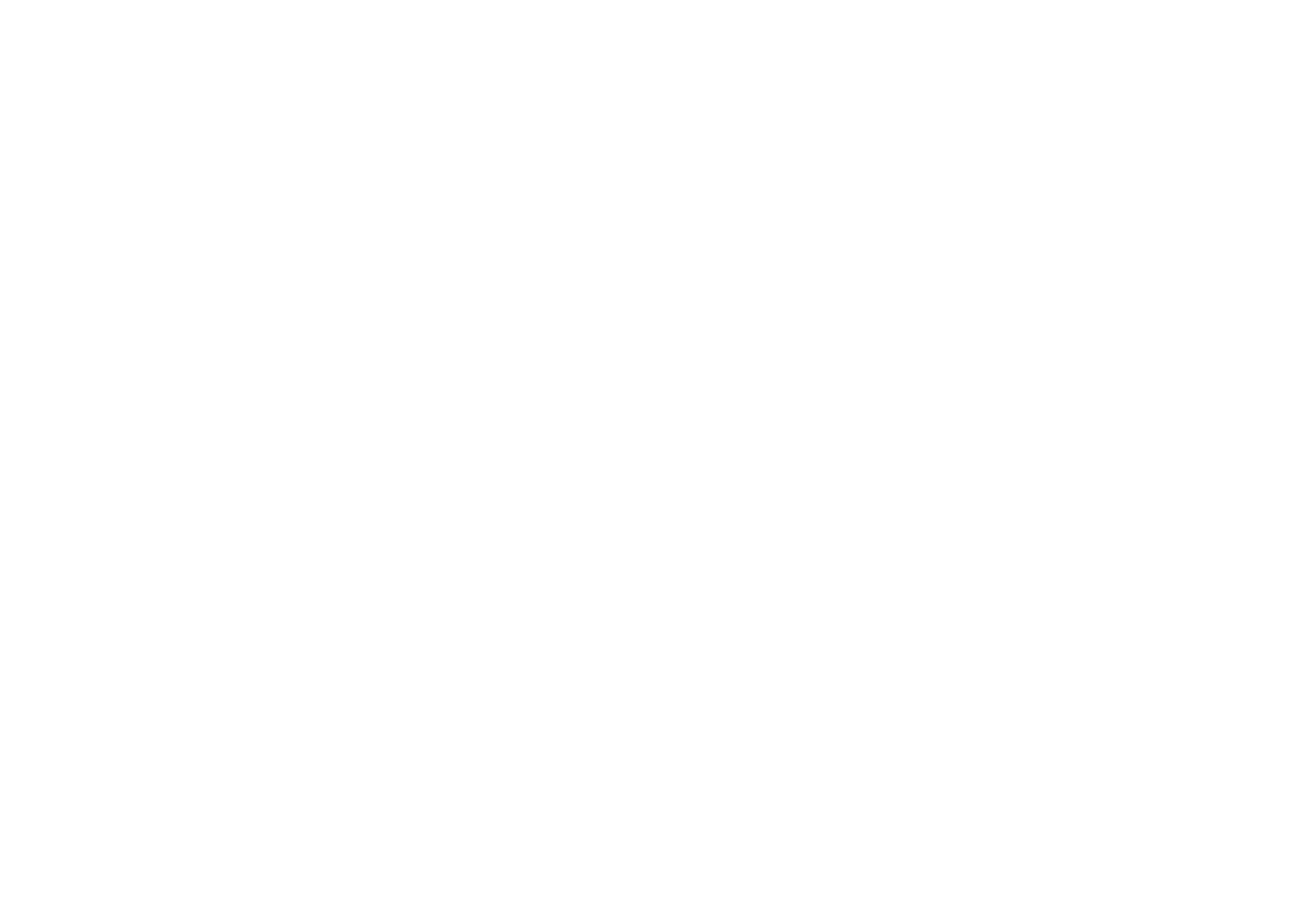
Не ради одного лишь удовольствия – показывать бесцельно-цинические картины – водил я тебя, мой читатель, по разным вертепам человеческой нищеты и порока. Удовольствия в этом, полагаю, нет нимало; и не особенно приятна обязанность писателя, взявшего на себя роль путеводителя по всем этим трущобам. Быть может, я и не взялся бы за нее, если бы не побуждала к тому некоторая надежда на долю возможной пользы, которую, по-настоящему, должно бы принести обществу более близкое знакомство с его собственными сокрытыми язвами и злокачественными наростами.
Всеволод Крестовский, «Петербургские трущобы»
Всеволод Крестовский, «Петербургские трущобы»
январь, 2033 год
Когда речь заходила о надежных, преданных сотрудниках, невский синдикат неукоснительно выполнял свои обещания. Как только убийство Родиона Романова и Софьи Семеновой юридически оформили как самооборону, Матвей поспешно улетел в Боготу, где и провел остаток мая. Не желая ковылять по каменистой мостовой извилистых улочек и лишний раз утруждать больную ногу, почти весь отпуск он пролежал в гостиничном номере, поедая кексы с каннабисом, отдающие гашем, завтракая в ближайшей чайной, специализирующейся на листьях коки, и ни о чем не задумываясь. Синяк под глазом медленно проходил: темная синева желтела с краев, постепенно уступая место блеклой зелени, пока не исчезла совсем.
На прежней квартире Матвей больше не появлялся, окончательно оттуда съехав. Вместо него с Вероникой Реми-Мартен договаривался Гриша: было очевидно, что она явно не обрадуется, обнаружив, что её просторная квартира в историческом центре, приобретенная для сдачи, залита кровью и помечена духовной печатью мертвечины.
В начале июня Матвей вернулся из Боготы в новую квартиру, окна которой выглядывали на Невский проспект. Квартира располагалась в кремовом купеческом доме и представляла собой просторную, но всё же студию. Майский инцидент не прошел бесследно - обилие закрытых пространств стало вызывать у Матвея дискомфорт.
И Миша, и другие бандиты, отметили, что вернувшийся Матвей взялся за дела с еще большим усердием и весомой долей жестокости, к которой он раньше прибегал только изредка, если не оставалось других вариантов. Теперь же Матвей не сдерживался, полностью оправдывая свое мрачное прозвище. Расширив штат, он ощутимо увеличил оборот, и его, кажется, больше не волновали этические вопросы. Отцвело лето, прошла осень. В декабре Матвею исполнилось двадцать два.
С наступлением крещенских морозов головная боль стала одолевать особенно часто. Уже в который раз Матвей проводил день в постели. Двуспальная кровать с кованой спинкой отражалась в широком зеркале, заключенном в барочно-пышную золотистую раму. Справа от зеркала располагался белый комод с кисточками на ручках, который, как и вся остальная мебель – преимущественно светлая, причудливо гармонировал с темными, практически черными стенами. В особенно меланхоличные дни, которые, как правило, совпадали с наплывами головной боли, Матвей отмечал про себя, что его новое жилище неуловимо напоминает тесную квартирку Юши, являясь её облагороженной версией.
Январский день клонился к закату. За окном, тронутым ажурными ледяными узорами, сползала под стылый горизонт белесая точка зимнего солнца, и Петербург неспешно окунался в бледно-синие сумерки. Иногда скучающий Матвей включал телевизор, попадал на провластный Первый канал, по которому показывали «Лебединое озеро», рокочущее минорными раскатами, и сразу же выключал телевизор. Балет вгонял его в еще большую тоску, чем новости, а именно сегодня тосковать не хотелось.
Принятый кодеин уже давно подействовал, однако Матвей не собирался вылезать из-под одеяла. К счастью, можно было с чистой совестью оставаться дома – никакой работы на сегодняшний день не планировалось. С некоторых пор Матвею очень не хотелось сердить начальство, которое переживало не лучшие времена, поэтому на работу он ездил даже больным.
Проблемы вышестоящих чинов были связаны с недавним форс-мажором – кокаиновым скандалом международного масштаба, в который оказались втянуты посольство России в Аргентине и российский министр иностранных дел Киреев. Аргентинской наркополицией были изъяты четыреста килограммов кокаина, упакованные в двенадцать чемоданов, которые, как показало следствие, должны были улететь в Россию на борту самолета, принадлежащего самому Кирееву. В этом было своеобразное изящество – возить кокаин именно «первым» бортом. Время показало, что аргентинской наркополиции тоже не следовало доверять. Став вещественным доказательством, масса кокаина принялась переходить от одной инстанции к другой, и каждый раз ведомства на голубом глазу сообщали о разном количестве килограммов. В конечном итоге их количество сократилось до трехсот. Аргентинская наркополиция на таком же голубом глазу списала разницу на вес чемоданов, которые, естественно, столько весить не могли. А российская верховная власть, видимо, не сумевшая должным образом договориться, временно лишилась аргентинского канала кокаинового трафика.
Именно поэтому Матвей без промедления ответил на звонок, которого он сегодня совсем не ждал. Игнорировать такие звонки было крайне нежелательно.
- Надеюсь, Матюша, ты сейчас дома, - сказал Асфар Юнусович, не поздоровавшись. Его голос прозвучал весьма деловито, однако под налетом слов скрывалось нечто, отдаленно напоминающее то ли слабую тревогу, то ли тихое счастье. Очень странно было слышать такие интонации от полковника Жарова.
- Да, я… - нерешительно начал Матвей, запнулся от неожиданности, но быстро собрался с мыслями. – Я дома, я никуда не собирался. А в чем дело, Асфар Юнусович?
- Зайду к тебе через пять минут, - сухо произнес он, - жди.
Трубку Асфар Юнусович бросил, не попрощавшись. Матвею стало не по себе, он ощутил, с какой частотой застучало его сердце. Настораживали даже не сказанные слова, а сам факт звонка. Раньше Асфар Юнусович не снисходил до него, предпочитая передавать приказы через Гришу. И хотя у Матвея был записан его номер, на нечто подобное он даже не рассчитывал. Торопливо выбравшись из кровати, он сменил мятую домашнюю одежду на свежую повседневную.
Асфар Юнусович позвонил в дверь ровно через пять минут. Впустив его в квартиру, Матвей с удивлением отметил, что тот в штатском. Стали заметными легкие залысины, обычно скрываемые фуражкой, однако хотя демонизма в облике Асфара Юнусовича больше не было, жутковатое впечатление никуда не делось: глаза смотрели так же холодно, а желтоватое лицо отличалось прежней сухостью черт. Из-за старомодного темно-синего плаща Асфар Юнусович напоминал интеллигентного маньяка, орудующего в мшистой лесополосе – не хватало только клетчатой рубашки и роговых очков. Матвей подметил еще одну странность. Асфар Юнусович был одет не по погоде.
Скрывая настороженность, Матвей поздоровался со всем возможным радушием, широким взмахом руки предложил сесть в светло-зеленое кресло, а сам встал напротив, не решаясь садиться в присутствии Асфара Юнусовича. Закинув ногу на ногу, Асфар Юнусович положил руки на подлокотники, постучал пальцами по мягкому сукну и обвел пространство задумчивым взглядом, словно что-то вспоминая. Наконец он остановил взгляд на Матвее. Тот стоял на месте и почти не шевелился, ожидая хоть какого-нибудь объяснения происходящему. Он лишь мелко, едва заметно мял нижнюю кромку черной футболки. Надпись на ней, «Россия живет скоростями», не соответствовала его посерьезневшему виду, потому что обладала флером безалаберной юности, а у Матвея теперь не было ни безалаберности, потому что она влекла за собой последствия, ни юности, потому что он вынужденно вступил в неизбежное для профессии взросление.
- Как же хорошо, что ты больше не живешь в пригороде. Мне было бы очень жаль не заехать к тебе по пути, - таинственно улыбнулся Асфар Юнусович.
- Что-то случилось? – нахмурился Матвей. – Что-то плохое?
- Зависит от того, с какого угла смотреть на произошедшее. Кому плохое, а кому хорошее.
Ответ Асфара Юнусовича ничего не прояснил. Матвей нахмурился еще сильнее и внимательно посмотрел на него, не меняя нервной позы. Пальцы продолжали мять ткань футболки, словно жили отдельной жизнью.
- Мы с тобой, Матюша, больше ни на кого не работаем, - медленно проговорил Асфар Юнусович, - утром Громов подписал приказ. С сегодняшнего дня ФСКН как организации официально не существует.
Матвей распахнул глаза с узкими зрачками и ошалело уставился на него, как на призрака. Деревянным движением осев на ближайший стул, он всмотрелся в Асфара Юнусовича еще пристальнее, не до конца веря его словам. Он пока не находил внятных эмоций, чтобы отреагировать на новость.
- У них больше нет полномочий, чтобы защищать нас, - вкрадчиво произнес Асфар Юнусович, немного подавшись вперед, - но и рычага давления у них теперь тоже нет. Некому нас курировать.
Матвей, который немного пришел в себя, открыл рот, намереваясь задать вопрос, но Асфар Юнусович раздраженно перебил его:
- По первому с самого обеда крутят «Лебединое озеро». Ни ток-шоу, ни новостей. Я сегодня проснулся – и опять оно на повторе. Доброе, так сказать, утро.
Матвей, не знающий о макабрическом подтексте «Лебединого озера», непонимающе вскинул брови. Традиция, пошедшая еще с советских времен, прочно связала воедино траур по главе государства и балет Чайковского, невольно ставший чем-то вроде пляски смерти. Матвею казалось, что взволнованный Асфар Юнусович несет околесицу, и искренне не понимал, какое отношение «Лебединое озеро» имеет к ликвидации ФСКН.
- Когда был августовский путч, его три дня по всем каналам показывали, - продолжил Асфар Юнусович, - я, конечно, этого не помню, мне было только четыре года, но я слышал это от матери.
- При чем тут вообще путч? – тихо спросил Матвей.
- Громов умер, - строго объяснил Асфар Юнусович, - сегодня в обед.
- Но как? – еле слышно пробормотал Матвей. Опасливо встав со стула, он принялся ходить из стороны в сторону. Наконец он остановился и снова впал в выжидающе-почтительное оцепенение. Асфар Юнусович усмехнулся:
- Апоплексический удар табакеркой. Откуда я знаю, Матюш? Говорят, что от старости, и это похоже на правду. Как-никак, ему было почти семьдесят. Но еще говорят, что наша верхушка пыталась на него давить и лезла не в свое дело. В частности, Петров. Так что возможна и табакерка.
Придавленный двумя новостями, стать живым свидетелем которых он совсем не надеялся, побледневший Матвей теперь смотрел даже не на Асфара Юнусовича, а сквозь него, переваривая услышанное и делая выводы – несколько заторможенные, но верные.
- Улетай как можно скорее, Матюша, - посоветовал Асфар Юнусович, - забудь про Россию, и она забудет про тебя. Впрочем, возможно, до тебя ей совсем не будет дела…
- Может быть, я не хочу улетать навсегда, - произнес Матвей, опустив поникший взгляд.
- А жареных гвоздей не хочешь? – спросил Асфар Юнусович, покровительственно усмехнувшись. Матвей решил не узнавать значение непонятной идиомы - наверняка её смысл был весьма тяжелым, конкретным и имел отношение к смерти.
- Не бойся, не навсегда. Думаю, лет через десять всё окончательно уляжется. Главное, чтобы ты следил за новостями и был в курсе происходящего.
Матвею не нужно было разъяснять щекотливые детали. Он прекрасно понимал, что свято место пусто не бывает. Слишком высока была вероятность того, что за ликвидацией ФСКН и неожиданной смертью Громова последует очередной передел рынка, и в грядущем хаосе непременно примут участие этнические диаспоры, которые занимались героином до становления невского синдиката. Не стоило забывать и о простых людях, которые знали Матвея в лицо, были в курсе его деятельности и не очень-то его любили. Вряд ли они отнесутся к нему благосклонно, когда узнают, что его больше некому защищать. Оставаться в Петербурге было опасно в любом случае.
- Почему вы ко мне зашли, Асфар Юнусович? – спросил вдруг Матвей. – Вы ведь тоже сбегаете. Можно было просто написать мне.
Он лишь грустно улыбнулся в ответ. Матвея напугала эта внезапная, несвойственная ему грусть. Асфар Юнусович никогда таким не был – во всяком случае, в присутствии подчиненных. Медленно встав с кресла, он по-отечески обнял Матвея и похлопал его по спине. Матвей непонимающе покосился на него. И новости, и резкая перемена Асфара Юнусовича озадачили его в равной степени.
- Представь, что этих трех лет не было, - деловито сказал тот, отступив назад, - нам выпал редкий шанс, о котором мечтали многие. Воспользуйся им.
Вернувшись в привычное состояние духа, Асфар Юнусович вышел в парадную и закрыл за собой дверь. Его старомодный плащ напоследок мелькнул на фоне блекло-голубой стены с бородатым атлантом и исчез вместе с утихающим стуком шагов.
Минуты две Матвей стоял на месте и напряженно вслушивался в тишину. Асфар Юнусович ушел с такой торопливостью, что у него даже возникли сомнения в его реальности. Однако разговор действительно имел место быть, а Асфар Юнусович, одетый слишком легко для петербургской зимы, явно куда-то спешил. Впрочем, тяжело было после таких новостей никуда не спешить, и Матвей решил незамедлительно последовать его примеру.
Уложив вещи в чемодан и дорожную сумку, Матвей накинул приталенную куртку из синей кожи, которая совсем не годилась для крещенских морозов, зато как нельзя лучше подходила для прохладного климата Боготы. Зимняя одежда осталась висеть в шкафу – на усмотрение владельца квартиры, которого Матвей, естественно, о своем бегстве оповещать не собирался.
Заперев за собой дверь, он кинул ключи в почтовый ящик и покатил чемодан к платной парковке. Спортивные туфли тонули в хрустящем снегу, свистящий ветер небрежно трепал светлые вихры. Чернеющий морозный воздух, пропахший волнующей свежестью, мерцал текучими огнями вывесок и мягкими всполохами фонарей.
Никто не обратил на Матвея внимания, а охранник тактично воздержался от вопросов, наличие которых выдал его удивленный взгляд. Загрузив чемодан в багажник, Матвей кинул дорожную сумку на заднее сиденье, сел за руль и проложил маршрут. Конечной точкой маршрута была Нарва, расположенная по ту сторону российско-эстонской границы.
За тонированными окнами завывал ветер, пробегающий по пушистым сугробам невесомой поземкой. Неумолимо сгущалась ночная тьма, одни светофоры сменялись другими, перекрестки перетекали друг в друга, а купеческая застройка уступали место типовой панельной. Поручив дорогу автопилоту, Матвей сначала забронировал билет на паром в Финляндию, отходящий завтрашним вечером, потом купил билет на рейс до Барселоны, берущий свое начало в Пулково, и лишь в самом конце приобрел билет на ближайший самолет, вылетающий в Боготу из нарвского аэропорта.
«Пусть ищут где угодно: у паромов, в Пулково… - мелькнула в голове Матвея злорадная мысль, когда он облегченно откинулся на спинку сиденья. – Буду жить в Канделарии, пить кокаиновый чай и есть кексы со шмалью. И ни о чем не буду волноваться».
План был прост: бросить машину на парковке, улететь в Боготу, отдаленно напоминающую Петербург, и осесть в тихом месте, условном кантоне Ури. Ничего не было – всего лишь сон, гриппозный кошмар, исчезнувший в один краткий момент. Имея шесть миллионов долларов, можно было комфортно прожить остаток жизни, просыпаясь без будильника и ни дня не работая, а можно было поступить мудрее – выгодно вложить часть суммы, став частным инвестором, и приумножить капитал. Чтобы заработать эту сумму, обычному россиянину с зарплатой в тридцать тысяч ежемесячно, пришлось бы работать тринадцать тысяч лет, не отвлекаясь на отпуски и бытовые траты. Впрочем, ни у одного обычного россиянина не было в распоряжении тринадцати тысяч лет. Матвей улыбнулся, как игрок, сделавший удачную ставку. Награда за три года, прожитых в непреходящем напряжении и статусе парии, оказалась более чем достойной. Ради такого итога стоило шнырять по Офтони, пряча в укромных местах закладки, стоило разносить еду хмурым посетителям, подавленным жизнью, стоило играть на баяне песни «Лесоповала», «Вороваек» и Михаила Круга за скудные рубли. И стоило, конечно же, работать под началом Асфара Юнусовича, хоть эта затянувшаяся работа и была сопряжена с риском – как и для его судьбы, так и для чужих.
[Покачивая бедрами, Соня проскользнула по темному коридору коммуналки, погруженной в синеватую тьму. Длинная клетчатая рубашка доходила почти до колен, а с оранжевой футболки приветливо глядел мультяшный щенок, окруженный ромашками и китайскими иероглифами. Остановившись возле грубой двери, за которой ютился Матвей, Соня осторожно постучалась – тихо и аккуратно, костяшками пальцев. Никакой реакции не последовало, но Соня ни капли не удивилась.
Конечно, вечером она уже пыталась купить у него мефедрон, а он ей грубо отказал – пожалуй, даже слишком грубо, однако Соня знала его характер и понимала, что отходчивый Матвей не сможет так долго злиться. Возможно, для порядка он поворчит, но всё же отоварит её, раз уж в полиции ему всё вернули. К тому же, не в стиле Матвея было отказываться от возможности подзаработать, не выходя из комнаты. В этом отношении Матвей походил на многих своих коллег – всех их объединяла деловитая алчность.
Осторожные, постукивания Сони по-прежнему оставались без ответа. То ли новоиспеченный драгдилер просто не желал открывать, потому что был в подавленном настроении, то ли не отзывался намеренно, чтобы заставить Соню понервничать, то ли вовсе крепко спал. Последнее было очень даже вероятно – день у него выдался слишком насыщенный. Занеся кулак для очередной попытки, Соня замерла, не донеся его до двери. Она вспомнила, что несколько часов назад мельком слышала сквозь бархатную музыку грохот мебели и дребезжание посуды. Она нахмурилась и постучала громче, уже не боясь разбудить соседей, которые с наступлением ночи разошлись по комнатам. Ответом на стук была прежняя нехорошая тишина.
- Матвей! Ты там, Матвей? – встревоженно закричала она, стуча уже кулаком. – Если не хочешь открывать, хотя бы отзовись!
Скрипнула дальняя дверь, которая располагалась возле кухни, и в сумрак длинного коридора выглянул сонный Женя. Темные волосы с одного бока были примяты подушкой, а на равнодушном щетинистом лице, которое выступало из сумрака белой кляксой, лениво шевелились веки.
- Чего орешь? – недовольно спросил он у Сони. – Люди спят.
- Женя, он не открывает, - боязливо ответила она.
- Ну а мы тут при чем? – буркнул Женя. – Это твой барыга, а не наш. Сами разбирайтесь.
- Не тупи, Женя! Ты же помнишь, в каком он был состоянии. Надо выбить дверь!
Женя, который уже намеревался отказаться от участия в таком сомнительном предприятии, припомнил мрачное равнодушие Матвея, которое сопровождало его весь прошедший вечер. На всякий случай заявив, что если Матвей останется недоволен выбитой дверью, то все расходы лягут исключительно на Соню, он принялся за дело.
Выдержав три удара плечом, дверь звякнула хлипким замком и поддалась. Погруженная в полумрак желтая комната казалась грязной и чуть отдавала вяжущим запахом сырости, а за окном ползли по ночному небу свинцовые тучи. Матвей Грязев висел в нише под трубой отопления. Голова неестественно клонилась к плечу, словно перетянутая петлей шея в момент смерти стала резиновой. На припухшем лице черной проталиной обрисовывался приоткрытый рот, а ноги в полосатых носках покачивались над бардаком обыска, опрокинутым комодом и осколками разбившейся посуды.
Матвей Грязев спрыгнул со слишком низкой высоты и шейные позвонки не сломал, чем обрек себя на медленное удушье. На шее темнели свежие царапины, покрытые присохшей коркой – следы его последних безнадежных попыток запустить пальцы под тугую намыленную петлю.]
По обе стороны автодороги, ведущей прямиком в Нарву, монументальными стенами возвышался темный массив ельника, поседевшего от выпавшего снега, а над пушистыми сугробами, которые градиентно сливались с коричневой слякотью дорожной грязи, порывисто метался ветер. Матвей ворошил старые воспоминания, от которых с каждой секундой уезжал всё дальше и дальше. Он думал про Ладу, с которой они когда-то давно, слишком давно – даже не по срокам, а по количеству накопленного опыта – гуляли в Летнем саду возле озера, по зеленоватой глади которого важно плавали белые лебеди. Он воскрешал в памяти Горбовского, с которым они как-то раз торопливо пересекали площадь перед величественным, прекрасным Зимним дворцом, добираясь до нужных координат.
Ему вспоминалась усмехающаяся Ася, которая нежилась на сочно-зеленой траве, пока далекое озеро за её спиной сверкало солнечным золотом, а вдоль его берегов бродили шелковистые от света жилистые лошади. С живой отчетливостью представлялся Гриша, который хищнически-жадно сдирал с шампура жирный шашлык, сидя в плетеном кресле на арендованной даче, а в отдалении паслись возле озера пятнистые, как лоскутные одеяла, равнодушные коровы.
Выбирался из глубин памяти расслабленный Куртов, пьющий пиво в сумрачной зелени Екатерингофского парка и резких отсветах праздничных фейерверков. Вслед за ним вставал во весь рост сконфуженный Сеня, понуро семенящий прочь от синего «порше» в сторону Спаса-на-Крови, купола которого горели в сиянии лета слепящей позолотой и пестрой эмалью.
Вырастал перед мысленным взором слякотный пустырь на окраине Петербурга, в вязком тумане которого беспомощно ползал по глубоким рытвинам избитый Матвеем закладчик, запустивший свою руку не туда, куда следовало. Обрастали деталями загородная равнина – голая, пустынная, безлюдная – и провинившийся дилер, в мертвых глазах которого отражались земля, испещренная рытвинами, сухие пни прежнего леса и поваленные деревья.
Стряхнув с себя непрошеные мысли, Матвей включил радио, чтобы разогнать тишину, и попал на Первую станцию, отличающуюся особенно высокой концентрацией госповестки. Вместо вечернего выпуска новостей, который выходил каждый день в одно и то же время, надрывно тянулась мелодия «Лебединого озера». Сглотнув, Матвей припомнил еще несколько радиостанций, служащих правящему режиму, и стал переключаться с одной на другую. На каждой станции играла одна и та же тоскливая мелодия.
По спине Матвея вкрадчиво побежали мурашки жути, и он переключился на исключительно музыкальную станцию со старой беззаботной поп-музыкой, которой было попросту ни к чему маскировать историческую неопределенность и нарастающий беспорядок балетом Чайковского.
Матвей понял, что ближайшие пять лет действительно лучше провести вне России. Идеологический коллапс, вызванный сомнительной смертью Громова, не мог закончиться утешительно, а итог был кристально ясен: очередные танковые залпы по Белому дому, скоропалительный переворот, которым в Третьем Риме обычно заканчивается старая диктатура и начинается новая, продовольственный кризис, а после на обломках самовластья расцветут стабильные распилы и поборы. Наверное, по старой доброй традиции кого-нибудь повесят на фонарях, а Кремль действительно станет немного красным. Матвею хотелось пережить этот переходный период отнюдь не здесь.
[Родя вовремя заметил, что взгляд испуганной Сони скользнул ему за спину, и резко обернулся. Краем сознания он отметил вскочившего на ноги Герыча, который держал в руке неизвестно откуда взявшийся нож, и машинально выстрелил, даже не осознав этого действия. Герыч пошатнулся, будто его толкнула невидимая рука, и неуклюже повалился на бок. Родя окостенел.
Стремительно слабеющий Герыч из последних сил шевелился, а на белой рубашке в области сердца распускался алым пневмоторакс, из которого текла мелко пузырящаяся кровь. Хрипло вздыхая, Герыч изменившимся взглядом смотрел перед собой. Сдержанность цивилизованного homo sapiens сменилась глубинным страхом смерти. Перед Родей лежал живой умирающий человек, жалобно хрипящий и истекающий кровавой пеной. Родя понял, что прежняя личность Герыча, которую он считал достаточно звериной, чтобы не жалеть его, как раз и была человеческим наполнением, и теперь ему на смену пришел смутный инстинкт животного, почуявшего близкую смерть и желающего умереть подальше от чужих глаз.
Агонизирующий Герыч был последним, что видел Родя Романов, испуганный первым в своей жизни трупом. Когда его ударили бутылкой по затылку, он перестал что-либо осознавать.
Труп Матвея нашли на следующий день. Не сумев до него дозвониться, Гриша связался с Вероникой Реми-Мартен. Когда они вошли в квартиру, то обнаружили мертвого Матвея с простреленной грудью, несколько окровавленных купюр, присохших к полу и открытый сейф с килограммовыми пакетами героина. Рядом с Матвеем лежал труп его соседа, безработного маргинала Роди Романова, у которого было перерезано горло. Вокруг его головы мелкой россыпью блестели бутылочные осколки, а на паркете виднелись липкие лужицы засохшего алкоголя.
Вскрытие, которому подвергли труп Матвея, обнаружило ожоги от паяльника и установило причину смерти – пневмоторакс левого легкого, вызванный огнестрельным ранением.
Спустя неделю состоялась гражданская панихида, организованная и оплаченная ФСКН. В центре траурного зала стоял лакированный черный гроб, в багровом атласе которого покоился, сложив руки на животе, труп Матвея, аккуратно причесанный и одетый в черную двойку с галстуком. Разлагающемуся Матвею придали приличный вид: из-за неестественного мертвецкого грима он выглядел даже румянее, чем при жизни, и оттого не совсем напоминал себя. На левом запястье его руки бликовали под мягким светом часы «Hublot», успешно пережившие еще одного владельца.
В траурном зале теснились хмурые менты и не менее хмурые бандиты. Особенно мрачен был Куртов – именно он должен был занять место Матвея. Особняком сидели Асфар Юнусович и Гриша, а возле гроба то и дело возникали серьезный Миша и расстроенный Сеня.
Панихида стала формальным поводом собраться и решить назревшие вопросы. В финале поминальной речи Асфар Юнусович зловеще заявил, что виновные понесут «соответствующее наказание», явно имея в виду не только Софью Семенову, сбежавшую в Финляндию, но и тех, кого можно было, воспользовавшись моментом, выставить виновными. Хотя Асфар Юнусович был опечален, хватку он не растерял.
Не совершая никаких религиозных обрядов и не привлекая священнослужителей, после панихиды гроб погрузили в катафалк и повезли на Новопетергофское кладбище. Засыпав гроб землей, установили деревянный крест и завалили его пышными венками с пестрыми бутонами искусственных цветов и черными лентами. Асфар Юнусович наблюдал за процессом с холодным спокойствием и ничего не говорил.
В июле деревянный крест заменили габбровым надгробием с цветной фотографией Матвея, на которой он был таким же угрюмым, как и до смерти, скромными годами жизни – 2011-2032 – и эпитафией, которую выбрал Асфар Юнусович:
Нет никакого «завтра», есть только вечное «сейчас».]
Предъявив документы сначала на российской таможне, а потом на эстонской, Матвей без проблем прошел контроль. Отъехав от границы, он свернул на обочину, остановился и вышел на воздух. Над Матвеем простиралась вязкая ночь. В полумраке сугробы, серебрящиеся под светом узкого месяца, сливались с голым березняком, сплоченные ряды которого уходили в неизведанные эстонские пустоты. Закурив, Матвей затянулся, запрокинул голову и посмотрел на темное небо, искрящееся крапинками звезд.
- Так-то, - прошептал он, блаженно улыбаясь и вглядываясь в звездное небо над его головой, - выкуси!
В дальнейший путь Матвей отправился с такой же блаженной улыбкой. Снопы фар выхватывали из темноты ровный асфальт автодороги, заснеженные обочины и далекий березняк, заслоняемый поднявшейся вьюгой. Справа мелькнула табличка с названием городка, через который Матвею предстояло проехать – Naraka. Матвей издал тихий смешок. Нарва была совсем близко.
На далекий горизонт наваливались кромешная тьма и невыносимый холод, воющий ветер, напоминающий жалобный плач, метался из стороны в сторону, с силой подбрасывая снежные крупицы. За окнами показался строящийся городок. Земля городка была покрыта мраком, сквозь который проступали невысокие дома – то темно-серые, практически черные, то грязно-белые. Между домами виднелись темные, кажущиеся бездонными ямы и матово-черные каменистые тропы. В салоне машины приглушенно играло радио.
…Стоит только захотеть, можно и звезды,
Стоит только захотеть – с неба собрать.
Когда речь заходила о надежных, преданных сотрудниках, невский синдикат неукоснительно выполнял свои обещания. Как только убийство Родиона Романова и Софьи Семеновой юридически оформили как самооборону, Матвей поспешно улетел в Боготу, где и провел остаток мая. Не желая ковылять по каменистой мостовой извилистых улочек и лишний раз утруждать больную ногу, почти весь отпуск он пролежал в гостиничном номере, поедая кексы с каннабисом, отдающие гашем, завтракая в ближайшей чайной, специализирующейся на листьях коки, и ни о чем не задумываясь. Синяк под глазом медленно проходил: темная синева желтела с краев, постепенно уступая место блеклой зелени, пока не исчезла совсем.
На прежней квартире Матвей больше не появлялся, окончательно оттуда съехав. Вместо него с Вероникой Реми-Мартен договаривался Гриша: было очевидно, что она явно не обрадуется, обнаружив, что её просторная квартира в историческом центре, приобретенная для сдачи, залита кровью и помечена духовной печатью мертвечины.
В начале июня Матвей вернулся из Боготы в новую квартиру, окна которой выглядывали на Невский проспект. Квартира располагалась в кремовом купеческом доме и представляла собой просторную, но всё же студию. Майский инцидент не прошел бесследно - обилие закрытых пространств стало вызывать у Матвея дискомфорт.
И Миша, и другие бандиты, отметили, что вернувшийся Матвей взялся за дела с еще большим усердием и весомой долей жестокости, к которой он раньше прибегал только изредка, если не оставалось других вариантов. Теперь же Матвей не сдерживался, полностью оправдывая свое мрачное прозвище. Расширив штат, он ощутимо увеличил оборот, и его, кажется, больше не волновали этические вопросы. Отцвело лето, прошла осень. В декабре Матвею исполнилось двадцать два.
С наступлением крещенских морозов головная боль стала одолевать особенно часто. Уже в который раз Матвей проводил день в постели. Двуспальная кровать с кованой спинкой отражалась в широком зеркале, заключенном в барочно-пышную золотистую раму. Справа от зеркала располагался белый комод с кисточками на ручках, который, как и вся остальная мебель – преимущественно светлая, причудливо гармонировал с темными, практически черными стенами. В особенно меланхоличные дни, которые, как правило, совпадали с наплывами головной боли, Матвей отмечал про себя, что его новое жилище неуловимо напоминает тесную квартирку Юши, являясь её облагороженной версией.
Январский день клонился к закату. За окном, тронутым ажурными ледяными узорами, сползала под стылый горизонт белесая точка зимнего солнца, и Петербург неспешно окунался в бледно-синие сумерки. Иногда скучающий Матвей включал телевизор, попадал на провластный Первый канал, по которому показывали «Лебединое озеро», рокочущее минорными раскатами, и сразу же выключал телевизор. Балет вгонял его в еще большую тоску, чем новости, а именно сегодня тосковать не хотелось.
Принятый кодеин уже давно подействовал, однако Матвей не собирался вылезать из-под одеяла. К счастью, можно было с чистой совестью оставаться дома – никакой работы на сегодняшний день не планировалось. С некоторых пор Матвею очень не хотелось сердить начальство, которое переживало не лучшие времена, поэтому на работу он ездил даже больным.
Проблемы вышестоящих чинов были связаны с недавним форс-мажором – кокаиновым скандалом международного масштаба, в который оказались втянуты посольство России в Аргентине и российский министр иностранных дел Киреев. Аргентинской наркополицией были изъяты четыреста килограммов кокаина, упакованные в двенадцать чемоданов, которые, как показало следствие, должны были улететь в Россию на борту самолета, принадлежащего самому Кирееву. В этом было своеобразное изящество – возить кокаин именно «первым» бортом. Время показало, что аргентинской наркополиции тоже не следовало доверять. Став вещественным доказательством, масса кокаина принялась переходить от одной инстанции к другой, и каждый раз ведомства на голубом глазу сообщали о разном количестве килограммов. В конечном итоге их количество сократилось до трехсот. Аргентинская наркополиция на таком же голубом глазу списала разницу на вес чемоданов, которые, естественно, столько весить не могли. А российская верховная власть, видимо, не сумевшая должным образом договориться, временно лишилась аргентинского канала кокаинового трафика.
Именно поэтому Матвей без промедления ответил на звонок, которого он сегодня совсем не ждал. Игнорировать такие звонки было крайне нежелательно.
- Надеюсь, Матюша, ты сейчас дома, - сказал Асфар Юнусович, не поздоровавшись. Его голос прозвучал весьма деловито, однако под налетом слов скрывалось нечто, отдаленно напоминающее то ли слабую тревогу, то ли тихое счастье. Очень странно было слышать такие интонации от полковника Жарова.
- Да, я… - нерешительно начал Матвей, запнулся от неожиданности, но быстро собрался с мыслями. – Я дома, я никуда не собирался. А в чем дело, Асфар Юнусович?
- Зайду к тебе через пять минут, - сухо произнес он, - жди.
Трубку Асфар Юнусович бросил, не попрощавшись. Матвею стало не по себе, он ощутил, с какой частотой застучало его сердце. Настораживали даже не сказанные слова, а сам факт звонка. Раньше Асфар Юнусович не снисходил до него, предпочитая передавать приказы через Гришу. И хотя у Матвея был записан его номер, на нечто подобное он даже не рассчитывал. Торопливо выбравшись из кровати, он сменил мятую домашнюю одежду на свежую повседневную.
Асфар Юнусович позвонил в дверь ровно через пять минут. Впустив его в квартиру, Матвей с удивлением отметил, что тот в штатском. Стали заметными легкие залысины, обычно скрываемые фуражкой, однако хотя демонизма в облике Асфара Юнусовича больше не было, жутковатое впечатление никуда не делось: глаза смотрели так же холодно, а желтоватое лицо отличалось прежней сухостью черт. Из-за старомодного темно-синего плаща Асфар Юнусович напоминал интеллигентного маньяка, орудующего в мшистой лесополосе – не хватало только клетчатой рубашки и роговых очков. Матвей подметил еще одну странность. Асфар Юнусович был одет не по погоде.
Скрывая настороженность, Матвей поздоровался со всем возможным радушием, широким взмахом руки предложил сесть в светло-зеленое кресло, а сам встал напротив, не решаясь садиться в присутствии Асфара Юнусовича. Закинув ногу на ногу, Асфар Юнусович положил руки на подлокотники, постучал пальцами по мягкому сукну и обвел пространство задумчивым взглядом, словно что-то вспоминая. Наконец он остановил взгляд на Матвее. Тот стоял на месте и почти не шевелился, ожидая хоть какого-нибудь объяснения происходящему. Он лишь мелко, едва заметно мял нижнюю кромку черной футболки. Надпись на ней, «Россия живет скоростями», не соответствовала его посерьезневшему виду, потому что обладала флером безалаберной юности, а у Матвея теперь не было ни безалаберности, потому что она влекла за собой последствия, ни юности, потому что он вынужденно вступил в неизбежное для профессии взросление.
- Как же хорошо, что ты больше не живешь в пригороде. Мне было бы очень жаль не заехать к тебе по пути, - таинственно улыбнулся Асфар Юнусович.
- Что-то случилось? – нахмурился Матвей. – Что-то плохое?
- Зависит от того, с какого угла смотреть на произошедшее. Кому плохое, а кому хорошее.
Ответ Асфара Юнусовича ничего не прояснил. Матвей нахмурился еще сильнее и внимательно посмотрел на него, не меняя нервной позы. Пальцы продолжали мять ткань футболки, словно жили отдельной жизнью.
- Мы с тобой, Матюша, больше ни на кого не работаем, - медленно проговорил Асфар Юнусович, - утром Громов подписал приказ. С сегодняшнего дня ФСКН как организации официально не существует.
Матвей распахнул глаза с узкими зрачками и ошалело уставился на него, как на призрака. Деревянным движением осев на ближайший стул, он всмотрелся в Асфара Юнусовича еще пристальнее, не до конца веря его словам. Он пока не находил внятных эмоций, чтобы отреагировать на новость.
- У них больше нет полномочий, чтобы защищать нас, - вкрадчиво произнес Асфар Юнусович, немного подавшись вперед, - но и рычага давления у них теперь тоже нет. Некому нас курировать.
Матвей, который немного пришел в себя, открыл рот, намереваясь задать вопрос, но Асфар Юнусович раздраженно перебил его:
- По первому с самого обеда крутят «Лебединое озеро». Ни ток-шоу, ни новостей. Я сегодня проснулся – и опять оно на повторе. Доброе, так сказать, утро.
Матвей, не знающий о макабрическом подтексте «Лебединого озера», непонимающе вскинул брови. Традиция, пошедшая еще с советских времен, прочно связала воедино траур по главе государства и балет Чайковского, невольно ставший чем-то вроде пляски смерти. Матвею казалось, что взволнованный Асфар Юнусович несет околесицу, и искренне не понимал, какое отношение «Лебединое озеро» имеет к ликвидации ФСКН.
- Когда был августовский путч, его три дня по всем каналам показывали, - продолжил Асфар Юнусович, - я, конечно, этого не помню, мне было только четыре года, но я слышал это от матери.
- При чем тут вообще путч? – тихо спросил Матвей.
- Громов умер, - строго объяснил Асфар Юнусович, - сегодня в обед.
- Но как? – еле слышно пробормотал Матвей. Опасливо встав со стула, он принялся ходить из стороны в сторону. Наконец он остановился и снова впал в выжидающе-почтительное оцепенение. Асфар Юнусович усмехнулся:
- Апоплексический удар табакеркой. Откуда я знаю, Матюш? Говорят, что от старости, и это похоже на правду. Как-никак, ему было почти семьдесят. Но еще говорят, что наша верхушка пыталась на него давить и лезла не в свое дело. В частности, Петров. Так что возможна и табакерка.
Придавленный двумя новостями, стать живым свидетелем которых он совсем не надеялся, побледневший Матвей теперь смотрел даже не на Асфара Юнусовича, а сквозь него, переваривая услышанное и делая выводы – несколько заторможенные, но верные.
- Улетай как можно скорее, Матюша, - посоветовал Асфар Юнусович, - забудь про Россию, и она забудет про тебя. Впрочем, возможно, до тебя ей совсем не будет дела…
- Может быть, я не хочу улетать навсегда, - произнес Матвей, опустив поникший взгляд.
- А жареных гвоздей не хочешь? – спросил Асфар Юнусович, покровительственно усмехнувшись. Матвей решил не узнавать значение непонятной идиомы - наверняка её смысл был весьма тяжелым, конкретным и имел отношение к смерти.
- Не бойся, не навсегда. Думаю, лет через десять всё окончательно уляжется. Главное, чтобы ты следил за новостями и был в курсе происходящего.
Матвею не нужно было разъяснять щекотливые детали. Он прекрасно понимал, что свято место пусто не бывает. Слишком высока была вероятность того, что за ликвидацией ФСКН и неожиданной смертью Громова последует очередной передел рынка, и в грядущем хаосе непременно примут участие этнические диаспоры, которые занимались героином до становления невского синдиката. Не стоило забывать и о простых людях, которые знали Матвея в лицо, были в курсе его деятельности и не очень-то его любили. Вряд ли они отнесутся к нему благосклонно, когда узнают, что его больше некому защищать. Оставаться в Петербурге было опасно в любом случае.
- Почему вы ко мне зашли, Асфар Юнусович? – спросил вдруг Матвей. – Вы ведь тоже сбегаете. Можно было просто написать мне.
Он лишь грустно улыбнулся в ответ. Матвея напугала эта внезапная, несвойственная ему грусть. Асфар Юнусович никогда таким не был – во всяком случае, в присутствии подчиненных. Медленно встав с кресла, он по-отечески обнял Матвея и похлопал его по спине. Матвей непонимающе покосился на него. И новости, и резкая перемена Асфара Юнусовича озадачили его в равной степени.
- Представь, что этих трех лет не было, - деловито сказал тот, отступив назад, - нам выпал редкий шанс, о котором мечтали многие. Воспользуйся им.
Вернувшись в привычное состояние духа, Асфар Юнусович вышел в парадную и закрыл за собой дверь. Его старомодный плащ напоследок мелькнул на фоне блекло-голубой стены с бородатым атлантом и исчез вместе с утихающим стуком шагов.
Минуты две Матвей стоял на месте и напряженно вслушивался в тишину. Асфар Юнусович ушел с такой торопливостью, что у него даже возникли сомнения в его реальности. Однако разговор действительно имел место быть, а Асфар Юнусович, одетый слишком легко для петербургской зимы, явно куда-то спешил. Впрочем, тяжело было после таких новостей никуда не спешить, и Матвей решил незамедлительно последовать его примеру.
Уложив вещи в чемодан и дорожную сумку, Матвей накинул приталенную куртку из синей кожи, которая совсем не годилась для крещенских морозов, зато как нельзя лучше подходила для прохладного климата Боготы. Зимняя одежда осталась висеть в шкафу – на усмотрение владельца квартиры, которого Матвей, естественно, о своем бегстве оповещать не собирался.
Заперев за собой дверь, он кинул ключи в почтовый ящик и покатил чемодан к платной парковке. Спортивные туфли тонули в хрустящем снегу, свистящий ветер небрежно трепал светлые вихры. Чернеющий морозный воздух, пропахший волнующей свежестью, мерцал текучими огнями вывесок и мягкими всполохами фонарей.
Никто не обратил на Матвея внимания, а охранник тактично воздержался от вопросов, наличие которых выдал его удивленный взгляд. Загрузив чемодан в багажник, Матвей кинул дорожную сумку на заднее сиденье, сел за руль и проложил маршрут. Конечной точкой маршрута была Нарва, расположенная по ту сторону российско-эстонской границы.
За тонированными окнами завывал ветер, пробегающий по пушистым сугробам невесомой поземкой. Неумолимо сгущалась ночная тьма, одни светофоры сменялись другими, перекрестки перетекали друг в друга, а купеческая застройка уступали место типовой панельной. Поручив дорогу автопилоту, Матвей сначала забронировал билет на паром в Финляндию, отходящий завтрашним вечером, потом купил билет на рейс до Барселоны, берущий свое начало в Пулково, и лишь в самом конце приобрел билет на ближайший самолет, вылетающий в Боготу из нарвского аэропорта.
«Пусть ищут где угодно: у паромов, в Пулково… - мелькнула в голове Матвея злорадная мысль, когда он облегченно откинулся на спинку сиденья. – Буду жить в Канделарии, пить кокаиновый чай и есть кексы со шмалью. И ни о чем не буду волноваться».
План был прост: бросить машину на парковке, улететь в Боготу, отдаленно напоминающую Петербург, и осесть в тихом месте, условном кантоне Ури. Ничего не было – всего лишь сон, гриппозный кошмар, исчезнувший в один краткий момент. Имея шесть миллионов долларов, можно было комфортно прожить остаток жизни, просыпаясь без будильника и ни дня не работая, а можно было поступить мудрее – выгодно вложить часть суммы, став частным инвестором, и приумножить капитал. Чтобы заработать эту сумму, обычному россиянину с зарплатой в тридцать тысяч ежемесячно, пришлось бы работать тринадцать тысяч лет, не отвлекаясь на отпуски и бытовые траты. Впрочем, ни у одного обычного россиянина не было в распоряжении тринадцати тысяч лет. Матвей улыбнулся, как игрок, сделавший удачную ставку. Награда за три года, прожитых в непреходящем напряжении и статусе парии, оказалась более чем достойной. Ради такого итога стоило шнырять по Офтони, пряча в укромных местах закладки, стоило разносить еду хмурым посетителям, подавленным жизнью, стоило играть на баяне песни «Лесоповала», «Вороваек» и Михаила Круга за скудные рубли. И стоило, конечно же, работать под началом Асфара Юнусовича, хоть эта затянувшаяся работа и была сопряжена с риском – как и для его судьбы, так и для чужих.
[Покачивая бедрами, Соня проскользнула по темному коридору коммуналки, погруженной в синеватую тьму. Длинная клетчатая рубашка доходила почти до колен, а с оранжевой футболки приветливо глядел мультяшный щенок, окруженный ромашками и китайскими иероглифами. Остановившись возле грубой двери, за которой ютился Матвей, Соня осторожно постучалась – тихо и аккуратно, костяшками пальцев. Никакой реакции не последовало, но Соня ни капли не удивилась.
Конечно, вечером она уже пыталась купить у него мефедрон, а он ей грубо отказал – пожалуй, даже слишком грубо, однако Соня знала его характер и понимала, что отходчивый Матвей не сможет так долго злиться. Возможно, для порядка он поворчит, но всё же отоварит её, раз уж в полиции ему всё вернули. К тому же, не в стиле Матвея было отказываться от возможности подзаработать, не выходя из комнаты. В этом отношении Матвей походил на многих своих коллег – всех их объединяла деловитая алчность.
Осторожные, постукивания Сони по-прежнему оставались без ответа. То ли новоиспеченный драгдилер просто не желал открывать, потому что был в подавленном настроении, то ли не отзывался намеренно, чтобы заставить Соню понервничать, то ли вовсе крепко спал. Последнее было очень даже вероятно – день у него выдался слишком насыщенный. Занеся кулак для очередной попытки, Соня замерла, не донеся его до двери. Она вспомнила, что несколько часов назад мельком слышала сквозь бархатную музыку грохот мебели и дребезжание посуды. Она нахмурилась и постучала громче, уже не боясь разбудить соседей, которые с наступлением ночи разошлись по комнатам. Ответом на стук была прежняя нехорошая тишина.
- Матвей! Ты там, Матвей? – встревоженно закричала она, стуча уже кулаком. – Если не хочешь открывать, хотя бы отзовись!
Скрипнула дальняя дверь, которая располагалась возле кухни, и в сумрак длинного коридора выглянул сонный Женя. Темные волосы с одного бока были примяты подушкой, а на равнодушном щетинистом лице, которое выступало из сумрака белой кляксой, лениво шевелились веки.
- Чего орешь? – недовольно спросил он у Сони. – Люди спят.
- Женя, он не открывает, - боязливо ответила она.
- Ну а мы тут при чем? – буркнул Женя. – Это твой барыга, а не наш. Сами разбирайтесь.
- Не тупи, Женя! Ты же помнишь, в каком он был состоянии. Надо выбить дверь!
Женя, который уже намеревался отказаться от участия в таком сомнительном предприятии, припомнил мрачное равнодушие Матвея, которое сопровождало его весь прошедший вечер. На всякий случай заявив, что если Матвей останется недоволен выбитой дверью, то все расходы лягут исключительно на Соню, он принялся за дело.
Выдержав три удара плечом, дверь звякнула хлипким замком и поддалась. Погруженная в полумрак желтая комната казалась грязной и чуть отдавала вяжущим запахом сырости, а за окном ползли по ночному небу свинцовые тучи. Матвей Грязев висел в нише под трубой отопления. Голова неестественно клонилась к плечу, словно перетянутая петлей шея в момент смерти стала резиновой. На припухшем лице черной проталиной обрисовывался приоткрытый рот, а ноги в полосатых носках покачивались над бардаком обыска, опрокинутым комодом и осколками разбившейся посуды.
Матвей Грязев спрыгнул со слишком низкой высоты и шейные позвонки не сломал, чем обрек себя на медленное удушье. На шее темнели свежие царапины, покрытые присохшей коркой – следы его последних безнадежных попыток запустить пальцы под тугую намыленную петлю.]
По обе стороны автодороги, ведущей прямиком в Нарву, монументальными стенами возвышался темный массив ельника, поседевшего от выпавшего снега, а над пушистыми сугробами, которые градиентно сливались с коричневой слякотью дорожной грязи, порывисто метался ветер. Матвей ворошил старые воспоминания, от которых с каждой секундой уезжал всё дальше и дальше. Он думал про Ладу, с которой они когда-то давно, слишком давно – даже не по срокам, а по количеству накопленного опыта – гуляли в Летнем саду возле озера, по зеленоватой глади которого важно плавали белые лебеди. Он воскрешал в памяти Горбовского, с которым они как-то раз торопливо пересекали площадь перед величественным, прекрасным Зимним дворцом, добираясь до нужных координат.
Ему вспоминалась усмехающаяся Ася, которая нежилась на сочно-зеленой траве, пока далекое озеро за её спиной сверкало солнечным золотом, а вдоль его берегов бродили шелковистые от света жилистые лошади. С живой отчетливостью представлялся Гриша, который хищнически-жадно сдирал с шампура жирный шашлык, сидя в плетеном кресле на арендованной даче, а в отдалении паслись возле озера пятнистые, как лоскутные одеяла, равнодушные коровы.
Выбирался из глубин памяти расслабленный Куртов, пьющий пиво в сумрачной зелени Екатерингофского парка и резких отсветах праздничных фейерверков. Вслед за ним вставал во весь рост сконфуженный Сеня, понуро семенящий прочь от синего «порше» в сторону Спаса-на-Крови, купола которого горели в сиянии лета слепящей позолотой и пестрой эмалью.
Вырастал перед мысленным взором слякотный пустырь на окраине Петербурга, в вязком тумане которого беспомощно ползал по глубоким рытвинам избитый Матвеем закладчик, запустивший свою руку не туда, куда следовало. Обрастали деталями загородная равнина – голая, пустынная, безлюдная – и провинившийся дилер, в мертвых глазах которого отражались земля, испещренная рытвинами, сухие пни прежнего леса и поваленные деревья.
Стряхнув с себя непрошеные мысли, Матвей включил радио, чтобы разогнать тишину, и попал на Первую станцию, отличающуюся особенно высокой концентрацией госповестки. Вместо вечернего выпуска новостей, который выходил каждый день в одно и то же время, надрывно тянулась мелодия «Лебединого озера». Сглотнув, Матвей припомнил еще несколько радиостанций, служащих правящему режиму, и стал переключаться с одной на другую. На каждой станции играла одна и та же тоскливая мелодия.
По спине Матвея вкрадчиво побежали мурашки жути, и он переключился на исключительно музыкальную станцию со старой беззаботной поп-музыкой, которой было попросту ни к чему маскировать историческую неопределенность и нарастающий беспорядок балетом Чайковского.
Матвей понял, что ближайшие пять лет действительно лучше провести вне России. Идеологический коллапс, вызванный сомнительной смертью Громова, не мог закончиться утешительно, а итог был кристально ясен: очередные танковые залпы по Белому дому, скоропалительный переворот, которым в Третьем Риме обычно заканчивается старая диктатура и начинается новая, продовольственный кризис, а после на обломках самовластья расцветут стабильные распилы и поборы. Наверное, по старой доброй традиции кого-нибудь повесят на фонарях, а Кремль действительно станет немного красным. Матвею хотелось пережить этот переходный период отнюдь не здесь.
[Родя вовремя заметил, что взгляд испуганной Сони скользнул ему за спину, и резко обернулся. Краем сознания он отметил вскочившего на ноги Герыча, который держал в руке неизвестно откуда взявшийся нож, и машинально выстрелил, даже не осознав этого действия. Герыч пошатнулся, будто его толкнула невидимая рука, и неуклюже повалился на бок. Родя окостенел.
Стремительно слабеющий Герыч из последних сил шевелился, а на белой рубашке в области сердца распускался алым пневмоторакс, из которого текла мелко пузырящаяся кровь. Хрипло вздыхая, Герыч изменившимся взглядом смотрел перед собой. Сдержанность цивилизованного homo sapiens сменилась глубинным страхом смерти. Перед Родей лежал живой умирающий человек, жалобно хрипящий и истекающий кровавой пеной. Родя понял, что прежняя личность Герыча, которую он считал достаточно звериной, чтобы не жалеть его, как раз и была человеческим наполнением, и теперь ему на смену пришел смутный инстинкт животного, почуявшего близкую смерть и желающего умереть подальше от чужих глаз.
Агонизирующий Герыч был последним, что видел Родя Романов, испуганный первым в своей жизни трупом. Когда его ударили бутылкой по затылку, он перестал что-либо осознавать.
Труп Матвея нашли на следующий день. Не сумев до него дозвониться, Гриша связался с Вероникой Реми-Мартен. Когда они вошли в квартиру, то обнаружили мертвого Матвея с простреленной грудью, несколько окровавленных купюр, присохших к полу и открытый сейф с килограммовыми пакетами героина. Рядом с Матвеем лежал труп его соседа, безработного маргинала Роди Романова, у которого было перерезано горло. Вокруг его головы мелкой россыпью блестели бутылочные осколки, а на паркете виднелись липкие лужицы засохшего алкоголя.
Вскрытие, которому подвергли труп Матвея, обнаружило ожоги от паяльника и установило причину смерти – пневмоторакс левого легкого, вызванный огнестрельным ранением.
Спустя неделю состоялась гражданская панихида, организованная и оплаченная ФСКН. В центре траурного зала стоял лакированный черный гроб, в багровом атласе которого покоился, сложив руки на животе, труп Матвея, аккуратно причесанный и одетый в черную двойку с галстуком. Разлагающемуся Матвею придали приличный вид: из-за неестественного мертвецкого грима он выглядел даже румянее, чем при жизни, и оттого не совсем напоминал себя. На левом запястье его руки бликовали под мягким светом часы «Hublot», успешно пережившие еще одного владельца.
В траурном зале теснились хмурые менты и не менее хмурые бандиты. Особенно мрачен был Куртов – именно он должен был занять место Матвея. Особняком сидели Асфар Юнусович и Гриша, а возле гроба то и дело возникали серьезный Миша и расстроенный Сеня.
Панихида стала формальным поводом собраться и решить назревшие вопросы. В финале поминальной речи Асфар Юнусович зловеще заявил, что виновные понесут «соответствующее наказание», явно имея в виду не только Софью Семенову, сбежавшую в Финляндию, но и тех, кого можно было, воспользовавшись моментом, выставить виновными. Хотя Асфар Юнусович был опечален, хватку он не растерял.
Не совершая никаких религиозных обрядов и не привлекая священнослужителей, после панихиды гроб погрузили в катафалк и повезли на Новопетергофское кладбище. Засыпав гроб землей, установили деревянный крест и завалили его пышными венками с пестрыми бутонами искусственных цветов и черными лентами. Асфар Юнусович наблюдал за процессом с холодным спокойствием и ничего не говорил.
В июле деревянный крест заменили габбровым надгробием с цветной фотографией Матвея, на которой он был таким же угрюмым, как и до смерти, скромными годами жизни – 2011-2032 – и эпитафией, которую выбрал Асфар Юнусович:
Нет никакого «завтра», есть только вечное «сейчас».]
Предъявив документы сначала на российской таможне, а потом на эстонской, Матвей без проблем прошел контроль. Отъехав от границы, он свернул на обочину, остановился и вышел на воздух. Над Матвеем простиралась вязкая ночь. В полумраке сугробы, серебрящиеся под светом узкого месяца, сливались с голым березняком, сплоченные ряды которого уходили в неизведанные эстонские пустоты. Закурив, Матвей затянулся, запрокинул голову и посмотрел на темное небо, искрящееся крапинками звезд.
- Так-то, - прошептал он, блаженно улыбаясь и вглядываясь в звездное небо над его головой, - выкуси!
В дальнейший путь Матвей отправился с такой же блаженной улыбкой. Снопы фар выхватывали из темноты ровный асфальт автодороги, заснеженные обочины и далекий березняк, заслоняемый поднявшейся вьюгой. Справа мелькнула табличка с названием городка, через который Матвею предстояло проехать – Naraka. Матвей издал тихий смешок. Нарва была совсем близко.
На далекий горизонт наваливались кромешная тьма и невыносимый холод, воющий ветер, напоминающий жалобный плач, метался из стороны в сторону, с силой подбрасывая снежные крупицы. За окнами показался строящийся городок. Земля городка была покрыта мраком, сквозь который проступали невысокие дома – то темно-серые, практически черные, то грязно-белые. Между домами виднелись темные, кажущиеся бездонными ямы и матово-черные каменистые тропы. В салоне машины приглушенно играло радио.
…Стоит только захотеть, можно и звезды,
Стоит только захотеть – с неба собрать.
Словарь сленговых слов
Абстяга - абстинентный синдром, ломка
Амфетамин, амф, спиды - наркотический стимулятор
Ангидрид - уксусный ангидрид, один из компонентов, необходимых для создания героина
Барбитура - любые аптечные наркотики
Баян - шприц
Блядь - преступник, отвергающий воровские понятия
Бодяжить - разбавлять наркотик посторонним, более дешевым веществом с целью дальнейшей продажи и обмана покупателя
Болты - расширенные зрачки
Бутор - посторонние примеси в наркотике, добавленные продавцом в корыстных целях
Варщик - наркоман, способный изготавливать наркотики
Веса - расфасованные дозы наркотиков
Вкидывать - выдавать
Вмазываться, ставиться, ширяться - принимать наркотик внутривенно
Вмазка, ширка - прием наркотика внутривенно
Водник - самодельный прибор из пластиковыз бутылок, предназначенный для курения марихуаны
Вторяки - кусочки ваты, которые остаются после инъекций и из которых можно выварить еще немного раствора
Гашиш - спрессованная смола конопли, похожая на пластилин.
Гроубокс - оборудование для выращивания марихуаны с надлежащими вентиляцией и освещением
Догоняться - принимать дополнительную дозу наркотика, потому что первая подействовала слабо или не подействовала вообще
Дуть - курить марихуану
Ешки - таблетки экстази
Ждуля - женщина, влюбленная в зэка: либо любившая его до заключения, либо влюбившаяся в процессе переписки
Задуть - неправильно сделать инъекцию, впрыснув раствор не в вену, а в мышцу
Закладка, клад - наркотик, спрятанный для покупателя в оговоренном месте.
Закладчик - наемный работник, делающий закладки
Зиплок - полиэтиленовая упаковка с пластиковой молнией
Ипомея - ядовитый садовый вьюнок
Карфентанил - опиоидное обезболивающее, один из сильнейших опиоидов, который в разы мощнее героина
Колеса - таблетки экстази
Колпак - сигаретный фильтр с выемкой
Контроль - кровь в шприце, появляющаяся после проверки: попал ли шприц в вену или нет
Красный - работающий на правоохранительные органы или вообще имеющий к ним отношение
Крокодил - дезоморфин, кустарный наркотик, вызывающий сильную зависимость и провоцирующий возникновение некроза, язв и гангрены.
Куб - один миллилитр раствора для внутривенного введения
Кухня - набор для приготовления раствора, который вводится внутривенно
Кумары - опиатная ломка
Лесенка - метод, когда наркоман бросает не резко, а постепенно снижая дозировку или последовательно меняя тяжелые наркотики на более легкие.
Марафонить - принимать стимулирующие наркотики несколько суток подряд
Мефедрон, меф - наркотический стимулятор, производное меткатинона/мульки
Мидриаз - расширение зрачков
Миоз - сужение зрачков
Мулечник - наркоман, употребляющий мульку, кустарный стимулятор на основе эфедрина, и ее химические производные
Нахлобучка - состояние предвкушения, возникающее незадолго до приема стимуляторов: непроизвольно трясутся руки, человек стучит зубами, могут возникнуть позывы к тошноте
Ненаход - тот случай, когда наркоман не находит закладку
Нистагм - частое неконтролируемое подрагивание зрачков
Ноги - курьер-посредник между барыгой и покупателем
Опрокинуть - ограбить
Отходняк, отхода - состояние похмелья, наступающее после спада опьянения
Отъехать - умереть от передозировки
Плюха - очень маленький приплющенный шарик гашиша, обычно разовая порция
Политзэк - политический заключенный
Пресс-хата - тюремная камера, куда помещают обвиняемого, чтобы сидящие в ней уголовники по приказу администрации над ним издевались, вынуждая дать нужные показания
Прилипнуть - получить срок
Приняли (принимать, принималово) - арестовали (арестовывать, арест)
Принять на кишку - принять лекарство/вещество перорально
Присыпающий - человек, норовящий заснуть, обычно под воздействием опиатов
Приход - первая и наиболее интенсивная фаза действия наркотика
Ремиссия - период, в который бросивший наркоман ничего не употребляет
Рехаб - реабилитационный центр для лечения от наркозависимости
Рецептура - все наркотические аптечные препараты, которые продаются по рецепту
Синтетика - собирательное название для дизайнерских наркотиков десятых годов
Система - длительный период постоянного приема наркотиков
Скорость - синтетический наркотик-стимулятор
Ссучиться - начать сотрудничать с внутренними органами, будучи преступником
Стафф - любой наркотик
Сука - преступник, согласившийся сотрудничать с органами и предавший подельников
Сушить зубы - улыбаться по поводу и без
Толер - невосприимчивость к прежней дозировке наркотика
Тропикамид - капли для глаз, применяемые некоторыми наркозависимыми не по назначению
Тряхануло - слабость и температура, вызванные или неправильной инъекцией, сделанной в мышцу, а не в вену, или грязью в растворе
Ускоренный - находящийся под действием стимуляторов
Фурик - стеклянная аптечная тара малого размера
Ханка - опий-сырец, сок маковых головок, загустевший до состояния смолы
Хапка - одна затяжка при курении марихуаны и подобных веществ
Ходить под мусорами - быть на службе у правоохранительных органов
Центряк - центральная вена на локтевом сгибе
Экстази - кустарно изготовленные таблетки со стимулирующим эффектом, которые представляют собой смесь МДМА, амфетамина и неизвестного чего-нибудь, по желанию изготовителя
Эфедрин - лекарственное средство со стимулирующим действием
Амфетамин, амф, спиды - наркотический стимулятор
Ангидрид - уксусный ангидрид, один из компонентов, необходимых для создания героина
Барбитура - любые аптечные наркотики
Баян - шприц
Блядь - преступник, отвергающий воровские понятия
Бодяжить - разбавлять наркотик посторонним, более дешевым веществом с целью дальнейшей продажи и обмана покупателя
Болты - расширенные зрачки
Бутор - посторонние примеси в наркотике, добавленные продавцом в корыстных целях
Варщик - наркоман, способный изготавливать наркотики
Веса - расфасованные дозы наркотиков
Вкидывать - выдавать
Вмазываться, ставиться, ширяться - принимать наркотик внутривенно
Вмазка, ширка - прием наркотика внутривенно
Водник - самодельный прибор из пластиковыз бутылок, предназначенный для курения марихуаны
Вторяки - кусочки ваты, которые остаются после инъекций и из которых можно выварить еще немного раствора
Гашиш - спрессованная смола конопли, похожая на пластилин.
Гроубокс - оборудование для выращивания марихуаны с надлежащими вентиляцией и освещением
Догоняться - принимать дополнительную дозу наркотика, потому что первая подействовала слабо или не подействовала вообще
Дуть - курить марихуану
Ешки - таблетки экстази
Ждуля - женщина, влюбленная в зэка: либо любившая его до заключения, либо влюбившаяся в процессе переписки
Задуть - неправильно сделать инъекцию, впрыснув раствор не в вену, а в мышцу
Закладка, клад - наркотик, спрятанный для покупателя в оговоренном месте.
Закладчик - наемный работник, делающий закладки
Зиплок - полиэтиленовая упаковка с пластиковой молнией
Ипомея - ядовитый садовый вьюнок
Карфентанил - опиоидное обезболивающее, один из сильнейших опиоидов, который в разы мощнее героина
Колеса - таблетки экстази
Колпак - сигаретный фильтр с выемкой
Контроль - кровь в шприце, появляющаяся после проверки: попал ли шприц в вену или нет
Красный - работающий на правоохранительные органы или вообще имеющий к ним отношение
Крокодил - дезоморфин, кустарный наркотик, вызывающий сильную зависимость и провоцирующий возникновение некроза, язв и гангрены.
Куб - один миллилитр раствора для внутривенного введения
Кухня - набор для приготовления раствора, который вводится внутривенно
Кумары - опиатная ломка
Лесенка - метод, когда наркоман бросает не резко, а постепенно снижая дозировку или последовательно меняя тяжелые наркотики на более легкие.
Марафонить - принимать стимулирующие наркотики несколько суток подряд
Мефедрон, меф - наркотический стимулятор, производное меткатинона/мульки
Мидриаз - расширение зрачков
Миоз - сужение зрачков
Мулечник - наркоман, употребляющий мульку, кустарный стимулятор на основе эфедрина, и ее химические производные
Нахлобучка - состояние предвкушения, возникающее незадолго до приема стимуляторов: непроизвольно трясутся руки, человек стучит зубами, могут возникнуть позывы к тошноте
Ненаход - тот случай, когда наркоман не находит закладку
Нистагм - частое неконтролируемое подрагивание зрачков
Ноги - курьер-посредник между барыгой и покупателем
Опрокинуть - ограбить
Отходняк, отхода - состояние похмелья, наступающее после спада опьянения
Отъехать - умереть от передозировки
Плюха - очень маленький приплющенный шарик гашиша, обычно разовая порция
Политзэк - политический заключенный
Пресс-хата - тюремная камера, куда помещают обвиняемого, чтобы сидящие в ней уголовники по приказу администрации над ним издевались, вынуждая дать нужные показания
Прилипнуть - получить срок
Приняли (принимать, принималово) - арестовали (арестовывать, арест)
Принять на кишку - принять лекарство/вещество перорально
Присыпающий - человек, норовящий заснуть, обычно под воздействием опиатов
Приход - первая и наиболее интенсивная фаза действия наркотика
Ремиссия - период, в который бросивший наркоман ничего не употребляет
Рехаб - реабилитационный центр для лечения от наркозависимости
Рецептура - все наркотические аптечные препараты, которые продаются по рецепту
Синтетика - собирательное название для дизайнерских наркотиков десятых годов
Система - длительный период постоянного приема наркотиков
Скорость - синтетический наркотик-стимулятор
Ссучиться - начать сотрудничать с внутренними органами, будучи преступником
Стафф - любой наркотик
Сука - преступник, согласившийся сотрудничать с органами и предавший подельников
Сушить зубы - улыбаться по поводу и без
Толер - невосприимчивость к прежней дозировке наркотика
Тропикамид - капли для глаз, применяемые некоторыми наркозависимыми не по назначению
Тряхануло - слабость и температура, вызванные или неправильной инъекцией, сделанной в мышцу, а не в вену, или грязью в растворе
Ускоренный - находящийся под действием стимуляторов
Фурик - стеклянная аптечная тара малого размера
Ханка - опий-сырец, сок маковых головок, загустевший до состояния смолы
Хапка - одна затяжка при курении марихуаны и подобных веществ
Ходить под мусорами - быть на службе у правоохранительных органов
Центряк - центральная вена на локтевом сгибе
Экстази - кустарно изготовленные таблетки со стимулирующим эффектом, которые представляют собой смесь МДМА, амфетамина и неизвестного чего-нибудь, по желанию изготовителя
Эфедрин - лекарственное средство со стимулирующим действием
